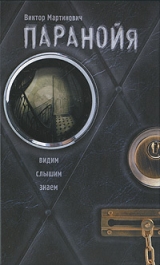
Текст книги "Паранойя"
Автор книги: Виктор Мартинович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Сложно сказать, когда он точно понял, что она ждет его за тем самым столиком во вчерашнем кафе. Наверное, еще дома, когда растрепанный профессор в пуловере и очках был существительными, прилагательными, глаголами, – она и разрушила словесную стройность, сделавшись ясней тех слов, которые выходили из-под его рук, так что где-то между метаниями профессора появилась не относившаяся к сюжету фраза «понял, выхожу», которую он поспешно стер, после чего и начал собираться, решив закончить в следующий раз тремя-четырьмя предложениями, четкими и емкими. Ее лицо водяным знаком, сертификатом подлинности его ощущений проступило за гигантским окном кафе – она не посмотрела на него, продолжая помешивать свой кофе, и он подумал, что вот у Алессандро ди Мариано Филипепи есть похожее лицо – правое на диптихе «Благовещение» (альбом «Pushkin Museum of fine arts», шкаф в прихожей, вторая полка, справа). Пока его рука тянула на себя дверь в кафе, пока он кивал дернувшемуся навстречу официанту, пока качал головой, отказываясь от предложения сесть вот за тот столик – прекрасный вид, мягкий кожаный диван, – пока он делал эти бесконечные шаги к ней, он выдумал массу способов заговорить.
Он мог бы шутить, он мог бы рассказать ей об оттепелесидах и небесной лазури в деревьях, он мог упомянуть о художнике со смешной фамилией Филипепи, который немного неточно изобразил ее лицо, – в профиль похоже, но вот так, в три четверти, не сходится, надо к чертям снимать со стен Пушкинского музея и выбрасывать на свалку его «Благовещение».
Он мог бы, в конце концов, написать небольшое шутливое стихотворение за те часы, пока длились эти его шаги, что-нибудь про «латте макиато – ложкою помято, сахара крупинки на столе блестят, и вот сел я рядом, весь, блин, незнакомый, но ведь кресла эти и двоих вместят», и все это было бы ловко, как зайца за уши из шляпы, да с двойным сальто – ловко и красиво, и он – он весь сиял изнутри, любая глупость сейчас была бы сказана нужным образом, была бы принята именно так, как надо, но всего этого он делать не стал, не стал. Вместо этого – внимание! – он сел рядом с ней, не напротив, как сидят на свиданиях, плавно переходящих в торопливое одевание, – не напротив, а рядом, сел так, как только и мог сесть, не быстро и не медленно, сел и спросил той единственной интонацией, спросил, слегка склонившись и уже не разглядывая ее, – он уже знал ее наизусть, каждую черточку лица, он спросил у нее:
– Долго ждала?
И она – усмехнувшись латте макиато, которое действительно было изрядно помято ложкой, но еще не отпито, еще только-только размешано:
– Всю жизнь.
Они много говорили, находя в друг друге, что да – голос именно такой, и шутить – можно шутить, а можно и не шутить, и так все понятно; или вот один принимался шутить, а другой заканчивал шутку, и вместе смеялись, потому что выдумывали одновременно. Он написал ей обширный автограф на салфетке, используя черенок ложки вместо ручки и макиато – вместо чернил, в автографе этом было все – и длинный список пожеланий, и напутствия, и даже, кажется, завещание («мою престарелую фрау прошу разобрать на запчасти, а запчасти развеять с крыши Национальной библиотеки, да смотреть при этом, чтобы никого не убило»), и снабженная вензелями подпись; а она – дала автограф ему, и он очень торжественно положил его в брюки, выпачкав их безбожно.
Весна улыбалась им сквозь огромные окна, они принялись играть в футбол скрученным в мячик пакетиком из-под сахара, и ее ворота, обозначенные бокалом и блюдцем, были чересчур малы, а его, сделанные из ложки и обрывка салфетки, – огромны, но его человечек, сделанный из указательного и среднего пальцев, постоянно обходил ее человечка, и счет был 6: 0 в пользу Анатолия, когда игровое поле было кощунственно разрушено аккуратным официантом. Он заказал себе зеленый чай, а на его губах был почему-то ее макиато, и еще они постоянно смеялись, но чаще всего – только глазами, только глазами. Хлопнувшая дверь кафе дохнула на них такой невозможной весной, что они сами подивились тому, почему они еще здесь, еще – в помещении; они бросились за этой весной с каким-то животным, нет – птичьим, еще менее рациональным, рвением, как будто они были грачи, и они прилетели, – и уселись на одной ветке, и больше никуда друг от друга не улетят. Да, еще уходя, Анатолий попытался рассчитаться с официантом за их общий чайлаттемакиато, но официант отшатнулся от предложенных денег, и хозяин кафе, все это время ведший шахматную партию с кем-то, сидевшим к залу спиной, – хозяин, походивший лицом на ладью, вскочил и суетливо, испуганно махнул рукой – мол, какие деньги с таких людей! И это было странно, странно. И вспомнилась ее машина, и номер, оканчивавшийся на «КЕ», и слово «МГБ» промелькнуло где-то совсем рядом, – но все это было как будто совсем не про них. Как будто на скоростной трассе мелькнул билборд, рекламирующий газовые плиты «Гефест», и бледный цветок огня на выцветающей картинке заставил задуматься о том, а выключил ли он газ под чайником, но нет – кажется, выключил, а может, и нет. Это эхо: «КЕ» – «МГБ», «КЕ» – «МГБ» еще некоторое время пульсировало в голове, но затухало, затухало, пока не разбилось о небесную лазурь, и она уже махала рукой, показывая, как быстро по ней несутся облака. Wind of changes, – сказала она.
Она взяла его под руку, и они оглохли от этого прикосновения – вполладони, всего каких-нибудь тысяча шестьсот квадратных миллиметров, но из нее в него как будто стало что-то переливаться – ее ладонь была раскаленной и – до такой степени ладонью, до такой… Настолько девичьей ладонью, ладонью с пометкой «она», что делало это прикосновение символом всех прикосновений на земле. Да, добавил бы он здесь, если бы в букваре была, помимо букв «а», «б», «в», еще какая-нибудь буква «счастье», ее нужно было бы проиллюстрировать вот этим прикосновением. Некоторое время они слушали свои собственные шаги – это ее прикосновение сделало их сложным агрегатом, шагающим, ступающим, поднимающимся и опускающимся в такт, и впервые его шаги, ее шаги – приобрели смысл. Все еще только намечалось, он, захлебываясь, рассказывал по ее требованию свою биографию, отмечая про себя, что она ничего – ни слова! – о нем не слышала, и он думал, что это прекрасно, ибо, даже если бы она думала о том, что знает, кто такой Анатолий Невинский, он бы показал ей такого себя, который немедленно убедил ее в том, что – нет, не знакома! Он и сам-то себя таким не знает!
Они проходили мимо резиденции президента, и он пошутил, что президент в государстве, управляемом министром госбезопасности, – такой же атавизм, как Конституционный суд, входящий в структуру МГБ, и она, до того хохотавшая над обстоятельствами его рождения за полярным кругом, которые он едва успевал выдумывать, внезапно смеяться перестала. И вновь автомобильной сиреной, несущейся на пределе тонированной машиной, промелькнуло рядом слово «МГБ», и сбилось на секунду дыхание, и их четырехрукий, четырехногий агрегат пошатнулся и некоторое время топал не в такт, и он понял, что на тему МГБ он больше при ней шутить не будет. А она уже дергала за рукав и просила подробней рассказать о том, как из метеорита он стал белым медведем, и он, зажмурившись, выдавал все новые подробности, рассказывал о долгих полярных ночах в юрте, о том, как чукча Ягердышка, появившийся, кажется, из Липскерова, учил его пить водку, как обучил его грамоте и как они вместе читали «Я помню чудное мгновенье».
Улица превратилась в брусчатку – брусчатки так мало было в этом городе, как будто сделанном для муравьевского кортежа, в городе прямых проспектов с идеальным асфальтным покрытием, – но это он уже думал про себя, про себя. Брусчатка понесла их мимо танка с эректильно задранной пушкой, мимо дома офицеров, где они задались вопросом о том, какое любимое лакомство у белых медведей, у обычных – мед, а у белых? И ответили немедленно: конечно же – сгущенка! Потому что и медведи, и сгущенка – белые. А где медведи берут сгущенку? Да грабят полярные станции! Сгущенка как-то сразу их замолчала, они задумались о ней, проходя мимо длинного дома, как будто на четвереньках взбиравшегося на горку. Брусчатка вывела их прямиком в парк им. Горького, рядом с которым, предполагал Анатолий, обязательно должен быть парк сладкого, парк кислого и парк соленого, а она поправляла его, говоря, что парк, конечно, не горького и не Горького, а парк – «горько! – го», свадебный парк, здесь все друг другу кричат «горько!» и целуются, а они в этот момент были прямо на крохотном мостике, увлекавшем в глубины парка, под деревья, и – никого кругом.
Они держались за руки, стоя прямо друг напротив друга, и ощущение было такое, что он только что сделал ей предложение или она ему сделала предложение этим упоминанием «горько! – го», и вокруг уже кричали «горько!» деревья, вода под мостом, галки, галки это кричали очень отчетливо. И он медленно положил ладони ей на плечи, потом – на волосы, отводя их, как занавес, и – заглушая эти «горько!», затыкая их, едва касаясь, больше символически, чем страстно, – прямо в ее открывшиеся, потому что так вдруг захотелось дышать, губы… Это длилось всего секунду, но хватило для того, чтобы смертельно смутить обоих, они были необстреляны друг другом, как взвод дорожной милиции, выставленный разгонять митинг. Отшатнувшись от только что сделанного, они ступили на сцену парка, она даже выпустила его локоть из своей ладони, но быстро поправилась и вернула; и говорить сейчас было нельзя: получится хрипло, и что бы ни сказал, хоть «я – тебя —…», хоть про то, что вот рыба скоро пойдет на нерест, – получится убого и очень пошло. Нет, им следовало бы молчать, и сейчас, в эти первые секунды, казалось, что молчать теперь следует вечно, но вечность быстро прошла, и он, крякнув, откхекивая хриплоту, уже скорее показывал, чем говорил с ней о лазури, проглядывающей сквозь голые ветви наверху, и она смотрела туда, куда он показывал, а он смотрел на ветви и небо в ее глазах, и там, в глазах, все это было красивее. Ни один из них – ни на секунду – не подумал о том, что заговорили рано или чересчур поспешно, – все было вовремя, у них все было вовремя, и все всегда будет вовремя, просто сейчас нужно было поговорить. Он расспрашивал о ее жизни, она лишь отмахивалась, и он чувствовал, что лучше – не спрашивать: та самая, мчащаяся на пределе скорости черненая машина сообщала, что лучше молчать о жизни и о прошлом; они – из одной глыбы мрамора, они – друг для друга, но поняли это только сейчас, а значит – нужно о настоящем и о будущем; а в настоящем были утки из декоративной речушки, протекавшей через парк, и она заверещала «Ой, уточки, уточки!», и уточки тоже заверещали небось на своем «Ой, люди, люди!» и чуть не побежали им навстречу, но, увидев, что у двуногих нет вообще никакой еды, повернулись к их бескорыстной нежности прагматично подрагивающими хвостами. Она была убита, он гладил ее по волосам и обещал перестрелять их из рогатки, зажарить и наполовину съесть, а потом оживить и заставить попросить прощения, но она была безутешна и торжественно поклялась сделать утку символом предательства, измены и корыстолюбия: «Он бросил ее с двумя детьми, как утка!»
Люди, идущие навстречу, уже не шарахались, они, казалось, все знали про них и улыбались – глядя на них сейчас, невозможно было не улыбаться, – без всякой зависти, куда-то внутрь, в свои собственные воспоминания. Аллея, без всякой системы петлявшая по горькому парку, уводя их прочь от предательниц-уток, вынырнула к прогалине у речной пристани, где, на свою беду, кряхтел от старости уже неработающий, уже наполовину затопленный прогулочный теплоход. Его участь была предрешена. Захват состоялся в кратчайшие сроки и отличался тем небывалым цинизмом, с которым испанские торговые суда брались на абордаж французскими корсарами. Он подбежал к гранитному парапету, расходившемуся прямо напротив входа в теплоход. Провал в парапете был стыдливо закрыт веревочкой, но она, конечно, не могла остановить корсара. Анатолий снял веревочку с приютившего ее гвоздя и ступил на палубу, но она – она боялась, с ужасом смотрела на ледяные воды и говорила, что только утка могла так подло скрыться на корабле. И оказалось, неспроста боялась: когда он уговорами, клятвами и обещаниями все же заставил ее ступить (в ее случае – скорей, прыгнуть) на палубу, гвоздь, оставшийся без веревочки, оставил на ее плаще длинную рваную дыру, и Анатолий обещал зашить, а она впервые назвала его «медведем».
Внутри было темно и валялось такое количество использованных презервативов, что им снова стало неловко. Презервативы были похожи на выбросившихся на берег медуз, массовость же имела характер экологической катастрофы, но, подумав, он решил, что не будет шутить на эту тему, да и просто касаться глазами всего этого скрюченного, застывшего, высохшего было неловко, неловко. Стараясь не наступать на белесые медузьи трупики, они прошли через пассажирский салон, посреди которого кто-то совсем недавно, еще вот этой зимой, жег костер, заглянули за дверь, имевшую серьезный, морской вид – с заклепками, сработанную из тяжелого металла, с круглым, толстого стекла, окном. За дверью оказалась лестница вниз, на четвертой ступеньке обрывавшаяся водой. В этих ступенях, с наросшими водорослями, уходящими глубоко, глубоко – до полной потери видимости, было что-то настолько романтичное, что они замерли тут на мгновение, освещаемые отраженными всполохами с поверхности воды. Но Анатолий уже тащил ее дальше, подгоняемый инстинктом корсара, и она робко интересовалась из-за его плеча, что они ищут, и он, раскатисто рассмеявшись, сказал, что, конечно же – сокровища. Сокровища они нашли в комнатке, которой венчался пассажирский отсек. Здесь не было охристых деревянных панелей предыдущего зала, не было овальных, как будто обещавших скорость и брызги, окон. Здесь все было строго, однообразно, крашено в деловитый салатовый свет и утыкано давно устаревшими (и это можно было понять прежде всего по шрифту указанных на них обозначений) приборами. Зато – и на этот раз они охнули одновременно, едва завидев, – прямо посреди этой малюсенькой рубки, оставленной вандалами в покое, наверное – из-за сентиментальных детских переживаний, – так вот, прямо посреди рубки высился настоящий капитанский штурвал. Настоящий, такой, каким они оба его себе и представляли: из крашеного металла, с отполированными до блеска деревянными рукоятками. «Ох», – сказал Анатолий. «Оооо!» – сказала она, его дикарка.
И они поплыли. Мимо, степенно покачиваясь, проползали Дарданеллы, Пиренеи. «Подходим к Босфору», – лаконично сообщал он. «Полный вперед», – кричала она, и было непонятно, кто из них капитан, а похоже, что оба и были капитаном, он – левой его половинкой, она – правой. Рубка была приподнята над пассажирским салоном, прямо перед штурвалом открывалось не очень большое оконце, когда-то позволявшее следить за фарватером, но теперь уже ничего не позволявшее – помутневшее до непрозрачной белесости после десятка пережитых на приколе зим, но им и не нужен был фарватер, им не нужна была Свислочь, Анатолий уже просил посмотреть направо и оценить профиль великого сфинкса, из Нила они каким-то образом попали в Ганг, а оттуда – сразу в Миссисипи, и он пел ей песни черной Америки, а она отвечала ему цитатами из Марка Твена, он лихо крутил штурвал направо, и открывалась загадочная Амазонка – не в том ее доступном виде, в котором ее показывают по Discovery, но – та, о которой можно прочесть в растрепанных стареньких томах «Библиотеки приключений и фантастики». И она кричала ему: «Аккуратней, не раздави пеликана!» – а он отвечал ей: «Они из уткообразных. Они все из уткообразных!» – и – давил, и она жаловалась на него в ООН, а он плыл в Нью-Йорк, разбираться с уткообразными в ООН, но по пути сворачивал в Рейн, и предлагал насладиться видом на Кельнский собор, и описывал ей этот вид подробно, а она слушала, распахнув глаза навстречу его фантазиям. Они совершили свою кругосветку, установив абсолютный мировой рекорд для теплоходов речного класса, – около сорока минут. Они выходили из капитанской рубки, покачиваясь от усталости и соглашаясь с тем, что пережитое, конечно, стоило порванного плаща. Прыгнув обратно на тротуар, они обнялись – запросто, как челюскинцы, и так, спокойные, гордые, близкие, пошли прочь из парка.
Потребность во внешнем отпала – получив в свое распоряжение целый мир, они наигрались, но город продолжал подсовывать свои достопримечательности: памятник Горькому, обративший внимание Анатолия своим сходством со сфинксом, парфенон, оказавшийся всего лишь аркой на входе в парк, с серпами и молотами, намекавшими на ту Афину, в честь которой был возведен, эйфелева башня телевышки, торчавшая из-за домов, – все это они уже видели, все было уже не то. Они слушали «горько!» галок, но уже не смущались – слушали, как возлюбленные, решившие узаконить свои отношения через десять лет после знакомства, и не галкам было решать, когда им «горько!», а когда – нет.
Пройдя под первым мостом, под проспектом Независимости, они долго смотрели на воду, свесившись с гранитного ограждения, и тотчас же приплыли утки и не уплыли, увидев, что еды нет, и она реабилитировала уток, сказав, что не все утки – свиньи, есть среди них и лапки. В воде, еще не научившейся толком плыть, еще совсем недавно бывшей льдом, отражались далекий кафедральный собор и Дворец республики, и они тоже хотели в ней отразиться, но нужно было перегнуться через парапет чересчур сильно, и ноги Анатолия уже не касались земли, а лицо все не появлялось в водной глади, отчего он высказал предположение, что за время своей кругосветки они стали невидимками. Они прошли дальше, обгоняемые затянутыми в блестевшую на солнце спортивную одежду бегунами, и все бегуны были очень старые, но попадались среди них и относительно молодые, и оба решили, что бегуны, бегая, омолаживаются: чем больше кругов, тем моложе, а место это – волшебное, один круг – минус десять лет. Согласившись с тем, что теперь, когда они есть друг у друга, им нужно жить очень долго, они пробежали наперегонки двести метров до ближайшего перекрестка, и Анатолий безбожно обогнал, не дав форы девушке, медведина такая. Пройдя под огромными липами, сопровождавшими Свислочь на ее пути к Троицкому предместью, они в ходе неспешной беседы пришли к выводу, что на обычных бегунов это место действовало ступенчато, снимая по десять лет за круг, а на влюбленных бегунов – уравнивающе, и теперь им двоим по восемнадцать, а стало быть, не так уж и важно, сколько им было до пробежки. Анатолий попробовал настоять на том, что победивший в двухсотметровке должен получить какой-нибудь бонус, например – лишних полгода омоложения, но вместо бонуса получил довольно увесистый удар кулаком в печень и обещал пожаловаться в ООН на жестокое обращение с белыми медведями. А над ними уже раскинул крылья мост у Троицкого предместья, и был вечер, и оказалось, что они были вместе весь день, и далеко через реку зажглись огни многоэтажек, и фонари лунными дорожками пробегали по воде, и весь суетливый город куда-то делся – здесь, под мостом, не было никого, только грохотало сверху, но, когда стоишь так вот, касаясь друг друга, быстро забываешь, что грохочут – машины, кажется, что грохочут – небеса, причем грохочут какую-то мелодию, – они смотрели в этот город, как в мерцающие угли костра, и уже больше не говорили, а перешептывались – так оказалось даже громче, а главное – нужным тембром.
И стало холодно, и нужно было в тепло, и конечно же, они пошли домой – куда еще им было идти? Разве могли они теперь, после Пиренеев и сфинксов, после уток и пеликанов, после бегунов – разойтись в разные стороны? Они ведь теперь даже в реке вместе не отражались! А в лужах – в лужах отражались, и в этих отражениях ее голова лежала у него на плече, и волосы щекотали подбородок, ну как же им теперь было расходиться? Как же могли они расстаться, если отбрасывали по четыре тени в фонарном свете, если вон какая луна встала, если у нее плащ порван? Она вела его куда-то в сторону улицы Маркса&Спенсера, а он отмечал, как все изменилось за сутки, – вокруг было полно глаз, тех самых, глядящих в самую глубину глаз, – так смотрели на них парочки, так смотрели семьи с детьми, и только редкие одиночки, кутающиеся в шарфы и прячущие замерзшие руки поглубже в карманы, обдавали ледяными, пронзительными взглядами. И Анатолий понял, что вчера дело, конечно, было в нем самом – в нем самом, а не в окружающих. Он был таким же мятущимся одиночкой, требующим к себе любви, внимания, требующим видеть в себе человека, живое, думающее и страдающее существо, но – не заслуживающим этого, а сейчас ему этого всего уже не нужно, но, судя по тому, что на него смотрят именно так, как надо, – он изменился, очеловечился, притягивал тепло и излучал его, и он попытался высказать все это ей, но не смог, сбился, только поблагодарил – за ее глаза, да добавил, что любого человека можно познать по глазам – все те подлости и все то добро, на которые тот способен. И что она разбудила его глаза, смотревшие не так и не туда, и теперь… Но они уже свернули во дворик – прямо напротив кафе «Шахматы» и подошли к малоприметному подъезду, и поднялись на третий этаж, проделав долгий подъем, предполагавший как минимум этаж пятый. Она достала огромную связку ключей (зачем ей столько?) и некоторое время крутила их в железной двери с той же скоростью, с какой он там, на теплоходе, крутил штурвал. И это – прекрасно, подумал Анатолий, ибо означает, что папы-гэбэшника дома нет и не придется, натужно улыбаясь, пробираться бочком в ее комнату, стараясь не здороваться, не касаться протянутой руки…
Она отступила и картинным жестом, похожая на эльфийскую принцессу, пригласила его в сказочный лес. Прихожая, еще допускавшая случайные глаза – соседей, сантехников, работников ЖЭСа – всех тех людей, которых можно не пустить дальше порога, – еще сдерживалась, еще была обставлена просто как картинка из люксового журнала по интерьеру. Рококо, перемешанное с модерном в тончайшую смесь, требующую не только уймы вкуса, но и огромных денег. Здесь был пуфик, на который полагалось садиться (задницей! Задницей садиться – какое кощунство!), снимая и надевая обувь. Пуфик, в котором Гауди сплетался в танце с версальским дворцом, – огромные лилии на его ножках были вырезаны вручную, а асимметричный пион, поднимавшийся сзади во взрыве из раскинувших пальцы листьев, оказался съемной ложечкой, которую хотелось положить под стекло, а не трогать, и уж тем более ногами (один носок оказался надет шиворот-навыворот, отчего ступня стала похожей на морду молодого сома, на пальце второго – в том месте, которое никак не скрыть, – явственная дырка, через которую корчит рожи ноготь). Прихожая упиралась в двустворчатую дверь с наборным витражом, изображавшим нечто перетекавшее, растительное, вьющееся – ар нуво, а у него дырка на носке. Но витражные двери быстро распахнулись – она делала все это стыдливо, без намека на бахвальство, с видимым желанием максимально свернуть экскурсию и исключить любые похвалы. Зажегся свет в гостиной, и тут – как он ни сдерживал себя, как ни понимал, что она не хочет слышать возгласов – никаких возгласов – у него вырвался «ох» удивления. Дело в том, что там, дальше, за прихожей, был дворец. Средней руки, не самый роскошный, где-то даже строгий, без излишеств, свойственных растреллиевскому барокко, но – дворец. Мебель – овальный стол с букетом свежих, тяжелых цветов в вазе, кресла, небрежно стоящие у стола, зеркало в тонкой, вьющейся раме – все это было века восемнадцатого, продолжая начатую в прихожей французскую тему. Гарнитур был белым, с тончайшими прикосновениями золота, стены решены в белом цвете, с золотыми виньетками, мрамор пола частично прикрыт ковром, тоже – желтовато-белым. Даже люстра, сработанная, кажется, из сплошного хрусталя, без единого металлического крепления, – люстра, свисавшая с пятиметрового потолка почти до самого стола, люстра, весившая, наверное, тонну, – даже она была переливчато-белоснежной. У окна, забранного свешивающимися до пола шелками штор, стоял лакированный рояль явно позапрошлого века, и удивительно было, что в старину делали такие вот белые, как облако, инструменты.
Она так и стояла, посреди зала, растерянная, не знающая, что теперь с этим всем делать, как вписать их двоих в этот интерьер. На стене висела хорошая копия «Вакханалии» Алессандро Маньяско, а может быть, и сам оригинал. Анатолию срочно нужно было в туалет – переодеть вывернутый наизнанку носок и немножко прийти в себя, и он спросил – одними бровями, и она неопределенно махнула рукой в сторону коридора, уводившего из залы вправо, словно бы и сама не помнила точно, как найти этот самый туалет. Он шел очень долго, кое-где ему удавалось включать свет, он заглядывал в голубые, розовые, охристые комнаты, где стояли нетронутые кровати, письменные столы, библиотеки, проходил сквозь залы поменьше, видел кухню – обычную современную кухню, с синими шкафчиками из поливинила, смотревшуюся мозаичной психопатией среди окружавших ее сплошных французских слов, и боковые двери все сплошь оказывались новыми коридорами, и вот, наконец, – нашел, с латунным краном и ванной, стоявшей прямо посреди комнаты, и быстро переоделся, и сбрызнул лицо ледяной водой, и сказал зеркалу вполголоса: «Охуеть! Охуеть?»
Собственно, его мучил совсем иной вопрос – кто же она такая, и почему у нее дворец, встроенный в обычную «сталинку», – но он не знал, как и у кого спросить и нужно ли спрашивать, а потому просто еще раз набросал ледяной воды на лицо, пригладил волосы пятерней и вышел. Путь обратно найти было легче – кое-где он оставил горящий свет, к тому же нужные двери были приоткрыты. Она сидела спиной к нему, чересчур небрежная, чтобы выглядеть естественно. А он зашел таким немым вопросом, что она сочла нужным сказать: «Здесь это… Коммуналка вообще-то была на весь этаж. Ну, ее выкупили, объединили». Больше о квартире ей говорить не хотелось, и он попытался вернуть их расположение духа, подшучивая над дыркой в носке, над своим растрепанным видом, сравнивая себя с тенью отца Гамлета, пришедшей искать сына отца Гамлета не в тот дворец, но – он отметил это с тревогой – она уже реагировала слабее, смеялась не с такой готовностью, и, когда он, все еще пытаясь оживить, реанимировать, развязно протанцевал к роялю, открыл крышку и начал наигрывать одним пальцем ту мелодию, которую единственно и умел исполнять, – собачий вальс, – она совсем изменилась в лице. Такой видеть ее было страшно, и он подскочил к ней, и умолял, корча из себя медведя, помочь сыграть четвероногому собачий вальс, медведям нравится собачий вальс, и она зажглась – поддалась на слово «медведь», и колотила по клавишам вместе с ним, снабжая основную мелодию неожиданными импровизациями из классики, – играла она трепетно, и закончили они медвежьим объятием, на полу, смеясь, он благодарно вылизывал ей руку, а она трепала его по загривку, и все снова становилось хорошо.
Но вдруг она резко, как от удара, замерла, да так, что он тоже – замер, почувствовав, что сейчас именно так, резко, как на войне во время внезапной атаки, нужно успокоиться, и замолчать, и обратиться в слух и зрение. Она лежала, затаившись, и он уже понимал, в чем дело, – где-то звонил сотовый телефон, ее сотовый телефон, и именно из-за него, именно из-за него. Она вскочила, выбежала в прихожую, вернулась с трезвонящей трубкой, не отвечая, не отвечая на звонок, и попыталась закрыть ее ладонью, чтобы она звенела тише, она держала ее на вытянутых руках, как ядовитого гада, как змеюку, как… А телефон звонил, звонил, и она смотрела на Анатолия и умоляла его о помощи – звонок был как удары часов, бьющих полночь, и карета сейчас превратится в тыкву, а медведь пойдет искать хрустальную туфельку!
«Ответь! Ответь же! Нет таких телефонных звонков, которых нужно так бояться, – говорил он про себя – и, видя ее испуг, говорил уже в голос: – Отвечай, отвечай, я выйду, я выйду в тот коридор, все нормально, можешь говорить!» – а она принялась быстро-быстро мотать головой, все держа трубку, и сказала одно-единственное слово: «Все». – Что все, что все? – пытался помочь ей освободиться от распиравших ее слов Анатолий. – Что случилось? Кто это звонит? Хочешь я отвечу? – и в ответ: «Все! Все!» – она подталкивала его к выходу, шла вместе с ним и умоляла: «Все!» Звучало как просьба уйти немедленно, немедленно. «Мне уйти? – спросил Анатолий. – Я уйду, погуляю полчасика и вернусь, да?» А ее прорвало: «Уходи сейчас! Уходи немедленно! И никогда сюда не возвращайся, слышишь? Не смей сюда больше приходить! Уходи! Забудь! Забудь меня! Иначе – конец, понял? Все! Уходи!» – «Ты прогоняешь меня?» – попробовал он обидеться, но получалось плохо, он видел, что она – не в том состоянии, чтобы обижать других. «Дурак! Уходи! Все! Ну! Ты не понимаешь! Ты не знаешь! Уходи! И никогда! Не смей! Сюда!» Он был уже за дверью, и она смотрела на него, и глаза у нее блестели – то ли от испуга, то ли от того, что действительно больше – никогда… А он еще не мог поверить, что это навсегда, что она кричит: «Прощай! Прощай!», а телефон продолжает трезвонить, и «прощай» – это не «до свидания», это значит, он никогда больше не встретится со своей… С… Он ведь даже не знает, как ее зовут! Они стали родными, они совершили кругосветку, она называла его «медведем», а он говорил ей «ты», и не было ничего роднее этого «ты». Дверь уже закрывалась, отсекая ее лицо, и он крикнул:
– Как тебя зовут? Как?
И, уже из-за почти закрывшейся, уже приглушенно, как из Аида: «Елизавета».
Он ответил: «Анатолий» – ответил закрытой двери, и он ведь, кажется, говорил ей сегодня, что его зовут Анатолий, говорил о себе в третьем лице: «И тут Анатолий перегрыз прутья решетки…», так что было понятно, что Анатолий – это он, и как странно думать, что они знакомы всего день! Он прижался ухом к двери, надеясь услышать ее голос, – нет, даже не это – надеясь услышать ее шаги, и хохот, и дверь распахивается, и она говорит, что пошутила, но нет, ее страх был слишком явным, с таким страхом не шутят. Боже, что происходит?
Третий этаж. Квартира 54. Дом на Карла Маркса. Он узнает по адресу ее фамилию, разыщет телефон и будет звонить ей каждый день – она запретила ему возвращаться, но он будет звонить. Она испугалась. За него или за себя? Анатолий не хотел уходить с площадки, он очень боялся безвозвратности этого ухода, а еще он боялся, что ее страх и горе, вызванное этим звонком, выльются, как в голливудских фильмах, в медленный полет с третьего этажа, который из-за пятиметровых потолков – почти как пятый, и ровно к тому моменту, когда он выйдет из подъезда, она появится на балкончике своего прекрасного дворца и улетит в звездную ночь, и полет этот закончится как раз у его ног. И вот где, кстати, ее окна? Он поднял голову, стоя у выхода из подъезда, нашел третий этаж, в окнах которого то тут, то там горел приглушенный свет, но быстро сообразил, что квартира может тянуться до самого конца дома да поворачивать вместе с ним, и, кто знает, – может, она двухуровневая. Может быть, весь этот дом – сплошная ее квартира, в общем – пустое.








