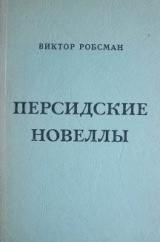
Текст книги "Персидские новеллы "
Автор книги: Виктор Робсман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Помещение главного штаба имело сходство с театральными декорациями; ветхие антресоли, едва державшиеся на худых столбах, мирно дремали в прохладе фруктовых деревьев. Как много здесь цветов! Они живут здесь короткой жизнью, но они везде, где только есть земля и вода, а травы нигде не видно. У входа нам показывают клыки скульптурные львы, защищающие трон Джемшида с незапамятных времен. Благоухающий офицер сопровождает нас в штаб-квартиру эмир-лашкера, смущая своей неприличной вежливостью; он говорит, что недостоин находиться в нашей тени, что не имеет счастья быть пылью под нашими ногами, что никогда не насытится видеть нас… и многое другое, чего не хотелось слышать. Но персидская учтивость требует от него этого даже в разговоре со смертельным врагом. Молчаливые часовые вытягиваются перед нами, как на смотре войск, приоткрывая ковровые портьеры, заменяющие створки дверей. Нигде не видно людей, не слышно дробного перестукивания пишущих машинок, и скрипа перьев, ни шелеста бумаг. Иногда бесшумно пробегает какая-нибудь штабная крыса, и быстро исчезает. Нет более тихого, более миролюбивого места в этой стране, чем штаб-квартира военного округа. Но вот и сам эмир-лашкер! Зачем он нам, и зачем мы ему? Маленький ростом, он обладал тем трубным голосом, от которого рушились стены древнего Иерихона. Его называют светским человеком, он подолгу жил в европейских столицах, обучался военному искусству в Императорской России, веселился во Франции, развивал в себе любовь к прекрасному в Италии, и немало скучал в англо-саксонских странах. Вернувшись домой, он встретился здесь с беспорядочной жизнью и бунтами на севере страны – что-то недоброе готовили тогда северные соседи; они собирали нечестивые съезды в его родном городе Реште, а в лесах Гиляна скрывались революционные разбойники «дженгелийцы», которых возглавлял персидский красный комиссар Кучек-хан. Этот чернобородый лесной человечек уже овладел тогда областью Мазендеран и Гиляном, которые кормят рисом всю страну, и провозгласил «Гилянскую республику», а себя – ее верховной властью. Никто не сомневался в эти дни, что жизни древнего Ирана пришел конец. Эмир-лашкер был расположен поговорить; он вспоминал, как очищал он леса Гиляна от «дженгелийцев», как был пленен им и обезглавлен Кучек-хан, мертвую голову которого долго возили по всем базарам страны, пока не стала она смердеть и разлагаться. Сегодня, говорил он, как и тогда, северные соседи создают пограничные конфликты, устраивают провокации, нарушают условия всех договоров, которые когда-либо были ими подписаны. Как можно после этого им доверять! А с тех пор, как мы перешли границу, он совершенно потерял покой. Он все еще не может понять – как это мы уцелели, когда за нами охотились все соединения советских пограничников вдоль северо-восточной границы, со всеми пограничными собаками! Но он устал, он очень устал от чтения всех донесений, ультиматумов, требований и меморандумов с упоминанием наших имен, точно всё это время находился на передовых позициях, на линии огня. – Сколько неприятностей может причинить один журналист двум государствам! – и он загрохотал при этих словах, как водопад, не то сердясь на нас, не то смеясь над нами. – Если бы вы не были журналистом, то уже давно гуляли бы на свободе – мы отпускаем перебежчиков на второй день. Это не мы, а они, ваши братья по крови и плоти держат вас под арестом… Вы ведете неравную борьбу. Вся большая ваша страна принадлежит им. Вся армия! Вся казна! Все, что на земле и под землей! Все, что на воде и в воздухе! А у вас что есть? Ничего! Одна лишь голая правда. Этого очень мало… Все это он не говорил, а кричал, как будто был нами очень недоволен, тогда как, на самом деле, разговор с нами располагал его к слезам; он с удовольствием расплакался бы над нашей горькой участью, если бы только позволял ему его ранг, его чин и честь солдата. А мы, слушая его, не умели объяснить – чем руководствуется совесть, когда диктует разуму свою волю. Одно лишь известно было нам, что согласование судьбы со свободой человека уму недоступно… – Мы намного старше вас! – продолжал эмир-лашкер, вставая и снова садясь на ковер, пригубливаясь к чаю, как к ликеру. – Мы научились письменности на два тысячелетия раньше вас, и наша письменность напоминает живопись; мы не пишем, а рисуем, не читаем, а поем… Он знакомил нас с обычаями своего народа, как с потусторонним миром. – Вы не сможете привыкнуть к нашему календарю, – говорил он, прикрикивая и как будто сердясь за это на нас. – Вы не сможете понять, почему наш день начинается и кончается с заходом солнца; почему стрелка нашего компаса показывает не на север, как у вас, а на юг… О, вы многому здесь удивитесь! Потом, перечисляя по пальцам, он рассказывал нам, сколько раз мы должны были умереть от рук наемных убийц, быть отравленными, задушенными, зарезанными и, несмотря на все козни наших врагов, продолжаем жить, потому что так хочет Бог! – Но теперь, – кричал он на нас с любовью, – вы должны жить осторожно, остерегаться друзей не менее, чем врагов. Запомните навсегда мудрые поучения Саади: «Бойтесь слабого врага более, чем сильного, ибо проявляя покорность и притворяясь другом, он желает только стать мощным врагом… Когда враг исчерпает все хитрости свои, он начинает потрясать цепью дружбы. Следовательно, он старается тогда стать другом, когда не может быть врагом…» Вскоре нас увели в полицейское управление.
Наступила наконец персидская зима со студёными ночами и жарким полуденным солнцем. Полицейские надели зимние шинели и уже не расставались с ними даже на время сна. Они разжигали на посту маленькие костры в «мангалах», а возвращаясь в казарму, приносили с собой краденые дрова и жгли их в печке-времянке; она всегда пылала, всегда была раскалена, и мы сравнивали себя с грешниками в аду… Нас загнали в угол казармы с наглухо затворенным окном в головной части нашей койки-топчана, и с печкой-времянкой у наших ног. Она привлекала к себе всех зябнущих (а кто из рожденных на этой горячей земле не зябнет даже в летнюю ночь!), и эта пылающая печь заменяла им солнце. Мы здесь не одиноки; сменяющиеся постовые полицейские приходят сюда разуться, погреть у огня голые ноги, подремать на нарах, посудачить между собой, как в бане, обо всем, что было и чего не было. Сюда приводят напуганных воришек с бегающими глазами, выдающих себя за убийц, ибо позорнее здесь быть вором, чем убийцей; в старину их распинали на кресте, а в наше время им отсекают руку повыше локтя. Сюда приводят развязных головорезов «чагукешей», для которых нет лучшего спорта, чем поножовщина. Сюда приводят присмиревших проституток, напоминающих искупительные жертвы из лупанария; не из благочестия, а для приманки они все еще носят черные стыдливые чадры. Эти продажные женщины-подростки ластятся к нам, предлагают нам деньги, заработанные своим постыдным трудом; они жалеют нас больше, чем себя. Они открывают перед нами свои детские лица, разрисованные белилами и сурьмой, и плачут. – Миленькие мои, хорошие… – причитала падшая девочка, совсем ребенок, полюбившая нас за наше несчастье. – Как же это могло случиться, что вы потеряли родных своих, и дом свой, и родную землю, а совести и чести своей не потеряли, остались такими чистенькими, такими хорошими… Полицейские разлучают нас, выталкивают ее из жарко натопленной казармы в холодную камеру предварительного заключения. Она смеется; она привыкла к тумакам. От каждого удара полицейского она заливается веселым смехом, как от нежной ласки. В эту ночь нам не пришлось вздремнуть. В то время, как полицейские выпроваживали гулящих девочек-подростков, в казарму ввалилась веселая компания убийц. Они только что зарезали человека, точно свадебную овцу, и, странным образом, оспаривали друг у друга заслугу в этом злодеянии. Полицейские, доставившие их, были у них на побегушках (ведь это дети хороших фамилий и при деньгах!), бегали для них за сигаретами, разжигали им кальян, приносили для всех нас чай в больших стаканах, объедались пилавом и шишкебабом за их счет, и мы были в числе гостей этого мрачного пиршества злодеев, которых ждала петля. Обращал на себя внимание очень развязный юноша с женскими чертами лица, каких изображают на персидских миниатюрах; они пользуются большим успехом у престарелых мужчин и их несовершеннолетних наложниц. Все понимали, почему он распорол брюхо старому торговцу бакалейными товарами, мирно возвращавшемуся к своей теплой жене, тогда как в этот день он никого не обманул, никого не обсчитал, никого не обвесил. Другой соучастник этого, последнего в его жизни, праздника вел себя безрассудно; он сорил деньгами, расплачивался за все пригоршнями, словно в эту ночь решил спустить все свое отцовское наследство. Он выкрикивал в экстазе, как помешанный: – Это я убил! Это я!.. Но тот, кто первым нанес ножевой удар, был тих и слаб, и отличался кротким, застенчивым нравом. Друзья потешались над ним, когда он робел перед каждой доступной девчонкой, и говорили, смеясь, что он играет в любовь с самим собой… Теперь он отомстил всем за свое унижение, он проявил храбрость убийцы, он возвысился в их глазах – разве для этого не стоит убить! Вошел заспанный дежурный офицер в глубоком шлеме с золотой тесьмой и с медной бляхой на груди, словно в рыцарских доспехах. Глаза его всё еще слипались – эти буяны помещали ему спать. Не теряя времени он набил всем им морды, нанося подзатыльники, оплеухи, зуботычины и затрещины, и приказал каждого посадить на цепь. Казарма опустела, наступила могильная тишина; слышалось дыхание каждого полицейского; они похрапывали на своих твердых нарах, как на мягких пуховиках. Ни убийства, ни кражи со взломом, ни грабежи не могли помешать их безмятежному сну; он успокаивал нас, как колыбельная песня; даже самые страшные сновидения казались нам не страшными после пережитого наяву. По утрам, из окна казармы, мы видели жизнь улицы. Не спеша шли к своим чернильницам и перьям чиновники в картузах нового покроя «пехлеви», сменивших войлочные шапки-бескозырки, запрещенные теперь законом. Купцы, однако, все еще удерживают на своих бритых головах белые тюрбаны, обшитые золотой тесьмой. Некоторые донашивают свои обветшалые длиннополые сюртуки и рыжие абба, или лебеде, или кабе (в зависимости от достатка), похожие на бурки, сильно пахнущие верблюдом; они всегда хороши – и зимой и летом, и в стужу и в зной. Многие уже одеты по новой моде, в плохо скроенные и не ладно сшитые пиджаки с чрезмерно длинными или чрезмерно короткими рукавами. Реза-шах Пехлеви принарядил их, заставил всех своих подданных подражать западной цивилизации. Но между ними многие еще сверкают пятками в курносых, без задников, туфлях; суетливо семенят в них люди духовного звания; их узнают по цвету и размеру чалмы, по длине пояса-кушака, по покрою халата; в этих мелких приметах одежды – весь человек. Ранее других, подобно ветру, пробегает мимо нашего окна полицмейстер города серхенг (полковник) Новахи. Встречные расступаются перед ним, преклоняют колени, как на молитве, точно они обязаны ему своею жизнью. На его восковом лице, побитом оспой, не видно улыбки; несмотря на преклонный возраст, в нем еще много жизненных сил. Полицейская форма красит его стареющее тело, но он равнодушен к мнению людей. Завернув за угол, серхенг Новахи взбегает по шаткой лестнице на второй этаж полицейского управления, садится за свой плохо обтесанный стол, и с этого времени все знают, что в городе не будет ни краж, ни грабежей, ни убийств, не будет изнасилована ни одна девочка и ни один мальчик. При виде полицмейстера смерть кажется людям не такой страшной, как он! Между тем, он был добрым муллой перед тем, как надел мундир полицмейстера; он призывал правоверных к милосердию, раздавал милостыню, примирял недругов, творил добро; он был всем нелицеприятным судьей. Но люди, говорил он, не становились лучше. Из года в год он совершал хаджж (паломничество) в вечный город Мекку. Не зная усталости, долго молился он у горы Арафат; в Долине Мина забрасывал камнями колонну Большого Дьявола в знак ненависти к нему и для его посрамления; в Долине Желаний проводил долгие ночи без сна за молитвой, истощая себя голодом, пока силы не оставляли его; пил животворящую воду из источнике Земзем, и в большой мечети Эль-Харам, в храме Каабе целовал черный камень Эсвао, оправленный в серебро, отмеченный печатью Всевышнего. Падая от усталости, он многократно обегал вокруг этого замурованного черного камня, а потом, в угоду Богу, приносил в жертву маленького, доверчивого, глупого ягненка с глазами грудного младенца. Его охватывал мистический восторг, когда он лишал жизни это напуганное животное, и твердо верил, что кровью этого ни в чем неповинного ягненка он искупал совершенные им грехи. Возвращаясь в свой родной город, он не становился другим, и люди оставались такими же, какими они были раньше. И сердце его возмутилось беззаконием, оно возрадовалось падению династии последнего Каджара и возликовало при воцарении новой династии Реза-шаха Пехлеви, перед которым дрожала земля! Добрый мулла стал теперь служить своему государю, как раньше служил Богу. Он говорил теперь: «Нельзя быть добрым, когда имеешь дело с людьми!» Все эти тайны жизни полицмейстера мы узнали от подружившегося с нами векиль-баши (надзирателя), который царствовал в казарме от вечерней до утренней зари. Это был очень непоседливый, насмешливый и болтливый полицейский надзиратель, слепнувший от трахомы и со стригущим лишаем на голове. Ему всегда было некогда – он прибегал и убегал, говорил отрывисто, не заканчивая фразы, ел урывками, на ходу, и обладал странной способностью засыпать стоя, как животное в хлеву. Забегая в казарму, он угощал нас крошками овечьего сыра и, посмеявшись, обещал нам в будущем стада овец. Мясистые его губы всегда шевелились, они что-нибудь рассказывали, на кого-нибудь злословили, чему-нибудь поучали и всех высмеивали. В жизни, говорил он, все так плохо устроено, что если над всем этим не смеяться, то придется плакать… Он развлекал нас своей болтовней – этот потешный, суетливый, кругленький, некрасивый человек. С восходом солнца сменялся полюбившийся нам векиль-баши, и уже не слышно было ни смеха, ни веселой шутки, ни глупой насмешки. Появлялся раздражительный надзиратель превосходного роста с холодным, похожим на гипсовый слепок, лицом. Его мутные глаза как бы признавались в своей нелюбви ко всем. Он не умел улыбаться, даже когда ему было весело; смех раздражал его, ему было приятнее видеть слезы. Каждый раз, входя в камеру, он напоминал нам, что мы находимся под арестом, как если бы мы не были уже людьми. – Вы больше не можете иметь своих желаний, – разъяснял нам этот строгий блюститель закона и порядка, – вы не можете теперь жить так, как вы хотите, и вам запрещено разговаривать с людьми… Даже для отправления своих естественных потребностей вы должны теперь спрашивать разрешение; этого требует закон! В его присутствии, казалось, увядала трава, высыхали канавы, умирали надежды. В полдень и на исходе дня появлялся у дверей казармы робкий трактирщик, кормивший нас кашей за казенный счет, а утром он приносил нам чай с хрустким хлебом сенгеком, не спрашивая за все это денег. Этот продымленный чадом трактирщик, одетый в рубаху из чёртовой кожи, которая, казалось, приросла к нему, был источником всех наших радостей; мы ждем его, как ждут животные часа своего кормления. Раздражительный надзиратель гнал его, когда он заглядывал в казарму, не позволяя ему видеть нас, и награждал его тумаками, когда он просил расплатиться с ним. Он сносил тумаки, обещал кормить нас даже бесплатно, потому что без него мы теперь помрем. Такая грубая зависимость от трактирщика сердила нас, мы замечали, как с каждым днем притуплялась мысль, сокращались наши желания (счастье, говорил Гораций, в сокращении желаний!), мы становились мелочными, забывали о том, для чего живем, ожидая часа нашей животной радости. Но что же это! Почему он не идет? Уже вернулся на ночное дежурство насмешливый векиль-баши, а трактирщика все еще нет; не может быть, чтобы этот добряк забыл нас, оставил нас голодными на ночь! – Чего вы ждете? – насмешливо спрашивал нас векиль-баши, отлично зная причину нашего беспокойства. – Я прогнал этого осла с его дурацкой кашей; сегодня у вас будет богатый ужин, его принесет вам всеми уважаемый в городе человек, Найдар Ходжа Мир Бадалев. Вы не знаете его? О, вы скоро его узнаете! Этот ходатай по делам беженцев от Лиги Наций рожден для добрых дел… Это был узбек – лицеист, принадлежавший к аристократам Бухары, из племени лангитов, господствовавшей, в свое время, над тюркскими племенами. В Хиве он был наместником эмира, в Бухаре – министром двора, в Петербурге – консулом Бухарского ханства. И теперь, потеряв всё, он оставался таким же, каким он был прежде; он не мог быть другим, ибо кем рождаешься, тем и умираешь… – Как вас запрятали! – говорил он, и голос его, дребезжащий, старческий, прерывался от волнения. – Мне стоило немалых усилий отыскать вас в этой дыре. Но вы не беспокойтесь, о вас все уже здесь знают, вы не забыты; вот русские люди в изгнании приготовили для вас отменный обед. Уж как они старались! Послышались знакомые запахи отечественной кухни, возвращавшие нас домой. Почему из всего забытого первыми вспоминаются запахи и вкусы? Что в них? Может быть, они передаются нам по наследству, как землепашцу любовь к земле?.. Ленивые щи, казалось нам, благоухали, а насмешливый векиль-баши не верил, что они могут кому-нибудь нравиться. Как он смеялся, заглядывая в судки! – Неужели, – говорил он, помирая от смеха, – вам может нравиться этот говяжий суп, провонявшийся капустой? – и сравнивал его с запахом задохшейся воды в давно не чищенном подвальном водохранилище. – Почему русские любят все, что плохо пахнет? – посмеиваясь, говорил этот примитивный житель земли. Старый узбек из благородного племени мангитов был этим шокирован; его раздражали плохо воспитанные люди, оскорблявшие его лучшие чувства, причиняя ему почти нравственные страдания. – Он большой шутник, – заметил я, – он над всем смеется, даже над смертью… – О, это ужасно! Но смеяться над радостью не менее жестоко, чем смеяться над страданием. У него нет сердца! В то же время, насмешливый полицейский надзиратель очень почтительно говорил о старом узбеке, величал его везирем (министром), рассказывал о нем чудеса; все перебежчики, говорил он, почитают его, как святого, знатные люди преклоняются перед ним, его имя хорошо известно самому шаху. Теперь, говорил он, не долго нам осталось сидеть на маисовой каше; он не оставит нас!.. Добрый старик обивал пороги всех сановников, встречался с депутатами меджлиса-парламента, не оставлял в покое наместника шаха, побывал даже у влиятельного в мусульманском мире муджтехида, законоучителя правоверных шиитов и их верховного судьи, и никто не отказывал ему, все охотно обещали помочь нам, пока он говорил с ними, и забывали о нас, когда он оставлял их; здесь не помнят того, что обещают. Он говорил нам о терпении, как о вечном спутнике жизни, ибо ждать, это значит – жить! – Когда человек ничего не ждет, – продолжал он, сморкаясь слезами, – он уже больше не живет… Поверьте мне, самое лучшее ждет вас впереди… Он ушел так же внезапно, как и появился – так приходит радость, у которой очень короткая жизнь. Но вот, среди ночи полицейские вдруг подняли нас с постели; нельзя было медлить и минуты, нас уводили из теплой казармы в одиночную камеру, словно смертников, не объясняя почему. Всё здесь окутано тайной, мы жили теперь одними предчувствиями, становились суеверными, придавали значение дурным и добрым приметам, находились во власти предрассудков и видели только вещие сны. Подобно нашим предкам-язычникам, мы гадали сейчас по звездам, по ущербленной луне, по направлению ветра, чтобы понять, куда уводят нас: в тюрьму, на свободу или на смерть? Добрый векиль-баши уже больше не смеялся, не шутил; он невразумительно шептал нам о каком-то заговоре на нашу жизнь и что нам лучше не быть у всех на виду… Камера, куда загнали нас теперь, была похожа на грот в пещере с тяжелой дверью, без окна и света – она освещалась и днем и ночью ручным фонарем; не было здесь и печки-времянки, которая возвращала нас к воспоминаниям о домашней жизни. Но у мокрой стены уже стояла наша койка-топчан со всеми тряпками на ней, с набитым соломой матрацем и круглой подушкой. Часовой закрыл за нами на замок дверь, точно крышку гроба, и звуки жизни уже больше не проникали к нам. Какая это была страшная для нас ночь! Трудно сказать, сколько прошло с того времени дней и ночей, было ли это вчера, год назад или в прошлом столетии, но мы узнали тогда, какая бывает вечность. Когда наутро, вместе с дневным светом вошел в камеру полицмейстер, серхенг Новахи, перед которым расступались деревья и люди падали ниц, мы равнодушно продолжали лежать на своей койке, больше не веря в чудеса. Он старался улыбнуться, он говорил мягко и тихо, как здоровые разговаривают с больными, но полицейское спокойствие не оставляло его. «Если он пришел к нам, и в такой ранний час, – мелькнула у меня пугливая мысль, – значит случилось что-то очень важное для нас, может быть, роковое!» – Вот видите, – заговорил серхенг голосом доброго отца, – если бы мы не упрятали вас на ночь в эту каменную дыру, то вас уже не было бы в живых… (лицо его при этих словах приняло неприятное выражение, какое бывает у людей с возмущенной душой). Опасность, однако, миновала (и лицо его прояснилось слегка), но не надолго (и снова стало заволакиваться тучами). Ваши враги не умеют прощать и миловать, они не успокоятся, пока вы будете живы (и он нахмурился, как небо перед грозой). Вот почему нет для вас сейчас лучшего места, чем тюрьма (и в его груди разразилась гроза!). Это здание прочнее крепости, и там есть даже удобства, каких нет во многих благоустроенных домах… – и, слабо улыбаясь, он приветливо кивнул нам своей гордой головой.
Мелкие лавочники и ненавидимые народом торговцы мясом и хлебом, носильщики тяжестей хаммалы, заменяющие здесь ломовых лошадей, с деревянными горбами, казалось, приросшими к их спинам, крикливые водоносы, торгующие «шахской» водой, голые банщики, едва покрытые полосатыми простынями, точно выбежавшие из горящего дома, вызывающие всеобщее презрение мордешуры, обмывающие покойников перед погребением – вся эта пестрая толпа персидской улицы со скорбью и печалью выходила на дорогу, по которой вели нас под сильным конвоем в тюрьму, словно провожая нас в последний путь, в лоно Авраама, Исаака и Иакова.
IV. Жизнь продолжается и в тюрьме
Город Мешхед стоит на краю песков, в окрестностях его нет садов, пашни находятся вдали от него, а Хорасанские горы, не достигающие полосы вечных снегов, представляют собой живописную картину дикой горной природы. Много в этом городе кладбищ – на каждой людной улице, посреди базарной площади и на безлюдных подступах к цитадели, окруженной высокой стеной и глубоким рвом; они в самом шахристане – центральной части города, и в рабате – его предместье. Могил здесь больше, чем жилых домов, ибо каждый благочестивый шиит хочет умереть тут, как можно ближе к гробнице имама Али-Риза, от которого поныне ждут чудес. Богомольцы, приходящие к своему чудотворцу из отдаленных мест, никогда не забывают побывать в тюрьме, ибо узники, говорят они, подобны отшельникам – они всеми забыты, у них ничего нет. Тюрьма здесь новая, она одета в бетон и закована в железо; по своему благоустройству нет в городе лучшего здания, и преступники, творящие беззаконие и зло, незаслуженно пользуются ее удобствами. Теперь – это наш дом; наше свадебное путешествие по разным местам заключения приходит здесь к концу. Богомольцы робко приближались к решетке нашего окна, выходившего в наружный двор; они подавали нам милостыню, оплакивали нас, как мертвых перед погребением, и обещали просить своего имама, чтобы он заступился за нас, неверных, так же, как за своих правоверных. Их отрешенные лица, напуганные жизнью, были преисполнены сострадания. У заключенных тоже есть радости: милостыня заменяет им ласку, а сострадание – любовь. Но каким голым, каким заброшенным и безлюдным был внутренний двор тюрьмы, напоминавший нам знойную пустыню! Тень не проникала сюда, солнце сжигало все живое, земля пылала. Этот двор казался нам большим, как земной шар, в то время как тюрьма была для нас вселенной. Под вечер сюда приводили на прогулку «знатных» арестантов, над которыми тяготела петля тюремного палача. Мы уже знали время, когда выпускали из камеры афганского принца царской крови – шахзаде. Тихий, говоривший шепотом, с глазами теленка, этот наследник свергнутой династии эмира Хабибуллы готов был заплакать от обиды: у него украли корону, трон, страну, которая принадлежит ему по праву. И теперь, когда он так верил дружбе персидских царей, близких ему по крови, Реза-шах запрятал его в тюрьму. Почему? Стражники прерывали его рассказ на самом интересном месте, разлучали нас, уводили его обратно в камеру, очень похожую на клетку зверя. И тогда, уже на исходе дня, после вечерней молитвы, приводили на прогулку очень беспокойного старика. Он метался по двору, как животное в зверинце, он показывал зубы, рычал, и глаза его сверкали. У него была очень холеная борода, крашенная хною, словно охваченная огнем; горели хною подошвы его ног, ладони и пальцы его рук – всякое место, соприкасающееся с землей во время молитвы. Он был человеком богомольным, человеком благочестивым, человеком божьим и не боялся людей. Тюремные стражники говорили, что у него очень острый язык и он не в своем уме; как можно отзываться неодобрительно о шахе, который творит на земле волю Бога! Это равносильно самоубийству. Но, говорили они, он очень мудрый, он редактор газеты, он знает всё, чего никто не знает, и его слова передаются из уст в уста, как откровение с небес; его все слушают, ему все верят… Старик неистовствовал. Как плохо, говорил он, когда у шаха нет шахской крови (ни капли!). Предки его были пастухами, а сам он вышел в люди с помощью иноверцев, у которых служил поначалу наемником в солдатах, чтобы держать в повиновении мусульманский народ. А теперь этот потомок пастухов, сын батрака и простой девки, возгордился своей властью, отменяет вечные законы Ислама – хула ему за это от Бога! Он хочет ославить жен наших и дочерей наших, принуждает их обнажать лица свои, тогда как сказано пророком: «Женщина, снявшая покрывало свое, – покрывает себя позором и творит мерзости…». А какие права у него на мою бороду? Она росла вместе с годами моими, она дана мне Богом, как и все, что принадлежит мне и плоти моей, и никто не может отнять у меня ее, как только Бог! И по мере того, как он говорил, глаза его то угасали от чрезмерной печали, то зажигались желтоватым светом раздраженного хищника или вдруг воспламенялись красным огнем, и тогда искры сверкали в них, как зарницы. На утро его повесили.
Приходил смотритель тюрьмы. Он обходил свои тюремные владения, как властелин, как повелитель, как сюзерен; творил суд над арестантами, одних наказывал, других миловал, одним даровал жизнь, у других отнимал ее. Теперь он был нашей верховной властью, нашим господином, а называл себя нашим рабом. Какие пустые слова! Его речь была так сладка, что проникала в кровеносные сосуды, и кровь бежала с нею в сердце, но не долго оставалась там. Он любовался каждым своим словом и был по уши влюблен в самого себя. Все здесь говорили, что смотритель тюрьмы имеет пристрастие к малолетним девочкам, берет себе их в жены на условиях «временного брачного контракта», но не более четырех одновременно, ибо в законе сказано: «И женитесь на нравящихся вам, на двух или трех, или четырех…». А он был законопослушным! Но с тех пор, как шах ввел единобрачие и повелел считать зрелыми для брачной жизни девочек не младше тринадцати лет, он оставил в своем доме только одну жену, достигшую дозволенного возраста, и закрепил ее за собой навсегда «вечным брачным контрактом», ибо закон для него – прежде всего! Был он человеком начитанным, читал все без разбору, и недавно он прочитал тайком что-то о коммунизме, во французском переводе, и нашел в нем много схожего со своим тюремным уставом. Смотритель тюрьмы говорил обо всем деликатно, как подобает горделивому потомку благородных фарсов; он старался прельстить нас жизнью в тюремной больнице, куда не проникает ни одна живая душа и куда не залетают даже птицы. В нашем положении неуверенности и страха – лучшего места в тюрьме нет. Он хочет, чтобы нас все забыли, и тогда можно надеяться, что мы останемся в живых… Там, говорил он, мы сможем беспечно проводить свои безрадостные дни, шить и стряпать по своему вкусу, как если бы мы жили у себя дома. Он пришлет нам ситца и бязи, чтобы мы принарядились, а то ему стыдно на нас смотреть. Он приставит к нам в услужение вора-рецидивиста Барата-Али, напоминающего зверька, только что выбежавшего из леса; он все еще боится людей. Похоже было на то, что смотритель тюрьмы устраивает для нас здесь жизнь надолго, может быть, навсегда… Днем и ночью слышны стоны умирающих: к этому нельзя привыкнуть! Обреченных больных выпускают на солнце, которое они видят в последний раз. Они сидят на горячих цементных плитах с железными цепями на ногах, скребут тело и точат о камни ногти. Они знают, что их жизни пришел конец, но они боятся не смерти, а старого, обленившегося лекаря Пезешки, который кричит даже на мертвых. Страшнее его для них никого нет, разве что неприметный на вид фельдшер Абдул-Кассым-хан, уморивший своими снадобьями немало здоровых людей. Он презирает больных, наслаждается своею властью над ними; ему нравится, когда эти чудовища в кандалах плачут, завидев его издалека. Все получают от него затрещины, которые, говорит он, помогают лучше лекарств. Любуясь своей силой над бессильными, он часто приходит к нам рассказать о своем бесстрашии. Временами заглядывает к нам лекарь Пезешки. Он очень стар, ноги плохо держат его на земле, но он все еще любит болтать всякий вздор о любовных утехах и деторождении; ему не нравится, что жена не родит мне ребенка. Погрозив ей пальцем, он медленно удаляется, как уплывающее по небу облако. Прибегает и убегает полюбившийся нам Барат-Али. Он следит, чтобы глиняный кувшин в углу всегда был наполнен водой. Он крадет для нас воду из подвального водохранилища, моет в ней наше белье, поливает для нас пылающий двор, везде оставляет мокрые следы; для него очень важно, чтобы мы не испытывали нужды в воде. Потом он бежит на тюремную кухню, ругается там с поварами за каждый кусок козлятины для нас, которую отвешивают здесь на золотники, набивает карманы всякой снедью и, как волк к своей волчице, бежит к нам со всей своей богатой добычей. Он смеется тихим, беззвучным смехом, чтобы его не услышали: ему так весело! Барат-Али всегда занят, у него много обязанностей, которые он выполняет добросовестно и честно, но ему все равно никто не верит и каждый норовит его отколотить. В полдень он разносит арестантам аш-маш – кашу из бобов, которую называют здесь «березовой кашей», а после вечерней молитвы – похлебку, прозванную арестантами «пищей собак, шакалов и гиен». Маленький, совсем крошка, он легко бегает от камеры к камере с тяжелым медным подносом на голове, и всем слышно, как дребезжат на нем луженые миски, напоминая музыку кимвалов. Потом он собирает вылизанные уже миски, полощет их в проточной воде, сносит на кухню и по-хозяйски, как свои, складывает в стопки. Чуть освободившись, он бежит к нам, чтобы рассказать, кого сегодня высекли и за что, каких привели новых арестантов и кого отпустили на волю. Он все знает! Сегодня он подслушал и подсмотрел, когда очищали камеру смертников для муджтехида – человека мудрого и праведника, вероучителя и законника, к словам которого прислушивались все цари, ибо он один получил от Бога право толковать закон! Барат-Али скорбит и вздыхает; как можно приравнять муджтехида к заключенным в тюрьме злодеям, убийцам и ворам, которых все презирают, тогда как он ближе всех к Богу и никто не может быть ему равным! В эту ночь мы не могли заснуть. Что-то похожее на мятеж, на бунт, на восстание происходило за воротами тюрьмы; слышатся ружейные выстрелы, щелкают запоры тюремных ворот, беспрерывно приводят всё новых и новых арестантов, закованных в цепи, и они не вмещаются уже во внутренней тюрьме; она набита до отказа! Напуганные часовые говорят, что в наружном тюремном дворе такое скопление народа, как только бывает на базарной площади в праздничный день; все они уведены из своих домов, сонные, в исподнем белье, другие – захвачены на улице, на дорогах, ведущих к святым местам, богомольцы, люди верующие, никому не причинившие зла; среди них много грешников, но много и праведников. Дервиши, захваченные со своими жаровнями и угольками, шепчут заклинания, распространяя повсюду благовонный чад; они препоясаны зелеными кушаками, а бритые головы перевязаны зеленой чалмой, что указывает на их родство с домом Курейшитов, из которого произошел и сам пророк. Все они проповедуют слово Божье, а стражники бьют их прикладами, угрожают штыками, как будто они не одной с ними веры, не одной крови. Слышатся стенания, вопли, стоны; все хотят умереть за свою веру. Уже поговаривают о газавате, священной войне, и о том, что на улицах льется кровь праведников; утром многие не знали, что к вечеру они будут мертвыми. – Всё это из-за женщин, всё из-за них!.. – повторяет перепуганный насмерть часовой. – Все знают, что женщины в родстве с шайтаном, с чёртом, и грех поэтому всегда приходит через них… Как можно противиться воле царя царей! Шах хочет сделать их счастливыми, а они не хотят… Чадра для них дороже жизни, потому что под ней они скрывают все свои пороки и грехи… А с тюремного двора доносятся стенания: – О жены наши! – О посрамленные дочери Ислама! – Плачьте и рыдайте матери, кормившие вас своими сосцами! – Что нашли вы и – что потеряли! Разве можно соизмерить потерянное с найденным! Внезапно наступает могильная тишина – все скорбящие, все стонущие, все стенающие перестают дышать; их лица, искаженные страданиями, обращены на муджтехида: вот и он в цепях, его ведут во внутреннюю тюрьму. Но он спокоен, как небо, несокрушим, как земля. Он похож на патриарха, перед которым открыты все тайны. И хотя стар уже муджтехид и немощен, но дух его тверд; он знает, что власть неба сильнее власти земли, ибо она непрерывна и бесконечна. Кто запретит ему творить волю Бога! Богомольцы оставляли теперь гробницу своего чудотворца имама и шли на поклонение к тюрьме, ставшей для них святыней, ибо здесь, в камере смертников, томится в заточении праведник. И тогда, под покровом ночи, связанного цепями по рукам и ногам, муджтехида увели из тюрьмы и уже мертвым, завернутого в саван, привезли обратно на дрогах, чтобы выписать его из списка живых. Бунт был подавлен. Женщины снимали чадру. Говорили, что сегодня на базарной площади повесили первую персиянку, убийцу своего мужа. Этого здесь еще никогда не бывало! Она кричала: – Меня нельзя вешать, меня нельзя вешать! я – женщина!..





