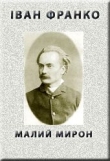Текст книги "Воля вольная"
Автор книги: Виктор Ремизов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
8
Трое суток добирался Илья Жебровский до участка. Последние сорок километров до зимовья несколько лет уже никто не чистил, и местами дорога была сильно завалена упавшими деревьями. Пилили в две пилы, растаскивали, раскатывали бревна. Какие-то, очень уж здоровые, «Уралом» дергали, проезжали недолго и снова пилили. Жебровский с непривычки к такой работе быстро уставал, и его отправили за руль. Дядь Саша с Поваренком орудовали вдвоем. Один большой, толстоватый и с пузцом, но сильный и неожиданно ловкий для своих габаритов, другой – невысокий, худой, работающий без устали. Поваренок был проворнее дядь Саши. Илья глядел на них из высокой кабины «Урала» и крепко досадовал на самого себя, что не заказал вертолет, как в прошлом году. Всего пятнадцать тысяч баксов, и он три дня назад уже был бы на своем участке.
Идея ехать на «Урале» пришла в прошлом сезоне. Сразу после Нового года он сдавал пушнину вместе с другими охотниками, и потом небольшой компанией пошли посидеть к Генке Милютину. И так там было душевно и полновесно, что Илье спьяну очень захотелось быть таким же, как эти мужики, ничем не выделяться, жить такой же простой и ясной жизнью. В тот вечер он и решил впредь заезжать на участок так же, как они. И вот он заезжал.
Илья сидел, обняв огромный тяжело-дрожащий руль «Урала», ждал, когда Поваренок махнет «ехать», даже и готовился к этому, потому что «Урал» оказался еще тем автомобилем, плохо трогался, глох, нога соскальзывала с гладкой лапки сцепления, руль было не свернуть… Он проезжал сто или пятьдесят метров и опять со скукой и раздражением ждал мужиков, и мысли его легко достигали неглубокой изнанки его промысла, где вся его охота была житейски бессмысленна. Сейчас, например, он мог быть в своем зимовье, а вместо этого делал эту идиотскую дорогу в тайге.
Мне все это не нужно, – глядел он на дядь Сашу с Колькой, те, с красными, перекошенными от напряжения рожами выкатывали с дороги толстый, коленвалом гнутый листвяшечный ствол. Выкатили, Колька махнул рукой, сам, подхватив бензопилу, шел перед машиной и рассказывал что-то дядь Саше, показывал себе за спину, будто у него там чешется, и смеялся, размахивая свободной рукой. Со спины вырванный клок черной спецовки болтался хвостом… Они ни о чем не думают, понимал Илья. Поехали забросить меня, то есть довезти на машине, а на самом деле ишачат, как проклятые. Это я не знал, а они ведь знали, какая работа их ждет, но не торговались, не предупредили, ничего. Почему так? Он не понимал этого.
Хотя и видел, этого невозможно было не увидеть, сам хохочущий Поваренок с тяжелой бензопилой в руках свидетельствовал об этом! Был в работе мужиков какой-то большой, почти недоступный для мозгов смысл, который жил здесь в тайге, в этих горах, смысл самой работы, получалось, безропотного делания тяжелого дела, которое через год надо будет делать снова. Илья видел это и понимал, что во всей глубине этот смысл ему, Илье Жебровскому, недоступен. И никогда не будет доступен, потому что он не за этим сюда ехал. Ему, выкормленному сгущенкой цивилизации, сразу хотелось самого сладкого – оказаться одному в своей избушке и начать устраиваться. Хотелось сидеть на порожке, слышать, как за спиной успокаивающе трещит печка, покуривать хорошую сигарку и смотреть на таежные дали в вечерней, сиреневой от мороза дымке. За такой дурной работой не видно красоты мира, думал Жебровский, и морщился невольно, и не верил сам себе, глядя на счастливых и довольных жизнью мужиков внизу.
Ревели и ревели две пилы на два голоса над стылой осенней тайгой. Жебровский временами слезал к ним помочь, предлагал подменить кого-то, но его снова отправляли в кабину. К вечеру так уделались, что сил готовить еду или натягивать палатку не было. Поели разогретой на костре тушенки с хлебом, Жебровский, выбрав место поровнее, постелил синтетический коврик прямо на замерзший мох и заполз в пуховый спальник. Чувствовал, как гудят и не находят себе места кисти рук. Дядь Саша устроился в кабине под тулупом. Как собирался спать Колька, Илья не знал – Поваренок все возился с бензопилами, точил цепи у костра, прихлебывая что-то из кружки.
Встал Колька первым. Чай сварил, сала нарезал, разогрел тушенку с пережаренным луком на большой мятой сковороде и с хриплыми несмешными шуточками разбудил мужиков.
До базовой избушки добрались ночью на третьи сутки и на другой день храпели почти до обеда. Потом поели, и дядь Саша с Поваренком отправились добить дорогу до Юдомы и посмотреть, как там дальше.
Стоял легкий морозец, солнце красно садилось за пеструю, прикрытую снегом тундру, в островерхие белые вершины далеких гор, как раз в ту сторону, куда уехали мужики. Негустые плоские облака над головой напитались закатными красками и несли их на противоположный, восточный склон неба. Там нежно-розовое густело книзу и ровно стекало в сине-зеленый и густо-сиреневый, подбой. Жебровский наводил порядок вокруг зимовья, разбирал привезенные вещи, вполглаза присматривая за игрой красок и прислушиваясь, не едут ли.
Дорога, которую торили мужики, была древним путем к восточным пределам России, проложенным якутскими казаками три с половиной века назад. С середины семнадцатого столетия, после двух экспедиций Беринга путь использовался, как казенный Якутско-Охотский почтовый тракт с почтовыми станциями, с переменными лошадьми, переменными оленями, а ближе к морю – и переменными собачьими упряжками. Грузы шли в основном на восток, обратно везли мягкую рухлядь – пушнину. В середине девятнадцатого века русско-американская компания обустроила более удобный путь Якутск – порт Аян, и почтовым стал он. За Якутско-Охотским трактом осталось местное и небольшое торговое значение. Ко времени революции тракт исчерпал себя.
До девяностых годов прошлого века дорогой перегоняли оленей, изредка пользовались как зимником на якутскую сторону, но потом она была заброшена окончательно.
Здесь, в верховьях речек, высокого леса не было, и местами путь сохранился вполне ничего, иногда пропадал в стланиках, но потом снова находился. Если бы удалось проехать до долины Юдомы, дядь Саша с Колькой вернулись в поселок героями. Много добра ушло бы по той трассе мимо ментов.
Илья сварил суп из глухаря, рис потушил с рябчиками, все стояло на теплых камнях рядом с печкой, полный чайник бухтел, в избушке было перетоплено, он распахнул дверь настежь и сел на изрубленный топором порожек. Закурил тонкую коричневую сигарку, прислушался. Машины не слышно, вообще не понятно было, когда они закончат с этой дорогой. Ему не нужен был этот «икряный тракт», более того – мужики мешали. Пока они ночевали здесь, он ничего не мог делать. Ни рыбачить – для этого надо было спускаться в нижнее зимовье, ни даже просто нормально разложить вещи. Избушка была небольшая, на двое одноместных нар, по стенкам и потолку висели на гвоздях какие-то мешки, одежда, продукты в пакетах, везде валялись Поваренковы железки…
Он сидел на порожке, курил и слушал ночь. Ключ за стеной булькотил отчетливо, речку же было не слышно за шумом порывистого и неуютного ночного ветра. В Москве, воображая охоту, он мечтал никуда не торопиться, все наладить, днем быть в тайге, не надрываясь, спокойно, а вечером возвращаться в зимовье, включать музыку и не спеша возиться по хозяйству. У него была компактная, отменного качества аппаратура и много классической музыки. Была дюжина хороших книг. Все это никак не сочеталось с промыслом. Он это отлично понимал, но хотел именно этого.
Мужики и его желания не сходились в одном зимовье. Даже книги некуда было поставить. Он достал два тома Пруста, которого начал читать еще в Рыбачьем, и нервно втиснул на полку среди грязных Колькиных пакетов с крупами и мукой. Надо переждать, – думал Жебровский, докуривая сигарету и ежась от холода, – просто переждать. Они уедут, останусь один, и все встанет на свои места, и может, у меня получится эта моя свобода.
Вернулись за полночь. Жебровский читал книжку и уснул. Проснулся от того, что дядь Саша, кряхтя, с усталым и беззлобным матом снимал сапоги, скрипя нарами. Следом Колька вошел с охапкой дров, высыпал у печки, они раскатились на проходе, Колька хотел подобрать, но, устало махнув рукой, перешагнул и сел на уголок нар к дядь Саше.
Илья молча лежал в темноте. Надо было встать и запустить свет, но ему не хотелось. Заснул бы сейчас до утра, а утром уехал бы в другое зимовье. Он вспомнил вдруг, что не слышал шума мотора.
– Вы пешком? – спросил, садясь на нарах.
– Поломались малость… – Колька шарил лампу, нашел, потряс, лампа была пустая. – Керосин где?
Жебровский накинул куртку, вышел, дернул небольшой генератор, в окошке зимовья, затянутом мутным полиэтиленом, засветилась лампочка. По небу ползли тучи, почти полная луна серебрила края. Ветер не стихал, обещая непогоду.
– Супец! Второе! – Поваренок гремел крышками, голос у него был сиплый и безнадежно уставший, сам же Колька, похоже, оживал. – А я думал, день геолога сегодня.
– День геолога? – не понял Жебровский.
– Кто чего нашел, тот то и съел! У нас повар как забухает на бригаде, так и день геолога. Горячее все, наливай, что ли, Илюха?! Молодца! Наготовил! – Поваренок от удивления впервые назвал Жебровского по имени.
Илья протер половник салфеткой и зачерпнул загустевшее от разбухших макарон темное варево. Дядь Саша аккуратно, руки подрагивали, ставил полные тарелки на стол. Поваренок достал из-под нар потрепанную кирзовую сумку с перевязанными ручками, пошарил в ней и выставил на стол пластиковую полторашку с мутноватой жидкостью, налил по полкружки.
– Давайте, мужики!
Они выпили и «замахали веслами», как выразился Колька. Он один и разговаривал, дядь Саша и Илья ели молча. Машина сломалась внизу. Они пробились до Юдомы, до более-менее ясной дороги, проехались километров десять и на обратном пути «закипели». Колька брался за полдня починиться. Жебровскому же было ясно, что завтра надо будет везти Поваренка на снегоходе, и его собственные дела опять откладываются. После второй-третьей разговор оживился. Поваренок разобрал и разложил на столе и нарах полетевшую помпу, промывал что-то в алюминиевой кастрюльке с отломанной ручкой, бензином воняло, мечтал вслух, как он соберет путних мужиков:
– Взять машин четыре-пять, бензовоз и двинуть к якутам, пока верха не завалило. Мы ездили лет пятнадцать назад – рыбу возили – триста километров до зимника неделю пробивались, считай, заново дорогу торили. А теперь-то, после нас – милое дело! Тонн пятнадцать икры можно оттаранить.
– А там что? – спросил Жебровский.
– Придумаем, толкнем кому-нибудь. Студент говорил, у него есть знакомые барыги… Да там-то что, там хоть в Москву вези…
– Без документов?
– Я тебя умаляю, – прикидываясь блатным, прогундосил в нос Колька, не поднимая глаз на Жебровского. – Завтра же в Рыбачьем любые бумажки выправлю.
– На пятнадцать тонн?
– Ну, – Колька дураковато приоткрыл рот, зачесал немытую голову, – а чего нет-то? Давай кружку… Сами же менты за бабки что хочешь изготовят.
– А если дорогу перекроют?
– Руки коротки. – Колька уверенно набулькал в кружки. – Тут им не поселок, тут тайга… Где они перекроют? На перевале?! Сюда же надо доехать, а ты сам видел, это работа! А потом дежурить! Кто будет? Нет, никогда! Зачем им работать, если они безо всякой работы бабло гребут. Там же куча народу, как платили, так и будут… Шумак вон, у него бичей человек десять или больше, день и ночь херачат за паленую водку, да харчи. Корейцы – сто пудов платят, а там немаленькая бригада. Еще на Большой несколько капитальных бригад из области. Мы их даже и не знаем. И все вывозят и вывозят, и всё через ментов. Не, дядь Сань, – Колька попал наконец в какую-то дырочку, куда он все не мог попасть, вытер руки грязной тряпкой и снял очки, – ты думай что хочешь, а прокурор точно при делах. Что он, дурак смотреть на все это просто так?
– Рис будете? – вспомнил Жебровский.
– Клади! Еда силы не выматывает! – Колька поднял свою кружку. – Понял, Москвич, тут им – не там. В тайге маленько другие законы. И ребята поедут такие, что не сунутся менты.
Выпили. Дядя Саша, чтоб не мешать Кольке, отсел на самый край и привалился к стенке, Поваренок, кряхтя и матеря изготовителей, пытался теперь грубыми крючковатыми пальцами надеть маленькую шайбочку на винтик, расположенный в углублении. Наконец у него и это получилось, и он, довольный, разогнулся. Подкурил погасший бычок.
– Это раньше менты были, а сейчас не то. Деловые все – только вроде пришел, сопливый совсем, а уже свой кусок рвет. И смотрит так, будто право на тебя имеет. Я вон своего племяша спрашиваю, ты, сука, чего там забыл? Карманы набивать идешь? А он мне – а зачем туда еще ходить? Понял? Не стесняется! Службы нет никакой, так, обозначают. Ни физподготовки, ни стрелять толком не умеют… случись чего, какая заварушка, все разбегутся. Думаешь, чего тогда во Владик московский ОМОН пригнали? Там менты все в автомобильном бизнесе повязаны, какая уж служба! Барыги, одно слово!
Он помолчал, почиркал спичками, прикуривая новую сигарету, и продолжил:
– Но я иногда думаю, что нормальные менты все-таки нужны. Нам ведь только дай волю, мы годика в три-четыре всё кончим. Сейчас народ такой – речки перегораживать начнет! Охранять надо… От нас. – Колька встал, приоткрыл дверь и замотал веревочкой. Табачный дым вместе с теплом пополз в щель. Избушки хорошо уже разогрелась.
– Насчет рыбы ты неправ, – подал голос дядь Саша, – у меня дед с Ангары… Он рассказывал, как в старые времена там рыбу ловили красную. У них осетровые осенью со всей реки на зимовальную яму собирались. И вот в определенный день старики отмеряли две трети ямы, ставили вешку на берегу – выше ловить нельзя. И вся деревня ловит три дня, где договорились. И всё – три дня – больше тоже нельзя. Каждый год тоннами, – говорит, – ловили и не кончалась! И не было у них в деревне никакой власти. Сами решали.
Все замолчали, только генератор негромко гудел за стенкой. Поваренок собрал посуду, сложил в таз, плеснул воды и поставил на печку.
– Выбрали вон дядь Сашу, он и был бы вашей властью, – подумал вслух Жебровский.
– Ну ты даешь! Дядь Саше оно надо? – Колька подсел к столу. – Мы вон Полуглупого опять выбрали…
– Это что, фамилия, я не пойму? – спросил Илья.
– Да нет, Студент его так всю жизнь звал, а как выбрали, так и все стали. Кликуха такая, – пояснил Колька, – а вот как его выбрали? Он же вообще никакой? Он когда говорит, я ничего не понимаю. Недавно остановил меня возле детсада и рассказывает про нянечек. Ты понял?! Лицо умное сделал, озабоченный он нами, понимаешь… Я стою как дурак! У него полдетсада рухнуло в прошлом году, у меня дети дома сидят, а он про нянечек, что они руки не моют! Как так сделалось, что он-то у нас?
Жебровский закурил и вышел на улицу. Он деньгами участвовал в нескольких выборах и много чего о них знал и видел своими глазами, и поэтому, чувствуя какую-то вину, не любил этой темы. Он не то, что не верил, он точно знал, что власть в России на его веку не станет лучше. Нынешняя власть и вообще нынешнее положение дел довольно точно соответствовали желаниям и представлениям о благополучии абсолютного большинства российских граждан. Колькины слова только подтверждали его соображения.
Колька продолжал чем-то возмущаться в избушке.
Утром, светя фонариками в холодной темноте, разгрузили сани, увязанные для другого зимовья, и Жебровский на снегоходе повез мужиков к машине. Светало. Дорога шла стланиками, иногда взбиралась на каменистые гривки, и становилось видно далеко окрест. Белые высокие горы за спиной, поднимались из серого мрака долин все выше. Далеко впереди, за широкой заснеженной долиной Юдомы, вставал такой же высокий в скалистых изломах хребет Сунтар-Хаята. Местами дорога шла болотистыми топями, засыпанными снегом, и видно было, как дядь Санин «Урал» тонул вчера и греб мостами черную жижу. Жебровский аккуратно объезжал подмерзшую грязь, с невольным уважением думая о бесстрашии мужиков, рисковавших совсем утопить машину. В одном таком месте он остановился вычистить грязный лед из гусеницы.
– Обратно-то как, пройдете? – спросил дядь Сашу.
– Посмотрим, – тот как раз глядел на черные, метровой глубины колеи, слегка припорошенные снегом, – тут-то по кустам вон объеду…
Вдоль реки по лиственничному редколесью дорога пошла по твердому. Местами видны были следы от больших камней, оттащенных мужиками, да немногие молодые листвяшки были спилены или повалены бампером.
Колька сразу полез под капот «Урала». Жебровский повесил подмокшие варежки на ручки снегохода, достал сигарку и спустился к воде. Шла шуга, река неторопливо, с шипеньем и потрескиваниями несла снежную кашицу, черные камни в русле обледенели белыми шапками. Течение торосило на них шугу, иногда ясно слышались тихие звоны осыпающихся острых льдинок. Солнце поднималось из-за хребта, откуда они приехали, светлым пятном пробивалось сквозь морозную дымку. Дядь Саша вышел из лесочка с охапкой черных шишковатых лиственничных веток и стал устраивать костер над речкой. Небо над головой было чистое, хоть пей. Жебровскому хорошо вдруг сделалось, внутри все заулыбалось тихо, вся душа. Так бы и сидел тут на берегу, думал он, прихватывая ноздрями смолистый дымок от дядь Сашиного костра. Поваренок что-то тихо напевал под капотом, а иногда негромко беседовал с мотором.
Договорились, если к вечеру не приедут, Жебровский за ними вернется. Илья бросил недокуренную сигарету, достал пачку и, вытащив несколько штук, протянул наверх: «Коля, держи!». Поваренок высунулся из-под капота, аккуратно, чистой стороной ладони прихватил хрупкое курево:
– Благодарствуем!
Вроде уже и некуда было, а настроение поднималось, новая «Ямаха» рвалась в бой, снега было как раз и ручьи местами хорошо подмерзли. Через два часа Жебровский подъехал под голец. Заглушился, взял карабин и дальше полез пешком.
Вершину гольца венчали два скалистых останца. Илья сел на сухую травку под верхним. За этот вид, за необозримый простор он и любил это место. Люди когда-то были птицами, думал, глядя сверху, и много смотрели так на землю, поэтому нам это и нравится.
Сам провал перевала, по которому они сюда пробивались – все было как на ладони. Он представил себе крошечную точечку их «Урала», долго ползущую продуваемым снежным полем между двумя двухтысячниками. Только в бинокль его и можно было рассмотреть отсюда.
Вспомнился рассказ Кольки, как пережидали пургу в стланиках. Как они будут возвращаться, – пытался представить себе Илья, – вдвоем на старом «Урале»? Но против его воли представлялись ему не замученные, а довольные дядь Саша и Колька, дымящие в окна. Какой же силы любовь к такой вот жизни надо иметь! Какие навыки, обретенные через риск и риск, какое уменье сохранять себе жизнь в аховых ситуациях! Откуда вообще эта страсть к тяжелой первородной жизни! К этим вечно суровым горам и речкам! Их же никто здесь не держит. И дело вовсе не в этом левом пути в Якутию… У дядь Саши вообще нет никакой икры, и вывозить ему нечего. Не согласны они с тем, что происходит. Это их нелепый путь к свободе.
Абсурд… абсурд, вертелось в голове. Какие-то далекие отсюда люди, может, и без злого умысла, но и не думая, заставляют других людей делать тяжелое, никому не нужное и рискованное дело. Они же не враги друг другу.
Он с жалостью оглядывал гигантское, никак и никогда неохватное пространство гор и тайги, вспоминал отчего-то свой богатый подмосковный дом и восьмикомнатную квартиру на Гоголевском бульваре… И ему ясно было, что меж теми людьми, что смотрят на небо из московских кабинетов, проводят вечера в московских ресторанах… распоряжаются лицензиями на рыбалку, охоту и золото… и дядь Сашей, гремящим сейчас по тайге старым железом, нет ничего общего.
Ни Бога, ни царя, ни даже любимого вождя…
Те далекие московские люди, взявшие на себя так много, даже не догадываясь о существовании какого-то дядь Саши, хотели, чтобы он на них работал. Чтобы Поваренок с его четырьмя детьми браконьерил…
Какая старая, какая бесчестная фигня…
9
Генка поднимался в зимовье на Эльгыне. Капканы открывал по путику. Две недели почти прошли, как он заехал, многое уже было налажено, только этот верхний участок оставался нетронутым.
Здесь в верховьях снег по ключам был глубокий, и приходилось отстегивать нарты и торить дорогу на пустом «Буране». Потом за нартами возвращался. В них лежало оленье мясо, мешок с приманкой, бензопила, пластиковые канистры с плещущимся внутри бензином, мелочевка кое-какая. Все шло неплохо, два десятка зверьков из-под собак добыл. Он торопился обустроить эту последнюю избушку и плотно заняться с собаками – соболя было нормально.
Только к трем часам добрался. Уставший, как пес – путик в нескольких местах был завален, пришлось попилить. Отцепил нарты, укатал снегоходом наметы возле избушки, спуск к ключу за водой, и наконец, заглушил двигатель. Шапку снял, вытирая пот и прислушиваясь к тишине. К вечеру ветер совсем стих. Снег шелестел, падая, и в ушах звенело после «Бурана».
Генке нравилось это место. Другие его избушки стояли по ключам и речкам, впадающим в Юхту и везде взгляд упирался в высокий противоположный берег или просто в тайгу. Все места были неплохими и уютными, здесь же был простор. Прямо от зимовья далеко вниз просматривались оба лесных борта кобяковского Эльгына. Влево за каменистым, заросшим стланиками водоразделом были верховья Генкиной Юхты, а направо, на запад, тоже за невысоким перевалом начиналась якутская сторона с ее тундровыми плоскотинами и Генке казалось, что он видит и их.
Здесь сходились границы трех участков – Генкиного, Саши Лепехина, а теперь, получается, Москвича и Степана Кобякова. Кобяковская избушка стояла километрах в семи вниз по Эльгыну, а это зимовье было их с Сашкой. Случалось, вместе тут ночевали, договаривались по рации, но чаще врозь, охота есть охота, писали друг другу записки. Был тогда-то, ночевал, ушел туда-то. Лепехин любил прибавить какой-нибудь стишок про тайгу или охоту. Генке нравилось.
Он заносил в избушку вещи, вспоминал, жалея Сашку, и думал, что жизнь взяла и сделала ему такую странную замену. Сашка был свой в доску мужик. Москвич в этом году еще не был. Дверь открыта и подперта колом, снегу намело внутрь. На месте печки – развороченная основа из камней. Генка огляделся, обошел вокруг, печка-полубочка лежала под бугром в кустах, с одного бока засыпанная снегом. Медведь скатил и там, видно, исследовал, а может, просто толкнул вниз и смотрел, как катится. Генка, матерясь довольно – печка была целая – вытряхнул из нее таежный мусор, и, взвалив на плечо и поскрипывая болтающейся дверцей, полез в горку. Генка никогда не злился на это дело – по одним тропам ходили с косолапым. Один – всю зиму, другой – все лето. Весной мишка мимо не пройдет, разберется по-хозяйски, проверит обязательно. Поэтому и постель и окна, в которых сохранились стекла – все подвешивалось под крышу.
Он достал топорик из буранова сиденья, выправил свернутую набок дверцу печки, стук под снегопадом был глухим, недалеко разносился, поставил ее на место в углу зимовья и насадил трубу. Дрова тоже были разбросаны, мышей, что ли, под ними причуял косолапый, Генка набил печку поленьями, подложил бересты, разжег и полез под крышу за постелью.
Уже совсем стемнело, когда он все поделал – мясо и рыбу залабазил, прибрался, отогревшуюся медвежью копанину разровнял топором, поменял в рации питание.
Он зажег лампу, подвесил и разложил по полкам продукты, снял с огня булькающее собачье варево из рыбы и овсянки и вынес на улицу. Айка вертелась возле ног и задирала верхнюю губу в сторону Чингиза. Тот спокойно стоял в стороне, хорошо зная, что мисок все равно будет две. Генка посветил фонариком на градусник, минус двенадцать было, снег в лучах только казался густым. Стихает, – понял и довольный зашел в зимовье.
Достал из мешка замерзшего, скрюченного глухаря и пару куропаток, добытых по дороге, топором искрошил птиц на куски и сложил в полиэтиленовые пакеты. Развесил все за печкой. Обнюхал пакет с рябчиками, которых еще на базе начал квасить, но хорошего запаха пока не было. Генка снял миску с разогревшимся супом, отрезал кусок неотмерзшего еще, вязкого хлеба и сел есть. Рацию включил. Подстроил.
Рация была Сашкина. Раньше и у Генки было три штуки – на базе и еще в двух зимовьях, но потом – оказия подвернулась – взял себе телефон спутниковый, а рацию оставил только на базе.
Рация подвывала, булькала и свистела, «Тунгус» – Вовка Смолин – разговаривал с «Гамызой» – с Витькой Сабашниковым по кличке «Гамыза». Закадычные были дружки и соседи, каждый день связывались и не раз за охоту бегали друг к дружке в гости – участки у них были рядом.
Генка и в жизни был молчаливый, а уж трепаться по рации совсем не любил – почему-то стыдно становилось, что его все слышат – и его редко кто вызывал. Трофимыч иногда, когда еще промышлял, Поваренок бывало зачем-нибудь разыскивал, тот не охотился, но поболтать любил – каждый день выходил на связь. Генка съел суп, попил чаю и начал зевать. Он и упал бы уже, да матрас был влажный, и он терпел, время от времени пробуя его рукой. Наконец, когда очередная закладка прогорела, он вышел отлить и на обратном пути захватил пару листвяжных получурок. С трудом, подкручивая, запихал их в печку.
Зимовье на всю ночь все равно не натопишь, осенью – еще куда ни шло, а зимой бесполезное дело. Горят дрова в печке – жарко, впору париться, прогорели – холодом потянуло изо всех щелей и промерзших углов, поэтому и кладут на ночь толстое, да сырое, чтобы не горело, но тлело, шаяло, как говорят в Сибири, поддерживая тепло.
Генка уже перестал обращать внимание на болтовню рации, когда услышал вдруг свои позывные – «Каменный», «Каменный», ответь «Берегу». Это была Верка. Генка нахмурился, они два дня назад разговаривали, подсел к рации.
– «Берег», «Берег», я – «Каменный». На приеме…
Верка его не слышала, продолжала вызывать. Генка посмотрел на индикатор, попробовал поднастроиться, ничего не помогало – три лампочки горели, показывая, что связь хорошая. Жена разговаривала с кем-то из охотников, просила, чтобы тот попробовал связаться. Охотник хохотал, Генка, мол, теплую берлогу нашел с толстой медведицей, соболей забросил… По их разговору понятно было, что дома все нормально, и Генка, полезший было за телефоном, не стал звонить, у него остался всего один заряженный аккумулятор на всякий стремный случай, а генератор был только на базовой избушке.
Он всегда засыпал быстро, а тут ворочался, слушал, как труба тихонько гудит, как шипит и стреляет сырая лиственница. Думал о том, что дома делается. Представлял крепенького белобрысого Лешку, бегающего по теплым светлым комнатам в одних трусах и шерстяных носочках. Телевизор, наверное, смотрят, уже поужинали. Мишка-то… да нет, дома все было в порядке. Наверное, калым какой-нибудь подвернулся на январь, вот и звонила – брать – не брать… Вспомнил, что несколько дней назад в поселке был какой-то шухер, мужики по рации толком ничего не говорили, Верка сказала только, что Кобяк схлестнулся с ментами и ушел в бега. Какие бега? Не очень понятно было, да Генка и не очень интересовался, дел было по горло, но теперь вспомнил и задумался. Чего Кобяк мог не поделить с ними? Никакого бизнеса у него не было… И семья нормальная – две девки…
У Генки с Кобяком, хоть и соседи, на одной улице жили, никаких отношений не было. Никогда тот ни о чем не просил – захватить по пути что-то, подбросить, с продуктами или бензином помочь, как это часто делал Сашка Лепехин, живший на другом конце поселка. И Генка Степана ни о чем не просил.
Был, правда, у них лет пятнадцать назад случай. Или даже двадцать. Давно было, Генка только охотиться начинал.
Граница их участков шла по водоразделам и речкам, и везде была ясной. Только в одном месте в истоках Талой и Они было непонятно. Речки эти были необычные, они начинались, как одна, болотистая и медленная, она едва текла высокогорной плоскотиной вдоль хребта, потом, свернув вниз к Эльгыну, расходилась на две долинки. Так дальше и бежали Оня и Талая параллельно друг другу по участку Кобякова.
Самые верха, до того, как им разойтись, как будто были Генкины. Места высокие – россыпи, да стланик, и скорее всего небогатые и он поставил на пробу пяток капканов. Через месяц только заехал посмотреть. Капканы были сняты и повешены одной кучкой на путике, так, что Генка понял, что верховье речек не его. Это было странно – и в акте на закрепление угодий они были обозначены, как Милютинские, и своих капканов Кобяков там не ставил, а Генкины снял. Генка не стал спорить. И молодой был, и спорить было не из-за чего. Его только удивило поведение Кобяка. Ни по рации ничего не сказал, ни потом, встречаясь и здороваясь в поселке. Девчонок, кстати, у Кобяка звали Таля и Оня, может, поэтому.
Что же у него там могло произойти? Да еще с ментами? Генка понял, что не уснет, зажег лампу. Поставил в телефон едва живой аккумулятор и стал надевать штаны – телефон ловил только снаружи.
Через полчаса он уже сильно жалел, что позвонил. Подбросил в печку дров, чайник поставил. Закурил. Верка сказала, что Тихий заезжал, просил съездить к Кобяку на участок с телефоном. Чтобы Кобяк связался с ним. Сказала, что Кобякова с икрой накрыли, и что он сейчас у себя на участке. Больше ничего не успела – аккумулятор сдох окончательно. Генка сидел, наморщив лоб. Дел было невпроворот, время золотое, а тут… Это из поселка кажется, взял, да и съездил, а где его искать? Неделю потеряешь, бензину нажжешь. Чайник загундел на печке. Генка налил кружку, сахару положил четыре ложки и опять задумался. До ближайшего Степанова зимовья недалеко, можно съездить. Если не завалено, за пару-тройку часов обернешься, а если он тропы накатал вдоль Эльгына, вообще – дрянь делов.
Снег кончился. За ночь завернуло покрепче, больше двадцати, самая погодка для охоты. Генка провалялся до семи, можно было и по темноте выехать, но на незнакомом участке не рискнул, поел плотно, подбросил дров, чтобы избушка не выстыла, и вышел к «Бурану». Светало потихоньку. Увидел, что вчера помял защиту – ветровое стекло он снимал сразу, с нового еще «Бурана», и ставил на его место оцинковку – отвинтил гайки, вынул замятый лист и отстучал на чурке обухом топора. Вернул все на место. Канистру бензина привязал. Пока работал, рассвело. На небо глянул – солнца сегодня никто не обещал, а вот снег почти наверняка будет. Уходит время, собаки скоро брюхом зачертят по снегу, не походишь с ними. Он замотал ключи в тряпку и сунул под сиденье.