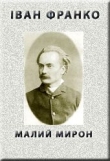Текст книги "Воля вольная"
Автор книги: Виктор Ремизов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Дядь Саша подъехал. Не стал загонять «Урал» во двор. В проулке оставил. Колька ввалился в дом с двумя клетчатыми китайскими сумками. Копченые рыбьи хвосты торчали, коричневые горлышки пивных полторашек, поджаристая жопка белой буханки. Свежим хлебом запахло.
– Наливай, маманя, щёв, я привел товарищёв! – громко пропел, ставя сумки на стол и торжественно поглядывая на Жебровского. – А, Москвич! Новый мост обмыть надо! А то дядь Саня орет, ехать, мол, прямо сейчас! А, дядь Сань, – обернулся он на входящего товарища, – езжай, куда раздеваешься, на хрен?!
Колька совсем не был наглецом, скорее даже наоборот, но отчего-то, может, из-за маленького роста, а может, как раз из-за внутренней скромности, всю жизнь изображал из себя человека бесцеремонного и бичеватого. Дядь Саша, снявший было куртку, посмотрел на Жебровского:
– А что, может, поехали? – прищурился азартно.
Жебровский удивленно глянул на темное окно, потом на часы.
– По дороге пожуем, в Эльчане переночуем…
Кольку никак не устраивал этот вариант. Он ловко пластал текущего жиром копченого кижуча, командовал Жебровскому банку открыть и наловить в ней огурцов и еще успевал про своего младшенького рассказать. Кольке было сорок пять, а его младшенькому полтора, но они были корефаны – не разлей вода, куда я, туда и он, суч-чий хвост… гвозди уже забивать умеет!
Вскоре в центре стола в большой миске парила картошка, облитая вонючим подсолнечным маслом, копченая рыба, аккуратно порезанная быстрыми Колькиными руками, золотой и красной горкой «отдыхала» на газетке, домашние огурцы и капуста квашеная в разнокалиберных тарелках. Дядь Саша у кухонного стола доделывал салат из мелко нарезанной подкопченой нерки. Нярки, – как он ее называл. С луком и подсолнечным маслом. Жебровский порезал хлеб, достал водку из морозилки.
– Чтоб у тебя вся машина рассыпалась, а мост все ездил и ездил! – Колька шмыгнул длинноватым носом, чокнулся, подмигнул Жебровскому и, «культурно» оттопырив пальцы от рюмки, выпил.
Лицо Поваренка, рябое от прыщей и шрамов, и всегда, даже в январе коричневое от солнца и ветра, поморщилось, почмокало довольно губами и скосило нагловатые глаза на дядь Сашу.
– Э-э, – махнул рукой дядь Саша, – я…
– Хрен ли уж, пей давай… – Колька был доволен сегодняшним днем и тем, что так все хорошо кончилось. – Попрем завтра, ничего вроде идет, не гремит…
– Ну, – согласился дядь Саша.
В этот момент у соседей на улице раздалась ругань, поток бессмысленного, захлебывающегося яростью мата, потом звон таза, еще чего-то металлического об забор, опять громкий и корявый мат. Потом завелся мотор, и машина с ревом выкатила со двора.
– Всё, уехал Иван, с обеда сегодня воюет со своей. – Прокомментировал Колька, наливая по второй. – Чего, не нравится дядь Санин салат?
– Я не пробовал еще… – ответил Илья.
– Ешь, только у них в бригаде такой делают. Кто придумал-то, дядь Сань, я забыл?
– Женька Московский. Тоже, кстати, москвич был, – объяснил дядь Саша Илье. – Поваром приезжал работать в бригаду. Лет десять, наверное, ездил каждое лето. Хорошо варил!
– И что? – Заинтересовался Жебровский.
– Да хрен его знает, давно уж его нет. Не приезжает.
– Бизнес, может, завел, – вставил Колька, всем видом показывая, что дело это говенное.
Жебровский второй год наблюдал, как мужики не принимали его за своего. По имени не называли, а кличка была пренебрежительная и подчеркивающая разницу – Москвич. Не то чтобы ему очень хотелось, чтобы его приняли, но непонятно было, от чего это вообще зависит. Вел он себя спокойно, одевался неброско, слушал их советы, водку с ними пил, деньгами не сорил. Возможно, они из гордости не могли признать, что какой-то москвич может так же, как они, жить и охотиться в тайге.
Это нарушало представление местных об устройстве мира. Москвичами в их понимании могли быть только те капризные, зажравшиеся люди, что с жиру день и ночь скачут по телевизору, а они, это были они – умелые, бедные и веселые. Даже китайцы были понятнее и ближе москвичей.
Мужики закусывали в охотку, наморозились за день, дядь Сашин рыбный салат был действительно вкусный. Поваренок дожевал, вытер руки и пристально, с дураковатым выражением уставился на Жебровского.
– Что? – не понял Илья.
– У нас рыбу без водки только собаки едят!
Илья улыбнулся и потянулся за бутылкой. Выпили. Поваренок ловко снял зубами рыбу с кожи, заулыбался, жуя и вспоминая что-то:
– Ты говоришь, мост передний… – потрогал он Жебровского обратной стороной ладони, не испачканной в рыбе, – у нас тут, в прошлом году, да, дядь Сань? Такая вышла ерунда… Ехали мы на этом «Урале» в конце октября, так же вот… выезжали уже, машина икрой забита под завязку. Нас в кабине трое, Андрюха Слесаренко и мы с дядь Саней. Короче, к перевалу тянемся, едем себе покуриваем, зимовье на другой стороне под перевалом, должны до ночи успеть. Ну вот… а погода все хуже и хуже, на перевал заползли – снежище уже валит – капот не видно! Все ровно вокруг, голо, ни кустика – ни хрена не понять, и, главное, перевал там длинный. Я из кабины спрыгнул, думал, может, ногами лучше пойму, куда там – пурга прямо с ног валит, ничего не видно.
Колька вытянул «Приму» из пачки, посмотрел на дядь Саню.
– А? Дядь Сань? Сидим, короче, в кабине, ее насквозь продувает, что делать? Ну, поехали на дурака, думаем, если вниз начнем спускаться, там уже можно будет ногами поискать – за перевалом дорога опять между стланиками шла. Что-то ездим-ездим, не знаю уж как, может, и кругами, потом чувствуем – спускаемся. Андрюха пошел глядеть, возвращается минут через двадцать, прикинь – мы уже похоронили его. Не то место, – говорит, – бесполезно дорогу искать, не отличишь, где просто заманиха, а где проезже.
Подъехали к самым стланикам – надо чего-то городить, не в «Урале» же сидеть. Стланик наверху, на перевале, сам знаешь, мелкий, не спрятаться, ничего. А снега уже навалило по яйца, давай мы таскать по этим корягам барахло вниз по расселине. Андрюха нашел хорошее место – ямку такую ручей выгреб из-под стланика, над нами почти полностью крыша получилась, уже снегом заваленная. Ну, мы там подпилили, красоту навели, лежанки поделали, я лопатой все дырки снегом закидал. Только с дровами херово – не в лесу же. Набрали мелочи, да досок из машины принесли…
– Все борта мне пожгли… – вставил дядь Саня довольно.
– Чего сидите, наливайте! – скомандовал Колька и сам же стал разливать. – Двое суток сидели, хорошо не холодно было, градусов десять-пятнадцать, может, да, дядь Сань.
– Ну, – кивнул дядь Саша, – ты лучше вспомни, как бутылку потерял.
– Я потерял! – возмутился Колька. – Андрюха! Короче, была у меня в заначке пластиковая полторашка хорошей гамызы градусов семьдесят…
– Здорово, мужики… – в избу, нагибаясь, входил высокий и сильно худой старик.
– Здорово, Трофимыч, к столу как раз! – радостно заорал Поваренок, сунул ему руку и пододвинул табуретку. – Тяпнешь, с нами?
– Не-е, пейте. – Трофимыч сел и положил на стол большую крюковастую руку.
Глядел, как мужики пьют и морщатся.
– Вы уж все, что ли? Сложились? – обратился Трофимыч к дядь Саше, когда тот поставил кружку на стол.
– Ну…
– Меня-то еще не возьмешь? – Дед почему-то говорил хмуро.
– Куда тебе? – Дядь Саша перемешал остатки салата и зачерпнул ложкой.
– На мой участок. Ты меня возил, когда… – Дед замолчал сурово глядя на дядь Сашу.
Дядь Саша прожевал, облизал губы, усы отер, прикидывая, как изменится маршрут. Все примолкли. Поваренок тоже соображал что-то, с удивлением глядя на старика, Жебровский напрягся, боясь, что опять может отложиться.
– У меня немного. Я да кобель, да четыре мешка барахла… До Генки меня только, а там он на «Буране», я с ним вчера по рации говорил.
– Что там, снег есть? – спросил Жебровский.
– Не особо. По верхам только… – ответил дед, едва взглянув на Жебровского.
– У меня, значит, есть, – обрадовался Илья.
– Ну, Генка говорит, на якутской стороне снега полно, а у нас с ним, на Юхте нет. Дак что? – опять обратился он к дядь Саше.
– Не знаю, Трофимыч, как вон, Москвич скажет… да и ехать-то как? В кабине нет места больше.
– Это ладно, до Медвежки если, там двести верст всего? Я и на шмотках могу, сверху. – Колька наливал водку, щуря глаз и делая вид, что налить ровно его интересует никак не меньше. – Тулуп есть… Ну, давайте!
Закусили. Дядь Саша потянулся к Поваренковской «Приме».
– Моих попробуй, – предложил Жебровский.
– У тебя тоже без фильтра? – дядь Саша взял пачку в руки, понюхал, вытянул сигарету.
– С Кубы выписываю. Настоящий табак. Бери! – предложил и Кольке.
Закурили втроем.
– Ты давно уж не был у себя, Трофимыч! Тяжело будет! – Колька наливал себе пива в кружку. – Капканья заржавели, небось, взял бы кого в напарники.
Трофимыч не отвечал Поваренку. В нем не было той радостной, нетерпеливой лихорадки, что трепетала в Жебровском. В нем, казалось, вообще мало осталось эмоций, только хмурая решимость ехать. И мужики это чувствовали. Может, и не понимали – Трофимыч с виду все-таки слабоват был для охоты, – но и отговаривать не смели. Глядел дед колюче.
Помолчали.
– У тебя вещи дома? – спросил дядь Саша.
– Ну. Заедете, что ли?
– Заедем, чего же…
Лицо Трофимыча, худое, в глубоких морщинах, давно не бритое и обросшее белой щетиной, не изменилось, но вздохнул он облегченно, посмотрел на Жебровского:
– А ты на Сашкином месте? – спросил, будто маленько извинялся, что набился в попутчики.
– Да…
– Хороший участок, маловат только, а так Сашка-то рукастый, царствие небесное. Я бывал. Сходились иногда: Генка Милютин, Сашка, да я. – Дед вдруг ощерился малозубым ртом и заблестел глазом: – Раз дня три пьянствовали! Хороший год был. Мы пьем сидим, а у нас соболя ловятся – во как бывало! У Сашки бражки было две фляги, так всю уели, мать ее…
Дед замолчал. Потом стал подниматься.
– Ну ладно, пойду… кобеля проверю, чтоб не ушел куда, давайте… – Трофимыч подал всем руку, – а то я своих разогнал, не пускают, старуха с дочкой… ревут, мать их!
Трофимыч натянул шапку на уши и, застегивая ватник, вышел.
– За семьдесят уже, а тянет в тайгу… – Дядь Саша задумчиво глядел на дверь, закрывшуюся за Стариком. – Всю жизнь в лесу, а все равно…
– Привычка, видать… семьдесят два ему. – Колька сунул в рот очередную сигарету.
– Я ни разу не охотился… так чтоб вот. И не хотелось. Никакого простора. На море могу хоть месяц смотреть, а в лесу мне скучно. А Трофимыча в лес тянет. Я раньше думал, что человек к старости тупее как-то становится, – ни хрена. Так иной раз завернет, – дядь Саша развел руками, – ой-ёй-ёй! Аж башка кружится. В молодости не было такого.
– А с Полинкой у тебя тоже башка кружится?
Дядь Саша глянул на Поваренка, тот, похоже, не шутил.
– Такая херня бывает, Коля, думаешь, сейчас сердце захлебнется от кровяной волны и встанет. Особенно когда ее нет рядом. Дети же у меня, внуки… тоже вроде, но не так. – Дядь Саша замолк. – Меня до нее никто не любил. Нина-покойница? Жили нормально… Не ругались, а только не было такого, привыкли просто… Иногда проснусь ночью, гляжу на Полю и думаю, что это такое – я же в два раза старше. Думаю, может, просто мужиков молодых нет путних, да ведь есть же. За ней сколько народу ухлестывало. Вертолетчик этот из Николаевска. А? Как она со мной, почему?
– Да-а… – Колька забылся и достал сигарету из пачки, хотя его кубинская дымила в пепельнице. – Вот и Трофимыч, видно, так. Может, она ему тоже никогда не изменяла?
– Кто? – нахмурился дядь Саша.
– Тайга! Вот он от своей старухи и бежит к ней.
Мужики сидели молча, думая о своем. Печка трещала сырыми листвяными поленьями, да Колька отстукивал по спичечному коробку.
– А у тебя… – поднял Поваренок взгляд на Илью, – что же жена твоя… отпускает тебя?
Жебровский внимательно их слушал и думал о чем-то, ответил не сразу:
– У меня жена почти ничего из того, что я люблю, не любит… Вот такую вот простую жизнь, имею в виду… – он покачал головой, – ей это кажется примитивным.
– Взял бы разок в лес с собой… не на сезон, а вот так… – Поваренок задумался, как можно взять с собой бабу в лес. – Ну, там… за грибами сходить, ухи наварить… на выходные, короче!
– И чего? – не понял дядь Саша.
– Чего… – Колька и сам не понял, чего хотел: чтобы та московская баба полюбила тайгу или наоборот… – А ты сам-то чего хочешь, чтобы она с тобой, что ли, ездила?
– Да нет, конечно… – Жебровский улыбнулся, – но… я же тоже с ней почти всю жизнь прожил. Меня в прошлом году не было почти четыре месяца, она вроде и соскучилась, а на другой день уже все. Как будто и не охотился. Не расспросила ничего… даже фотографии не посмотрела.
– Моя тоже никогда не спрашивает. Да и что ей рассказывать? Как вот мост, что ли, меняли? Или как невод таскали? Никогда это бабе не будет интересно, даже не думай. Уехал, все – привет, вернулся – слава Богу.
Дядь Саша, молча их слушавший, достал папиросу и подсел к печке:
– Поля меня обо всем расспрашивает, я даже иногда думаю, не ревнует ли? И всегда сама меня собирает. – Дядь Саша посмотрел на мужиков. В глазах было и удивление и мелкая похвальба. – Никогда Нина-покойница не собирала, она и не знала, где что у меня лежит. А эта все знает, никогда не забудет ничего! Сам-то всяко-разно забудешь, а Поля нет. И всегда меня ждет, вот что! Когда бы ни приехал, как будто знает, что буду. Все у нее готово, всегда рада.
– Ну ясно, одна-то сидит, ни детей, ничего, чего ей еще делать. А у моей – трое. – Не без ревности подытожил Колька.
– Тут дело в другом, моей жене совсем не интересно то, что интересно мне. Ей и себя хватает. Там, на материке, все уже чуть по-другому… – пояснил Жебровский.
– А где работает? – перебил Поваренок.
– Она искусствовед. – Жебровский сказал и глянул на Кольку.
– Да может, у нее есть кто? – то ли нахмурился, то ли улыбнулся Поваренок. – Воля, она и добрую жену портит… Дело житейское.
– Ну-у… – Жебровский взял кружку, заглянул в нее, – я не думаю…
– Думай, не думай, оно само собой заводится, на хер это дело, вернулся домой, все нормально? Значит, и хорошо. Ничего не надо думать. Уезжаешь на три месяца свои удовольствия справлять, а она что, сдохнуть должна?
Колька посмотрел на дядь Сашу, ища поддержки, но тут же понял, что не по адресу обратился, и все же он очень доволен этой своей смелой мысли был.
– Сами-то… – Повернулся к Жебровскому. – Не святые небось, что же бабы должны терпеть?
Жебровский пожал плечами. Дальше ему явно не хотелось говорить.
– Что-то ты, Поваренок раздухарился, искусствовед херов. Сдохнуть они должны… никто без этого еще не подох, – передразнил дядь Саша. – В прошлом году в бригаде каждый день со своей трещал. Две рации с собой взял, чтоб, не дай Бог не сломалось. Каждый день, утром и вечером, – Кивнул он Жебровскому.
– У меня Колька маленький тогда был… – подскочил Поваренок, – годика не было.
– Так, может, и Колька не твой? Тебя ж по полгода дома не бывает? – Дядь Саша хитро смотрел из-под лохматых бровей.
– Вот собака, гад! – выругался Поваренок беззлобно и, повернувшись к Жебровскому и тыча пальцем в дядь Сашу, добавил: – Он моему Кольке крестный батька…
– А ты не заговаривайся. Ждет моя меня, и нормально. И я никуда не озираюсь! Никак по-другому и быть не должно. Тут все правильно устроено.
– Ну а если она маленько того… маленько «посмотрит» на кого, что, убудет от нее?
– Убудет, – сказал дядь Саша спокойно и внятно. – Он поднялся с корточек от печки, и Жебровский опять удивился, какой он крепкий. – Все это знают, Коля. И ты своей каждый день звонил, потому что она каждый день ждала. – Дядь Саша сел за стол. – Вот яблоко, – он взял в руки краснобокое яблоко, – красивое! Плотненькое, в нем жизни полно, пока оно целое… а ковырни его ногтем, чуть-чуть ковырни… Через два дня выбросишь!
Дядь Саша осторожно положил яблоко в миску.
– Все это знают, и все ковыряют, – философски заметил Колька.
– Почему ковыряют-то? Вот вопрос!
– Да себя, видно, любим, от этого всё… – Поваренок потянулся за бутылкой, – что-то не пьем ни хрена…
– Это понятно…
Разговоры о смысле жизни не способствуют пьянству. Мужики покурили, обсудили что-то незначащее на завтрашний день и, хотя собирались ночевать у Жебровского, разъехались. Дядь Саше что-то понадобилось дома, Поваренок… все равно, мол, мимо меня поедешь… и Жебровский остался один.
Он неторопливо убирал со стола, мыл посуду, думал о странной, непонятно на чем основанной уверенности дядь Саши, о его Полине, пытался представить их жизнь здесь, невольно представлял свою жену здесь в этом домике, и ему становилось непонятно и смутно на душе. Голова, как заглючивший компьютер, выдавала набор картинок: пустой лондонский дом, пустая почему-то московская улица с мелким дождичком, утреннее, зимнее парижское кафе… Везде было скучно, везде он был один, ничего не делал, и ему ничего не хотелось делать. Он хмурился, звал на помощь белое спокойствие своего участка, гор и тайги. Но почему-то и туда не хотелось.
5
Степан Кобяков был чуть выше среднего роста. Крепкий, большерукий, как все промысловики, и молчаливый с вечно не то угрюмым, не то внимательным, но недолгим взглядом из-под лохматых бровей. Лицо самое простое, неброское, нос небольшой картошкой, темно-русые волосы. Не было в нем ничего красивого или просто приятного. Во взгляде всегда одно и то же – ровное спокойствие, не допускающее ни соплей, ни ругани, ни лишних слов. Не понять по нему было – доволен он, нет ли. Когда ему было интересно, слушал внимательно, но вопросов не задавал, компаний ради компаний не признавал, и пьяным его никогда не видели. Всю жизнь, сначала с отцом, а с семнадцати лет один промышлял в тайге, на своем участке – все у него было свое, и все исправно работало. Он был закоренелый одиночка, и его невольно уважали, может, кто и недолюбливал за обособленность от людей, но уважали. В конце концов, плохо он никому не делал.
Может, такой вот матерый мужик и составлял когда-то основу русской породы, не могли же лодыри да пьяницы отломить, а потом еще и освоить полмира…
Больше всего Степан походил на портового грузчика, плечи и ноги которого будто созданы были для неторопливой, с покряхтыванием, тяжелой ноши. Такие люди обычно не очень ходоки, но Кобяков был легок на тропу. Под тяжелым рюкзаком и уставший – вторые сутки уже не спал – он ходко шел вдоль Рыбной. Пойма была широкая, где пять, а где и все десять километров, со многими рукавами, островами и большими галечными косами. Тальниками заросшая, на высоких местах старыми тополями. Хорошей тропы вдоль реки тут и быть не могло, Степан обходил заломы и перебредал рукава, но по дороге, которая в нескольких километрах отсюда тянулась открытой тундрой, идти ему было нельзя.
У Манзурки чуть не столкнулся с мужиками. Те сидели под берегом на поваленном дереве и потихоньку выпивали. Костерок горел. Водитель по старинке клеил пробитое колесо. Степан взял собаку на поводок, вернулся и обошел лесом.
Как зверь инстинктивно сторонится неприятностей, так и он избегал людей, совсем, может, ему и безвредных, и уходил все дальше и дальше, отстаивая право на свободу. Не раздумывая, столкнул он тот уазик со своей дороги, и так же шел сейчас. Перед ним, впереди, была свобода, за ним же… Что было за ним, он не думал. Сто из ста гадали бы, что там теперь делается и каким боком вылезет, Степан же, как горбатый якутский сохатый, пер своим курсом. И этого было достаточно.
Он чувствовал свою правоту не только перед ссаным майором, который полез в тягач, но и перед ментами вообще. Он презирал их, думал о них, как о мышах, шуршащих ночью по зимовью. Взять они его не могли. Никак.
Что же касается государства, то тут Степанова совесть была совсем чиста. Государство действовало безнаказанно и о грехах своих никогда не помнило. Он знал за ним столько старых и новых преступлений, что не признавал его прав ни на себя, ни на природу, о которой это государство якобы заботилось. Он знал цену этой заботы.
Так, ни разу не поев, шел до вечера. Солнце час как село на якутскую сторону за Юдомский хребет, и сначала заиграло закатными красками, потом погасло, и цвета ушли к Степану за спину на восточный склон неба. Перебрел протоку, остановился на мысочке острова, заросшего лесом. Сбросил рюкзак и стал внимательно смотреть на окрестные вершины. Он прошел больше сорока километров. До ближайшего зимовья на его участке оставалось примерно так же. Надо было обойти деревню и потом… он думал, идти ли своей тропой, которую еще Степановы деды пробивали на участок, или… нельзя было идти этой дорогой. Ей пользовались деревенские. И через соседский участок – тоже нельзя, Генка Милютин обязательно поймет, что к чему. Степан решил идти верхами, так было дальше, но так его никто бы не вычислил.
Он действовал как старый зверь, уходящий из загона. Шкурой понимающий, что надо исчезнуть для охотников. Отстояться, выйти вбок или как-то еще, но нельзя попадаться им на глаза. Самым опасным будет первое время, недели две, не больше. Потом инстинкт погони слабеет. Вспомнив про Генку Милютина, Степан, может, первый раз в своей жизни подумал, как к нему теперь относятся мужики. Знают уж все, конечно, по рации обсудили.
Костер разгорался. Карам притащил с реки здорового зелено-малинового кижуча и с хрустом грыз его хрящеватую голову. Рыба, без мозгов уже, с перекушенным хребтом временами начинала колотить хвостом, стараясь уплыть. Степан, широко зевая, нехотя доел тушенку, бросил банку в костер и сел спиной к дереву, накрывшись спальником. На ногах были зимние «шептуны» на толстой войлочной подметке, под задницей варежки и росомашья ушанка, карабин стоял у бревна. Он еще притирался спиной к дереву, а нос уже начал издавать тихий сап.
Утром напился чаю и вышел по темну. Нехоженым, густо заросшим притоком направился в сторону от реки. Это был нелогичный и нелегкий путь, и крюк немалый, но он выспался, а медвежьи тропы за осень были хорошо натоптаны, и к обеду он поднимался уже невысоким отрогом. Изредка перекурить присаживался.
Настроение все же было так себе. Вчера, на бешенстве, а может и от усталости, он шел ни о чем не думая, теперь же в голову лезло всякое – то виделось, как у него во дворе делают обыск и допрашивают жену, то он с глазу на глаз, по-мужицки, решал этот вопрос с Тихим. Все это было перебором – жену не должны были тронуть, а с Тихим… вот это можно было бы… Степан шаг убавлял от этой мысли и тут же, упрямо мотнув головой, будто отряхиваясь от чего-то, шагал шире и тверже.
Не менты блядские придумали свет белый, и ни им было распоряжаться этими реками и горами, и его мужицкой судьбой. Или этими вот ногами, давившими рыжую хвою тропы.
За спиной открывалась широкая тундряная долина Рыбной, а дальше начиналась горная страна с заснеженными вершинами и хребтами. Горы уходили в бесконечную даль, в синее марево неба. Подъем стал положе, лиственницы сыпали мягкую подстилку на присыпанную снегом тропу, на рюкзак, за шиворот. Впереди, сквозь лес временами белели вершины хребтов его участка. Степан шел и чувствовал, как тепло любви ко всему этому охватывает душу. В лесу он всегда становился мягче – улыбался, с собаками, деревьями и горами молча разговаривал. Он рад был, что кончилась эта беспутица вдоль реки, и под ногами было твердо, что солнце поднялось над бескрайнем простором моря и светит в спину, и что часа через три он вылезет на водораздел, на границу своего участка, и уже к вечеру будет чаевничать в избушке, в вершине Талой. И никакие менты не встанут у него на дороге. Эти поганцы так же его сейчас интересовали, как позавчерашний ветер.
Солнце грело щеку и левую руку на лямке. Правая мерзла. Стланики кончились, звериная тропа вышла на чистый склон и поднималась, становясь все круче, серо-коричневым сыпуном, который местами полз под ногами, скатывался с легким, глухим звоном, обнажая красноватую изнанку плитняка. Тропа уходила вверх зигзагами, сторонясь скал, то тут, то там торчащих по склону. Снег здесь всегда выдувало, и сейчас он рябыми пятнами лежал по укромным местам, сероватый, смешанный с пылью. Ветер к седловине становился все сильнее.
Он вышел почти на самый верх, снял рюкзак, отвязал и надел суконку. Карам отстал. Степан обернулся, посмотрел вниз, прислушиваясь сквозь шум ветра, не орет ли где, но услышал гул вертолета. Он взвалил на себя раскрытый рюкзак и заторопился обратно, вниз к ближайшим скалам. Вертушка шла со стороны его участка, ее не было видно, только гул нарастал, сбиваемый порывами ветра. Степан торопился, камни ползли под ногами, он бился коленками, резал руки. Он был уже в нескольких метрах от скальника, когда над белоснежным прогибом перевала вырвалась громкая оранжевая машина. Степан сел и замер. Вертушка прошла так близко, что ему показалось, что он слышит запах выхлопа. Это был Ледяхов, только он так низко летал в этих горах. Степан внимательно следил за вертушкой, понимая, что его не должны были заметить на рябом склоне. Машина удалялась, снижаясь к деревне.
Если Ледяхов высадил кого-то… Степан, недобро прищурившись, видел, как в его избушке хозяйничают менты. Он не боялся, за эту дорогу он твердо решил не отступать нигде. Что это значило, было понятно…
Он присел за скалку, лицом к солнышку, сбросил лямки и достал сигарету. Сидел, греясь и покуривая, пуская неторопливо синий дымок. Копченое солнцем и ветрами лицо заросло темно-пегой щетиной. С виду было оно спокойно, но покоя в нем не было.
Широкая долина Рыбной рыжела и голубовато туманилась под солнцем, перевальный ветерок налетал резвыми, не сильными порывами. Кедровки орали рядом внизу. Погода вставала самая охотничья.
Степан сел под лямки, подаваясь вперед и наваливая рюкзак на спину, встал, шатнувшись от тяжести, взял карабин и стал неторопливо подниматься к недалекому перевалу. За ним в вершинах Они и Талой начиналась его тайга. На перегибе остановился под скалой, достал из рюкзака небольшой бинокль и долго внимательно смотрел в сторону участка. Он искал дым над зимовьями – дыма не было. Почти по-зимнему все было укрыто снегами, стланики присыпаны и издали казались серыми.
Подбежал Карам, брякнулся рядом на снег, глядя на хозяина бело-черной мордой, но тут же вскочил и настроил уши вниз по склону. Степан схватил его за вздыбившийся загривок и с силой придавил к земле. Метрах в трехстах из мелких стлаников прямо к нему вывалился лось. Зверь был матерый, на снегу казался черным, он чуть забирал к перевалу, здоровые светлые лопаты колыхались и блестели на солнце. Степан надел Караму веревку на шею и выразительно на него посмотрел. Этого было достаточно, пес лег и положил виноватую морду на лапы. Руки сами собой привычно готовили карабин. Лось вел себя странно – шел торопливо и не тропой – спотыкался по камням, временами замирал и глядел назад. Уходит от кого-то, – понял Степан. Ни ментов, они все еще крутились у него в голове, ни охотников тут никак не могло быть… Может, в стланиках на мишку нарвался? Сохатый в начале охоты был делом не худым. Господь и тут был на стороне Степана.
Зверь остановился. Сверху, отрезая его от перевала, в седловинку спускался волк, из стлаников, откуда вышел лось, появился еще один – так же открыто бежал неторопливо. Загоняют, – понял Степан. К скалам гонят. Или на крутяк. Степан проверил Карама, машинально погладил-придавил умную собачью голову к земле, достал бинокль и, черпая снег в рукава, пополз между камней. Выглянул осторожно. Отсюда вся покать была как на ладони. Ниже его в камнях, прижавшись к земле, лежали два волка. До них было метров сорок. Не поднимая голов, одними глазами наблюдали за сохатым. Еще ниже, загораживая выход в стланики по ручью, лежал еще один, этого Степан видел плохо – только задняя часть торчала на фоне снега. Вот сучьё, пятеро на одного… нехорошо… меня вы не посчитали, конечно… В другой раз он не особенно и размышлял бы, но тут – прямо интересно стало – уйдет сохатый от волков или что?
Бык, видно, был тертый и знал это место не хуже серых, постояв немного, он не пошел, куда его гнали, а выбрался на тропу и направился вниз и вбок, намереваясь перевалить в соседний ключ. Степан смотрел в бинокль и соображал, что делать, как в поле зрения возник еще один волчара. Он стоял на высоком камне в сотне метрах впереди сохатого. От, суки, сколько же вас! Степан и раньше видывал, как волки загоняют, но чтобы так вот…
За здорово живешь сохатый не дастся, волки это понимали, и теперь уравнивали силы, загоняя его в камни. Степану выгодно было, если бы зверь шел к нему, но он неожиданно для себя прошептал: молодец, не надо, никогда не надо идти туда, куда тебя гонят. Ты же не баран.
Лось шел уверенно, будто не замечая того, на камне, он удалялся от охотника, и Степан, очнувшись, уже начал пристраивать карабин, но зверь вдруг опять остановился. Впереди сохатого было уже два волка. Они сошлись и неторопливо семенили ему навстречу. Рогач, не выдержав, снова развернулся вверх.
Раз, два… четыре… семь – считал Степан. Круг сужался. В засаде оставались трое, остальные открыто выгоняли быка с осыпи в большие камни под Степаном. В этих камнях лось был не боец. Ближний, что бежал с перевала, исчез за перегибом и уже не мог увидеть охотника. Степан осторожно подложил шапку под цевье, удобнее растопырил локти, приложился и снял предохранитель.
Сохатый был уже метрах в пятидесяти, слышно было, как он хрипло выдыхает и гремит копытами, перешагивая и спотыкаясь по камням. Задние перешли на бег, а те, что лежали, приготовились. Уши торчали. Они очень хорошо лежали, один закрывал другого. Раздвоенный силуэт темнел на фоне снега. Степан прицелился чуть выше лопатки первого, второму должно было прийтись по месту. Господи, пособи… После выстрела один так и остался лежать, второй подпрыгнул вверх, упал на бок и безжизненно поехал по снегу. Лось стал, как вкопанный, волки замерли, не понимая, что произошло. Степан лежал, не шевелясь, – эхо, отражаясь от гор, могло обмануть серых. Ближнего легко можно было расстрелять, он развернулся и бросился своим следом на перевал, за ним другой и потом нижние, обтекая лося, полетели вверх. Это было неплохо. Степан выцелил дальнего, только зацепил, волк завизжал, заскулил, как собака, задок у него не работал, он споткнулся и покатился вниз, гребя передними лапами. Потом тупо ткнулся в склон бежавший впереди него. Степан развернулся на самого правого, тот был почти на перевале – промазал, передернул, еще раз промазал – пуля взрыла под волком, и наконец попал. Два зверя скрывались в ручье, Степан дважды выстрелил им в угон, наудачу, но, кажется, не попал, надо было идти, смотреть. Только тут вспомнил про лося. Тот уходил в соседний ключ. Патроны еще были. Степан вскинулся, далековато было, взял выше – по качающимся рогам – и опустил оружие. Глупая, не охотничья мысль прямо мешала ему – как будто по тому, кого он только что спас, сам же и стреляет. Кобяков сел, переводя дыхание, по привычке ткнул сигарету в рот, отстегнул магазин и стал набивать патроны.