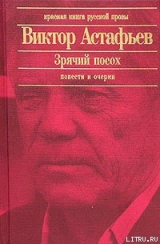
Текст книги "Паруня"
Автор книги: Виктор Астафьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Виктор Астафьев
Паруня
За речкой Быковкой в пошатнувшейся загороди, состоящей частью из выветренных до белизны осиновых жердей, частью из ломаного частокола, женщина копает землю. Движения ее неторопливы, как бы раздумчивы, одежда на ней того же цвета, что и земля, – серовато-черная, с разводами выступившей на спине соли. Нехитрое дело – копать землю: подошвой на отгиб лопаты, острие или, по-солдатски, штык в землю, поворот лопаты, заученный удар по вывернутому изнанкой кому, и снова наклон – подъем, наклон – подъем. Сколько это там «мальчики играют в тихой мгле – десять тысяч лет уже играют…»?
А сколько же эта женщина копает землю? Весь свой век. Нет, все века земного человеческого существования – сначала камешком, потом обожженным сучком, потом железкой, не сразу и не вдруг сделавшейся лопатою. Удивительная судьба этого вроде бы примитивного инструмента, из тьмы безграмотных веков дошедшего до наших времен и не сдающего своих позиций. Я уверен, и в Байконуре, и в Звездном городке, где люди живут вроде бы в запредельном, космическом времени и масштабе, не могут обойтись без нее, без старушки лопаты. Более того, все с нее и началось. Ведь прежде чем что-либо построить, вырастить, добыть, надо копать землю – мы дети земли, мы живем ею и на ней, оттого и зовем ее матерью. Слово это люди не устают повторять, и никогда оно не надоест: мать и хлеб – слова всевечны.
Женщина копает землю, не себе копает, а немощной бабушке Даше – так уж заведено, так уж пошло издавна в этой деревушке: прежде чем сделать что-либо себе, подсобляют другим.
…Деревня Быковка стоит на берегу уральской речки Быковки, журчаливой, студеноводной, веснами облитой цветами черемухи. Глянешь с утора, и кажется, что бушевавшая всю весну речка взбила по всем своим загогулинам и водоплескам белую пену. В пене омытые, задохнувшиеся вешним дурманом, дни и ночи трещат соловьи, уркают голуби-вяхири, по травянистым косогорам верещит, свистит и заливается всякая иная пернатая мелочь, которой и всегда тут было много, а за последние годы сделалось гуще, – видно, в середине России и в теплых краях до того доопрыскивали поля и леса, до того их доопыляли, что всех козявок, блошек, мошек и муравьишек там уморили, нечего стало есть птичкам и жить страшно сделалось, вот они и ищут кормные места и тихие уголки на земле.
Широко разлившаяся от подпора Камской гидростанции река Чусовая и Сылва, соединившись вместе, образуют малонаселенный угол. Подумать только: сорок минут на электричке за плотину от огромного индустриального центра – Перми, в которой толчея, дышать от копоти и газа нечем, двадцать минут на «Ракете» от пристани Левшино – и вот она, первозданная тишина и вселенское успокоение.
Породнился я с деревушкой Быковкой и ее обитателями, и, находясь вдали от Урала, нет-нет да и получим мы с женой весточку оттуда: живем помаленьку, тот-то помер, тот-то уехал или собирается уезжать…
Когда-то вызвал я неудовольствие одного пермского деятеля тем, что поселился в этакой глухомани. Не понимая такого моего шага, деятель полемизировал со мною по этому поводу, полемику же он понимал как футбольную игру в одни ворота, чтоб он «бил», а все остальные «ловили», – и, получив непривычный отпор, воспламенился, орал, есть, дескать, в Пермской области колхоз-миллионер, там бы избу мне дали бесплатно, мешки с продуктами не надо на себе таскать, там и магазин, там и Дворец культуры, в лесах клещей нет и никакой другой заразы – живи в свое удовольствие, отражай все новое, передовое. Так нет ведь, забрался писака в энцефалитную деревушку, чуть жену не погубил, пишет про бабушку с дедушкой да про Сибирь, а картошку уральскую ест!..
Я знаю еще по работе в газете, когда начальник просит или требуют «отражать достижения», то он ясно подразумевает, что в этих «достижениях» уж непременно отразится сам, и сказал, что выбираю все в жизни согласно своей душе: жену, работу, жилье, мысли, даже еду, если капиталы позволяют.
Важный деятель сей же момент обвинил меня в «искривлении души», в ущербности видения действительности. Может быть, может быть, ибо еще в войну я уяснил: слова песни «Мы будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда» есть все-таки слова, и не больше, к тому же написанные на «русского языка». Пермский же начальник, и кабы только он, считает пение и смех «среди упорной борьбы и труда» нормальным состоянием нашего общества. Разница еще и в том, что гораздо больше я видел слез после войны, чем слышал песен, и нет тут моей вины, а есть наша общая беда и боль, которую самой природой и мучительной профессией назначено мне постоянно чувствовать и переживать во сто крат больнее других людей, иначе и за перо не стоило браться. Когда-то жизнь вокруг Быковки била ключом: был леспромхоз, колхозы, мастерские, линия электропередачи, но как разлилось Камское водохранилище, потопившее необозримую вольность уральских лесов, пойменные луга, пашни, – жизнь на мысу начала сворачиваться, правление колхоза, нынче – совхоза, перекинулось на другую сторону, в поселок Старые Ляды, и домишки один по одному начали сниматься с мест, оставляя после себя груды пережженных кирпичей, ямы подполий с мышиными норками, битыми горшками и старыми самоварами да сгнившие нижние венцы, два из которых допревают перед моими окнами по другую сторону дороги. Бурьян, лопухи, жалица поспешно и стыдливо маскируют захламленное, будто в военной панике брошенное жилое место.
Красивые берега Сылвы и Чусовой ныне захвачены дачной публикой. Лишь деревушку Быковку минует дачная стихия: в глуби лесов деревушка – к ней идти «своими ногами», тащить на себе продукты. Дачник же, большей частью пенсионер, не хочет ходить и таскать ничего не любит – он на то и дачник, чтобы отдышаться от газа и дыма, отдохнуть от города, от сумок, авосек, от очередей, от гама-содома и скоротать на лоне природы остаток лет, созерцая ее, а главным образом, потихоньку пощипывая, где мережкой опутывая, где острогой притыкая, где топориком потюкивая, где костерком припекая, где ружьишком ушибая, – очень замкнутый, но деловитоловкий смекалистый пенсионер-дачник обретается по здешним задичавшим берегам…
Странная и зловещая арифметика постигла Быковку: в шестнадцать ее домов не вернулись с войны шестнадцать мужиков, и, сколько я знаю, она всегда бабья, отсюда уклад ее жизни. Во время лесозаготовок и пока мельница стояла, шумней было в деревушке, народу завозней. В соседнем поселке, названном громко – Новостройкой, кино показывали, танцы бывали, праздники и драки случались; нет-нет да какой-нито кавалеришко из вербованных или трудармейцев привертывал на огонек в Быковку, два или три навовсе со вдовушками сошлись. Но когда леспромхоз, прикончив лесную страду, свернул свои дела, прихватив с собою вдовушек, дома и худобу их, новоявленные хозяева исчезли из деревни.
Однако не ощущались еще так остро в Быковке малолюдство и заброшенность, пока шумела на речке мельница, но погубила мельницу злая привычка мельника к вину: загулял он в майские праздники и не отдолбил ворота плотины. Вода наперла, стала перехлестывать через насыпь, потом нашла слабинку, просочилась за стенку давно срубленного ряжа, размыла яр и, обвалив каменистый его бок, хлынула из заперти, лязгая каменными плитами, переворачивая сутунки, кружа упрятанные меж ними сухие птичьи гнездышки, взбивая пеной мучной бус, мякину и отруби, валом опрокидывая захлебнувшихся крыс и мышей, всегда и на всех мельницах густо обретающихся.
Весело бегали быковские ребятишки с корзинами и кошелками по оголившейся впадине пруда, из борозд, лыв и бочажин выбирая рыбу, – много рыбы обсохло, особенно хариуса.
И посейчас видно то место, где была мельница. Трагично и одиноко наклонился над речкой старый тополь, когда-то плескавший листвой над кровлей колхозной мельницы, дававшей приют множеству птах и тень помольщикам, ждущим очереди на засыпку зерна.
Яр все моет и моет веснами, скоро тополь упадет, колеса, шестерни, жернова, настил мельницы почти уж затащило тиной и курумом – супесью, речка норовит спрямить русло, размыть насыпь. Ох уж эта норовистая речка! Чем-то она похожа на нас – все-то мы спрямляем пути, размываем насыпи, но пока спрямляем, глядишь, еще большая загогулина в жизни вышла…
Но вот пришла огородная пора, и ожила деревушка Быковка. Из угарных, скособочившихся изб вышли на свет хозяйки; принялись чинить городьбу, жечь огородный хлам и прошлогоднюю картофельную ботву; кислым дымом из огородов потянуло; за соседней баней проорал руководящим голосом петух, взмыкнула корова, а вон и давно привычный крик слышен: «Парушка! Ты завтре приходи на помочь!..» В Быковке издавна все делается артельно. Поодиночке женщинам было бы с жизнью не совладать. Первой в работе, любой, особенно которая потяжелее, всюду была и есть Паруня, попросту Парушка – это она вот копала землю за речкой, помогала бабушке Даше.
В грузно шагающей женщине, как бы остановившейся в одном возрасте, уже трудно угадать ту голенастую, румянощекую девку, которая, таясь от зорких бабьих глаз, не переставая править крестьянскую работу, выносила ребенка и однажды потихоньку родила его, спрятавшись на сеновале. Ослабевшую, перед всеми виноватую, но просветленную во взгляде, нашли ее бабы. «Дура ты, дура! – сказали ей. – Да нешто с этим делом прячутся?!» И увели молодую мать в тепло, в избу.
Да не сулил, как говорится, Бог долгого веку дитю Паруни. Одна она скоро осталась, ходила молчаливая, смотрела в землю. И по сию пору придавившая ее в молодости сутуловатость осталась, горбистей спина сделалась да ровно бы вытянулись большие руки с кривыми пальцами, навсегда уже сведенными в горсть пашенной работой и простудой.
От кого было дите, куда девался тот ухорез, что искусил молодую девку, – бабы никогда не узнали, хотя пытались, ох как пытались это сделать, – первая и последняя любовь Паруни была и осталась для всех тайной. Я иной раз глядел на нее и в чем-то, где-то угадывал – она не забыла о голеньком дите и о летучей любви, дорожит этим воспоминанием и оттого никому его не доверяет.
Больше ничего выдающегося к жизни Паруши не случалось. Наведывались, конечно, в гости мимоходные мужики; старый пасечник одно время наладился угощать Парушу медом, да и сам я слышал и видел, как заливалась она громким смехом и вертелась возле таганка, на котором клокотало варево, когда было брошено в заречные места на копку картошек одно бравое саперное войско, и носатый сержант в начищенных ваксой сапогах, со множеством значков на гимнастерке, все норовил ущипнуть Паруню, а она взлягивала, отбиваясь от наседающего воина: «Да подь ты к чёмару, лешой!»
Родилась и выросла Паруня в Быковке. Трудиться стала с четырнадцати лет, потому что рано осиротела. Войну она встретила уже взрослой девахой, работала, как все колхозники, дни и ночи, не разгибаясь, в старой телогрейке, в лаптях, которые зимою часто примерзали к ногам. «Паруша, война идет. Надо фронту мясо», – говорили ей. Надо так надо. Силой Бог не обидел, раденье от природы, а тут еще бабы свои, родные все, как им не подсобить? «Паруша, подежурь за меня, ребенок заболел…», «Паруша, съезди в лес по сено, корова падает…», «Паруша, помоги напилить дров…», «Паруша, погрузи мешки – у меня поясница отнялась…», «Паруша, вывези назем…», «Паруша…», «Паруша…», «Паруша…».
Не было у нее мужа на фронте, и сына не было на фронте, перед всеми она в долгу, перед нею – никто. Ей как бы самой жизнью было заказано прибегать к бабьему средству – слезам, и вообще всякое облегчение, жалость, сочувствие вроде бы на нее не распространялись, они ровно бы и отпущены ей судьбою не были. И один раз, один только раз разревелась она в войну: пришла к Даше, тогда еще не бабушке, а ладной, крепкой, доброй женщине, та печь затопила, велела Паруше раздеться, лопоть и обутки посушить – ростепель, слякоть как раз была. Сняла Паруня свои в прах разбитые латки, портянки размотала и приморилась возле печи. Старший Дашин сын в избу ввалился, в печь дрова подкладывать взялся, видит – старье, хлам какой-то мочальный к печке прислонен – он и его в огонь.
Проснулась Паруня, за голову схватилась: «Ой, в чем же я на работу-то пойду?!» Поначалу все оторопели – Паруша ревет. Пошли женщины к колхозному начальству походом и за грудки его. Помогло. Обули Паруню, и она, поблагодарив товарок за хлопоты, снова впряглась в работу, пуще прежнего старалась всем помочь. Когда, где спала она в ту пору и спала ли вообще – никто не знал.
Выдавали Паруне за работу мясо, муку, деньги. Брат родной жил с семьею в Быковке же. Паруня весь свой паек тащила в дом брата – с войны он вернулся израненный, больной туберкулезом. Золовка не пускала Паруню в дом – вонькая-де, свиньею пропахла. Голодная, замерзшая, придет под окно Паруня, стоит, смотрит, тихонько завывая. Как собачонке, выбросят ей каравай хлеба, из ее же муки испеченный, и дверь захлопнут.
Ах, как любят у нас, особенно по темным углам, обижать безответных людей! Но когда их не станет, когда они уйдут навечно и обнаружится после них пустота и вроде бы потухнет свет в деревенском окне, оплакивают их люди горько, винятся перед ними.
А как умеют и любят у нас, увы, не только по деревням, воротить рыло от тех, кто выполняет грязную работу, забывая, что все на свете идет от земли, растет на земле, а она, между прочим, грязная, и на поля, между прочим, кладут душной навоз, чтоб хлеб родился, картошка, овощи, чтоб есть было чего.
В одном российском городке видел я на воскреснике выразительную картину: современное, стеклобетонное здание института, перед ним в модных штанах, в красивых плащиках, с навойлоченными прическами, разукрашенные, распомаженные девицы мели землю. Как они ее, бедную, мели! Каждая девица старалась держать метлу как можно брезгливей, манерней, то под мышкой, то в одной ручке, обтянутой замшевой перчаткою, то уж и вовсе как-то неприлично – студентки изображали отстраненность от труда и от земли, им казалось постыдным, если подумают, что родители их и они сами только что вот покинули село…
В превосходной книге Михаила Домогацких «Джамбо, Африка!» я вычитал страницы о том, как в многочисленном африканском народе масаев происходит то, что книжно именуется урбанизацией. Побывав в городе, поотиравшись там на должности боя, рассыльного, паче того – на службе, иные масаи начинают пренебрежительно относиться к своему народу, не хотят с ним общаться и узнавать родных. Так ведь масаи-то лишь недавно из колониализма вышли, ведут племенной, полудикий образ жизни. Зачем же будущим-то учителям, выросшим в трудовых семьях, учившимся в трудовых школах, на трудовые копейки народа, не чурающегося ни земляного, ни тягостного ратного дела, уподобляться полудикому племени?..
Впрочем, что корить девушек с филфака – они молоды, и им еще доведется устыдиться своей жеманности. Но вот в Быковке гостил у меня довольно известный писатель, что в книгах своих и в застолье не устает распинаться «за народ». Так вот этот самый «народник» не стал пить из одного стакана с Паруней, погребовал, а я, хорошо его знающий, точно ведаю: Паруня чище его и душой, и телом, м помыслами – и оттого запретил ему бывать в моей избушке.
Со временем Паруня перешла со свинофермы на колхозный телятник, где работать ей было легче, есть у нее и своя изба – крайняя в деревеньке, есть коза, курицы, кошка и кривой на один глаз кобелишка Тузик, который таскался за хозяйкой по пятам и нещадно трепал за уши моего дураковатого пса Спирьку, – только он и был под силу Тузику. По интеллигентской воспитанности Спирька не вступал в драку, лишь грозно рычал.
Стоимость всего хозяйства Паруни где-то в пределах трехсот или пятисот рублей. В диалектике я не силен, политэкономию постичь до глубин так и не сумел. Когда учился на Высших литературных курсах, Ишутину Михаилу Ивановичу – преподавателю политэкономии – говорил на экзамене одно и то же: «Политэкономию знаю на двойку, а надо тройку, чтоб получать стипендию – семья у меня». И преподаватель, добрая душа. за честное признание ставил мне четверку. Но даже при таком слабом знании политэкономии я вот что маракую: Паруня с детства трудится, производит материальные ценности: мясо, молоко, дрова, сено, древесину, и мне хочется знать – куда это все девается?
Однажды я пережил самое настоящее социальное потрясение. Еще утром был в Быковке, а вечером по срочному вызову – в Москве, в гостинице «Украина», устроился жить и пошел в ресторан поужинать. «Мальчики» лет этак тридцать, из тех, что кончили Литературный или другой институт, в красивых пальто, в мохеровых шарфах, в меховых шапках шляются по столице, попивая коктейли или чего покрепче, вельможно рассуждая при этом «за народ», и не спешат жениться, чтобы не уходить от родителей и не кормить свою семью, да разукрашенные девки бесились в ресторане, справляли шабаш по поводу того, что один из них протолкнул-таки «сценарий про рабочий класс». Парни-мужики и курящие девицы выкрикивали что-то хриплое, дикое, по-африкански «выразительно» вертели задами, закатывали глаза в экстазе танца, загнанные официанты разносили по столам еду, какой быковские женщины и в глаза не видывали, вина, какие они сроду не пивали. Сиял свет, гремела музыка, было дымно, чадно, взвинченно-весело. Перед моими же глазами неумолимое и трагичное стояло видение: войной надсаженная, полуразвалившаяся деревушка с темными окнами.
Паруня ломит всю жизнь работу, производит продукцию, у нее огород есть, коза, куры и собака Тузик. Хорошо, коли продукт, ею произведенный, потребляют металлурги, шахтеры, рабочие и служащие, учителя, ученики и малые дети в детсадике, – это все так и должно быть. Однако же часть труда и продукции, произведенной Парушей, попала и попадает этим вот «сливкам общества», этим краснобаям и пьяницам. А почему она, собственно, им попадает? Почему они не работают и жрут?! И что самое обидное, жрут слаще тех, кто работает…
* * *
С годами еще тяжелей сделалась походка Паруши. Часто она стала падать – подводят простуженные ноги, но тело и вся она крепко, по-мужицки сбиты. И летом, разломавши суставы и потрескивающие кости, выходила она вместе со всеми быковскими жителями на закладку силоса – заросли холмы в округе бурьяном, дурнотравьем, а по пойме реки – пыреем, коси, сколь угодно, сколь душа просит. По девяти-двенадцати ям силоса закладывали. И любо-дорого смотреть, как, рассыпавшись по косолобкам, в цветастых кофтах, в широких, складками обхваченных юбках женщины неторопливо да податливо вели прокосы, исполняли мужицкую работу – отбивали, точили литовки, прочищали сточные трубы из ям, лошадьми утрамбовывали сырую зеленую массу. Требовалось – и к горну в кузнице становились. Глядишь, и бригадир-«руководитель» прибудет из соседней деревушки Катаева. «Руководить» в его понимании – значит пушить всех грязнущими словами и, главное, вызнать, не косит ли какая-нибудь хозяйка на лесной притаенной кулиге «для себя», не таскает ли в вязанках сено ночами на поветь. Как вызнает, тут же понятого, такого же пьяницу, за бок – и с «описью» в дом. Всех и все знал бригадир. Он здешний, «находить колхозное добро» умел хоть под землей – сам ворюга. Точно шел, собачьим нюхом отыскивал сено. Заваленную старым тесом или жердями, откроет копешку и насупится: «Эт-то что такое?! Нарушаешь?!»
Упрятанная на полатях в старой лагухе кисла, парилась брага на предмет помочи на покосе или починки бани. «Да захлебнися ты ею!» – застонет, бывало, хозяйка-вдова, обольется слезами, угощая брагой начальство, чтоб только не описали.
Не выдержал я как-то, сказал бригадиру: «Что ж ты лаешься так? Зачем утесняешь женщин-то? Им поклониться надо за труд и жизнь ихнюю…»
Не понял меня бригадир, не одобрил: «Это Парушке-то кланяться?!»
Вот и самая «молодая» из быковских женщин – Паруня на пенсию собралась. Надела она новое платье, сапоги резиновые, жакетку плюшевую, заперла избушку на круглый висячий замок, наказала подружкам доглядеть скотину и подалась на другую сторону водохранилища, в контору совхоза, праздничная, с легкой душой человека, до конца исполнившего свой трудовой долг.
Как же горько плакала, вернувшись домой: в конторе каким-то образом, на каких-то хитроумных счетах прикинули ее трудовой стаж, и выпало: не хватает Паруне года до пенсии. «Болят у меня ноги, шибко болят, – жаловалась Паруня молчаливо окружившим ее товаркам, роняя одну за другой крупные слезы на жакетку и вытирая их концом клетчатого полушалка. – Если бы оне знали, как у меня болят ноги, оне бы вырешили мне пензию…»
Некому, совсем некому было работать в ту пору на телятнике. Надо было поговорить с Паруней, упросить ее, она бы согласилась, не устояла бы перед добрым словом. А ей какой-то туфтовый год недосчитали, почему-то начали стаж исчислять от совершеннолетия, толковали, что в архивах колхоза недостает каких-то бумаг… Куда они могли деться, те бумаги? Да и зачем они? Паруня всю жизнь работала в одном колхозе, в одной и той же деревне.
Утром, подпоясанная ремнем по тужурке, в мужицких брюках под юбкой, поковыляла Паруня на телятник, снова спокойная, но какая-то до щемливости от всего отрешенная. Такой вот непривычной я и запомнил тогда ее – бредет зимою по снежным забоям к телятнику, освещая себе путь фонариком, и головой покачивает. Но к лету воспрянула женщина, вытаяла, как по селам говорят, обветренная, загорелая, неунывающая, снова всем готовая прийти на помощь и пригодиться, трусила по скотнику, кричала на непослушных телят, столуя их, а они ее нисколько не боялись, тыкались в грудь парными мордами, руки облизывали, забыла горе Паруня, обиды забыла – не приучена их помнить, никто не приучал, да и в тягость самой себе такая привычка.
В следующем году пенсию Паруне все-таки вырешили, хорошую пенсию – сорок пять рублей. Новый начальник отделения совхоза даже слова какие-то приятные сказал, новый бригадир – тоже. Покрывало и подарок выдали – Паруня его в тряпицу обернула и к бабушке Даше унесла на сохранение. Достает она то премиальное голубенькое покрывало и заправляет им кровать лишь по большим праздникам.
Тем летом, как вышла Паруня на пенсию, поднялся я в угор, что полого взнимается от избушки бабушки Даши в осинники, уже воспрянувшие на вырубках тридцатых и сороковых годов и в девичий рост вошедшие, – там часты и дивно ярки подосиновики. По склону горы, на опушках лесозаготовители оставили полосы большого леса – шуршат под ветром высокие пышно-зеленые лиственницы, сверкают на солнце златоствольные сосны, густо, одна к другой, жмутся ели, сочится ладанным запахом молитвенно-тихий пихтарник. Вот в этой гуще, на земляничной кулижке, и увидел я Паруню. Она косила мелкое разнотравье для козы, вся ушла в работу и не слышала меня.
Я замер на опушке.
Лицо Паруни было отстранено от мира и сует его, мягко, я бы сказал, даже благолепно было лицо ее. Зной солнца, стоявшего о полудни, смягчала густая хвоя и гущина листьев; душистое и легкое тепло реяло над полянкой, над женщиной, светло и даже празднично делающей «легкую» работу. Была она в ситцевом платье горошком, в белом, по-девчоночьи высоко завязанном платке – в том же крупном горохе – видать, выгадался при раскрое кусочек материи от платья. Лоб Паруни четко раздвоился – нижняя половина его и все лицо были под цвет обожженной глины, выше, до посекшихся волос, – иссиня-бледная кожа, слегка окропленная капельками пота. На ногах Паруни какие-то легкомысленные носки и кожаные, скрипучие, еще ни разу до сего дня не надеванные сандалеты. Проблеск давнего, девического угадывался в наряженной женщине, недурна и в чем-то даже видная и ладная могла быть она в девках, если бы сиротство, война да работа не заели ее девичий век.
Паруня плавно шла по поляне, роняя к ногам косою низкий валок лесной травы. В венчиках манжеток лесной красноватой герани, в разжильях низкого подорожника и высокой купены, в блеклых головках ползучего клевера, в листьях-сердечках майника, на черноголовках, на дымянке, на икотнике и путающемся меж трав и дудочек мышином горошке – на всем, на всем, несмотря на полдень, еще лежала прохлада утра, а в теньке, в заувее, нет-нет да и вспыхивала остатним ярким светом капля росы и, перегорев, коротко, празднично гасла.
Валки травы, сплошь окропленные брызгами земляники, беловатой пока костяники, пятна листвы, блики солнца делали лесную кулижку еще нарядней, красочней, оживляли горошины и на Парунином «выходном» платье и платке. С тихой улыбкой, тайно блуждающей по лицу, творила она сенокосную страду, баловалась радостным задельем. Разгоревшееся алое лицо ее было ровно бы высвечено еще и внутренним светом, на нем жило удовольствие от вольного труда, от природы, близкой и необходимой сердцу, в котором расплылось и царило ленивое, нежное лето, и наслаждение было от него во всем: и в тепле ласкового, чуть ощутимого ветерка, и в ярком свете, ненадоедном, игровитом, что неразумное дитя, и в вольном воздухе, какой бывает только в пору спелой травы, когда еще не отдает земля грибной прелью и горечью плесени, а вместо паутины невидимыми нитями сквозит и прошивает все земляничный дух, но все это и даже стойкий аромат сроненной со стебельков земляники, подвяленной высоким солнцем, заслонит, подавит скошенной травой, которая покорно и быстро вянет, исходя последним и оттого густым и пряным до опьянения запахом.
Все вокруг и прежде всего сама Паруня были так редкостно неповторимы, что зазнобило мое сердце, горло сделалось шершавым. Захотелось отступить в пихтачи, чтоб навсегда унести в себе до боли знакомую с детства картину слияния, вот именно, полного слияния природы и человека, а главное, осязаемую уверенность в том, что так же вот счастливы трудом и благословенны природою бывали моя покойная мама, и тетки мои, и все русские женщины, которые вынесли все беды, не сломились под тяжестью войны, не пустили глубоко в себя обездоленности и подавленности, потому что природа – заступница и кормилица – была с ними и в них. Она, конечно, дарила им не одни только радости, она посылала им и напасти, и беды, но она была им и Богом, и заступницей, и судьей, как настоящая, строгая мать. Вот почему никогда не поймут и не разделят ахов и охов, порой и слез, что льет наш брат интеллигент над их судьбою, наши русские крестьяне, мало того, усмехнутся над нами, ибо надо еще поглядеть, чья жизнь, наша или ее вот, допустим, Парунина, из деревушки Быковки, полнее и вдохновеннее. Во всяком разе, в ту минуту на лесной земляничной кулижке я вдруг уразумел: счастье и понятие его – дело непостоянное, текучее, но бесспорно одно – общение с природой, родство с нею, труд во имя нее есть древняя, неизменная, самая, быть может, надежная радость в жизни человека.
Под ногою треснул сучок. Паруня подняла голову и какое-то время смотрела сквозь меня, без испуга и досады, лишь улыбка медленно сходила с ее ярких от земляники губ.
– Ты што, собаку пришел проведать? – спросила меня Паруня. Наш пес, скончавшийся зимой от старости, похоронен на этой горе, но где именно, я не знал. – Вот туды ступай! – махнула Паруня рукой в глубь леса. – Под молоньей сломанной елью увидишь могилку… – И словно бы разом забыв про меня, обтерла травяным вехтем литовку, сняла с нее кровяное крошево и ловко заширкала бруском по лезвию косы, под гребешком которой и у основания белого литовища тоже темнела полоска запекшейся земляничной крови.
Я тихо ушел в леса.
Еще одна весна! Снова путь в привычную быковскую избушку. Снова знакомая пристань. Дебаркадера еще нет. Топаем тропинкой мимо изуродованной, ободранной, медленно умирающей красавицы березы. Надсаженная, мимоходом истюканная топорами, она и в эту весну из последних сил развесила сережки лимонного цвета, ствол ее светился неестественно белым, лунным светом – так у измученных чахоткой, догорающих людей вспыхивает последний яркий румянец на щеках. Тропинка строчит на холм, вдоль поля, утыканного головками пестиков, а их тут охотно собирают на пироги; беловатыми всходами осота и сизыми – сурепки, через ложок, освещенный желтым пламенем калужниц. Заброшенное поле с едва уже заметными темными стерженьками когда-то скошенных хлебов дымится пылью или прахом земли, истаявшей о кореньях трав. Вот и мокрый ложок, как живой первовестник лесов и снега, тающего еще в нем. Взмыл из лужи, метнулся в лес полосатый бекасенок, запричитала на опушке пигалица. Переходим по жердям через ложок и дальше, меж перелесков, по покосу, к нашей милой Быковке.
Вот она, темная, молчаливая. В двух крайних избах нет света, прясла огорода уронены, третья изба от краю с заколоченными окнами. Сжалось сердце: еще кого-то не стало в деревушке. Отчего-то и и Паруниной избе не теплится огонек, не дымит труба.
Жива ли Паруня? Нельзя ей умирать, никак нельзя. Невозможно представить деревню Быковку без нее.
Жива! Увидела дым над нашей избой, и уж тут как тут, тащит из ямы ведро волглых картошек и дородную пегую редьку с желтокудро проросшей во тьме ботвой.
«Здравстуйтё!» – говорит Паруня. Чуждаясь приезжих на первых порах, присаживается у двери на лавку и выкладывает новости, постепенно привыкая к нам и выявляя сыспотиха, не переменились ли мы и наше к ней отношение? Не загордились ли в городской жизни?
Скоро на «дымок» привернут остальные бабенки, и Саня Белканов с молодой женой объявится – в соседнем доме остался хозяином он, Саня. После смерти матери – Марии Федоровны – распалась семья, рассыпалась. И Саню лишь работа пасечника удерживала здесь. Сухонькую, тихоголосую, усмешливую мать Сани все вспоминают тепло и ясно, как живую: никогда и никто не видел ее без дела и никогда и никто не слышал, чтобы пожаловалась она на свою долю, а ведь подняла без мужа своих пятерых да еще сестриных пару. Те так к ней привязались, что мамой, чаще нянькой звали. Почти все белкановские парни стали уже работниками «широкого профиля»: едет который постарше на «Беларуси», глядишь, рядом головенка младшего белеет – старший натаскивает его, и, когда старший в армию отправится, младший спокойно занимает место брата за рулем, на сенокосилке, в кузнице, на комбайне.
Лежит Мария Федоровна под еловым крестом на маленьком, в хвойном лесу запавшем кладбище, опетая птицами. Отработала женщина за десятерых, оставила миру трудовых детей, успокоилась, отдыхает, но с тайным душевным трепетом думают ее товарки о последней, трогательной, всех изумившей воле, которая, если раздуматься, была для нее естественной, и все ее поведение перед смертью лишено было какой-либо позы и истерики, так ныне распространенных.








