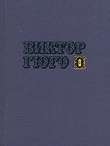Текст книги "Труженики Моря"
Автор книги: Виктор Гюго
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 32 страниц)
Жильят принадлежал к числу людей, способных привлечь себе на помощь саму опасность. Несколько мгновений он сосредоточенно размышлял.
Потом отправился в свой арсенал за топором.
Молот потрудился добросовестно, очередь была за топором.
Жильят поднялся на остов парохода, ступил на устойчивую часть палубной настилки и, наклонясь над Дуврской тесниной, принялся подрубать треснувшие балки и все остатки креплений, на которых повис обломок корпуса.
Разъединить окончательно обе половины разрушенного судна, освободить сохранившуюся часть, бросить в море все, чем уже завладел ветер, отдать буре ее долю – в этом состояла его задача. Она была не столько трудна, сколько опасна. Свисавшая половина корпуса, увлекаемая вниз ветром и еобственной тяжестью, соединялась со второй лишь в нескольких местах. Весь корпус походил на складень, одна полуотворенная створка которого билась о другую. Связью служили только пять-шесть балок деревянного остова судна, согнутых, надломленных, но еще державшихся. Под порывами ветра они скрипели, места надломов становились все шире, и топору оставалось лишь помочь ветру. Непрочность этих связей облегчала работу, но одновременно делала ее опасной. Все могло сразу рухнуть под ногами Жильята.
Буря бесновалась. Сначала она была только страшной, теперь стала ужасной. Судороги моря передались и небу. До сих пор туча повелевала всем и делала, казалось, что хотела.
Она всему давала толчок, она приводила в неистовство волны, но сама сохраняла какое-то зловещее спокойствие. Внизу было исступление, вверху – гнев. Небо – живое дыхание, ойеан – просто пена. Отсюда власть ветра. Ураган – это злой гений. Но, охмелев от внушаемого им ужаса, он пришел в замешательство и стал всего лишь вихрем. То было ослепление, порождающее тьму.
Порою бурей овладевает безумие; как будто небу бросается кровь в голову. Бездна не ведает, что творит. Мечет молнии как попало. Нет ничего страшнее. Это жуткие минуты. Волны в неистовстве били о рифы. Всякая буря держится своего таинственного направления, но в такие минуты она его теряет. Это худшая из сторон ее характера. Именно тогда ветер, по словам Томаса Фуллера, и превращается в «буйно помешанного». Именно тогда, в грозу, и происходит то беспрерывное расходование электричества, которое Пиддингтон называет «каскадом молний». Именно тогда, неизвестно по каким причинам, и возникает там, где туча всего чернее, голубоватый светлый круг, точно оконце, чтобы надзирать за всеобщим смятением; испанские моряки в древности его называли «глазом бури», el ojo de tempestad. Это мрачное око и взирало на Жильята.
Но Жильят и сам смотрел на тучу. Теперь он поднимал голову. После каждого взмаха топора он высокомерно выпрямлялся. Он был, – или так только казалось, – слишком близок к гибели, чтобы не проникнуться гордостью. Быть может, он отчаивался? Нет. Исступленному бешенству океана он противопоставлял не только отвагу, но и осторожность.
Он ходил лишь по устойчивым доскам разбитой палубы парохода. Он и рисковал и берегся. Он тоже дошел до исступления. Силы его удесятерились. Его опьяняло собственное бесстрашие. Он был в каком-то самозабвении. В ударах его топора звучал вызов. Ясность мысли возросла, – он, казалось, выиграл там, где проиграла буря. То был трагический поединок. Неистощимое, с одной стороны, неутомимое – с другой.
Кто же кого одолеет? Страшные тучи рисовались в беспредельности головами горгон; было пущено в ход все, чем можно запугать; волны метали дождь, а тучи – пену; над морем склонялись духи, ветра; вспыхивали багрянцем молнии и гасли; вслед за тем мрак становился чудовищным. Холодный ливень, не переставая, низвергался со всех сторон; кругом все бурлило; разлилась густая тьма; растерзанные кучевые облака пепельного цвета, отягченные градом, кружились точно в припадке безумия; в воздухе стоял шум, будто в решете встряхивали сухой горох; встречные электрические искры, которые наблюдал Вольта, перебрасывались с тучи на тучу, играли в громовержущие игры; страшны были бесконечно долгие раскаты грома, молнии вспыхивали рядом с Жильятом. Он, казалось, удивлял бездну. Шагая с топором в руках взад и вперед по качающейся Дюранде, палуба которой дрожала под ним, он рубил, отесывал, пробивал, рассекал; молния освещала его бледное лицо, забрызганное пеной, разметавшиеся волосы, босые ноги, лохмотья, весь его величественный облик среди разгула громов.
Со взбесившейся стихией может сразиться только ловкость. И ловкость Жильята восторжествовала. Он добивался того, чтобы разбитая часть судна обвалилась вся сразу. Для этого он подрубил надломленные балки, висевшие как на шарнирах, но подрубил не до конца, – теперь они держались на волоске. Вдруг он замер, забыв опустить топор. Задача была выполнена. Кусок судна оторвался весь целиком.
Половина остова Дюранды затонула между обоими Дуврами, прямо под Жильятом, который стоял на другой половине судна и, наклонившись, смотрел вниз. Обломок отвесно упал а воду и, обдав брызгами утесы, застрял в теснине, не коснувшись дна. Он выступал из воды, поднимаясь над волнами футов на двенадцать; палубный настил встал стеною между Дуврами, как и сброшенная ранее скала, что немного по – Дальше лежала поперек ущелья, он позволял пене чуть пробиваться только по краям; то была пятая баррикада, возведенлая Жильятом против наступающей бури на этой океанской улице.
Слепой ураган сам потрудился над новой баррикадой.
К счастью, промежуток между утесами был так тесен, что заграждение не достало дна. Это как бы делало его выше; кроме того, под ним могла пробиваться вода, что уменьшало силу волны. Если есть лазейка, незачем брать барьер.
В этом отчасти секрет плавучих волнорезов.
Теперь, что бы ни придумала туча, бояться за ботик и за машину было нечего. Вокруг них уж не могла бурлить вода. Между заслоном, прикрывшим Дувры с запада, и новым заграждением, защищавшим их с востока, им не были страшны ни набеги моря, ни налеты ветра.
Катастрофу Жильят обратил в средство спасенья. Туча в конце концов помогла ему.
Завершив свое дело, он горстью зачерпнул дождевой воды из лужицы и, утолив жажду, сказал туче: «Эх ты, водолей-дуралей!»
То была язвительная шутка воинственного ума, утверждавшего непроходимую глупость яростных стихий, низведенных до положения слуг; Жильят ощущал ту извечную потребность поносить врага, которая восходит к временам гомеровских героев.
Жильят спустился в лодку и оглядел ее при свете молний.
Помощь несчастному ботику пришла вовремя; его изрядно потрепало волнами, и он уже начал прогибаться. При беглой проверке Жильят не нашел никаких повреждений. Между тем лодке, несомненно, пришлось выдержать сильнейшие толчки. Но волнение улеглось, и корпус выпрямился сам; якоря оказались надежными, а машину крепко держали четыре цепи.
Не успел Жильят окончить осмотр, как что-то белое промелькнуло мимо него и пропало во тьме. То была чайка.
Доброе предзнаменование во время шторма. Если прилетают птицы, значит, гроза уходит.
Другой хороший предвестник – усилившийся гром.
Чрезмерное неистовство бури истощает ее силы. Моряки знают, что последнее испытание жестоко, но длится недолго.
Фейерверк молний предвещает конец.
Дождь внезапно прекратился. Только гром еще угрюмо рокотал в тучах. Шум грозы стих, как стихает шум от упавшей на землю доски. Гроза как бы надломилась. Рассыпалась необозримая громада облаков. Тьму разрезала надвое полоска чистого неба. Жильят изумился – был ясный день.
Буря продолжалась больше двадцати часов.
Ветер принес ее, он же и унес. Мрак таял, рассеивался и уходил к горизонту. Беспорядочно клубились разорванные, убегающие туманы; по всей передовой линии туч, от края до края, шло отступление; слышался протяжный, замирающий гул, упало несколько последних капель дождя; отзвуках грома унеслась тьма, точно сонмище грозовых колесниц.
Вдруг засинело все небо.
Только тут Жильят почувствовал, как он устал Сон хищной птицей слетает на утомленного человека. У Жилья та подкосились ноги, он упал в лодку, не выбирая места и тут же заснул. Нескольо часов проспал он мертвым сном, ни разу не пошевелившись, и его нельзя было отличить от балок и брусьев, среди которых он лежал.
Книга четвертая
Тайники рифа
I. He один Жильят голоденПроснувшись, Жильят почувствовал голод.
Буря умчалась. Но волнение в открытом море еще не совсем улеглось, отплыть сейчас было невозможно. К тому же день клонился к вечеру. Чтобы пристать к Гернсею до полуночи, да еще с перегруженной лодкой, надо было отправиться в путь утром.
Хоть голод и подгонял Жильята, он прежде всего разделся, – это был единственный способ согреться.
Он промок до нитки во время грозы, но дождевая вода смыла морскую воду, и его платье теперь могло быстрее просохнуть.
Жильят остался в одних штанах, засучив их до колен.
На выступах скал он разостлал рубашку, куртку, плащ, овечью шкуру, гетры и придавил их камнями.
Затем вспомнил, что надо поесть.
Вооружившись ножом, который он всегда заботливо оттачивал и держал в исправности, Жильят отделил от скалы несколько горных улиток, которые относятся к тому же виду, что и венерки Средиземного моря. Известно, что их едят сырыми. Но после такого длительного и тяжкого труда это была скудная пища. Сухарей у него не осталось. Зато в питьевой воде недостатка не было. Ее хватило бы не только для утоления жажды, но для целого наводнения.
Жильят воспользовался отливом и стал бродить среди скал, отыскивая лангуст. Море обнажило много отмелей, и это сулило удачную охоту.
Но он и не подумал о том, что теперь уже ничего не может испечь. Если бы он не торопился и дошел до своего склада, то увидал бы, что все размыто и разрушено ливнем, дрова и угли залиты водой, а в запасенной им пеньке, заменявшей трут, нет ни одного сухого волоконца. Разжечь огонь было нельзя.
Вдобавок и воздуходувка испортилась; навес над кузнечным горном сорвался; буря ограбила его мастерскую. С уцелевшими инструментами Жильят в крайнем случае еще мог бы работать как плотник, но не как кузнец. Впрочем, сейчас тильят и не вспомнил о своей мастерской.
Мучительный голод настойчиво напоминал о себе и Жильят, ни о чем другом не помышляя, пустился на поиски обеда. Он блуждал не в самом ущелье, а возле него по краям подводных скал. Как раз в этом месте Дюранда два с половиной месяца назад наскочила на риф.
Для охоты, предпринятой Жильятом, наружная сторона рифа была удобнее внутренней. При отливе крабы обычно выходят из воды, чтобы подышать. Они не прочь погреться на солнце. Эти безобразные существа любят зной. Их появление из воды среди дня производит странное впечатление их скопище возмущает. Когда видишь, как неуклюже, боком медленно взбираются они с бугорка на бугорок, по нижним уступам скал, словно по ступенькам лестницы, нельзя не подумать о том, что и в океане водятся гады.
Уже два месяца Жильят питался этими гадами.
Однако морские раки и лангусты в тот день попрятались Ьуря разогнала этих отшельников по их тайникам, и они еще не очнулись. Жильят держал нож наготове и, время от времени поддевая ракушку среди водорослей, съедал ее на ходу.
Он был неподалеку от того места, где погиб сьер Клюбен Жильят совсем было решил удовольствоваться морскими ежами и каштанами, как вдруг у его ног раздалось бульканье Крупный краб, испуганный его приближением, кинулся в воду. Краб не успел погрузиться глубоко, поэтому Жильят не потерял его из виду.
Жильят бросился за ним вдогонку вдоль подножия рифа Краб убегал.
Вдруг он исчез.
Он, вероятно, забился в какую-нибудь щель под скалой.
Жильят ухватился рукой за выступ скалы и, нагнувшись заглянул под гранитный навес.
Там действительно была расщелина. В ней-то вероятно и укрылся краб.
То была не простая впадина, а нечто вроде портика.
Вода заходила под портик, но там было неглубоко. Виднелось дно, усыпанное валунами. Валуны были серо-зеленые, обвитые водорослями, а это свидетельствовало о том, что их постоянно покрывала вода. Сверху они походили на зеленоволосые детские головки.
Жильят взял в зубы нож, спустился, цепляясь руками и ногами за гранит, с выступа скалы и прыгнул в воду. Она доходила ему почти до плеч.
Он шагнул под портик. Он очутился в каком-то каменном коридоре с гладко отполированными стенами, под древним стрельчатым сводом. Краба нигде не было видно. Жильят нащупал под ногами дно и двинулся вперед, в сгущавшуюся тьму. Он перестал что-либо различать перед собой.
Шагов через пятнадцать свод над его головой кончился.
Он вышел из узкого прохода. Стало просторнее и поэтому светлее; кроме того, его зрачки в темноте расширились, и он видел довольно отчетливо. Вдруг он остановился в изумлении.
Он вновь попал в ту необычайную пещеру, где был месяц назад.
Только на этот раз он попал в нее со стороны моря.
Он прошел через ту самую арку, которая была тогда затоплена. Порою, во время самых больших отливов, она становилась доступной.
Его глаза привыкли к темноте. Он видел все яснее и яснее. Он был ошеломлен. Перед ним предстал тот самый чудесный чертог тьмы, своды, колонны, то ли кровавые, то ли пурпурные блики, растения в самоцветах, а в глубине подводный склеп, похожий на святилище, и камень, похожий на алтарь.
Он плохо отдавал себе отчет во всех подробностях, но в памяти его сохранилась общая картина, и он вновь увидел ее.
Напротив, довольно высоко, в стене, он увидел ту расщелину, по которой пробрался сюда в первый раз; с того места, где он теперь стоял, она казалась недосягаемой.
Он вновь увидел возле стрельчатой арки низкие и темные гроты, замеченные им тогда издали и подобные маленьким пещерам в большой. Теперь он очутился рядом с ними. Ближний грот целиком вышел из воды, в него легко было проникнуть.
И уж совсем близко от себя, на расстоянии вытянутой руки, он приметил в гранитной стене, чуть повыше уровня воды, продольную трещину. Там-то, вероятно, и притаился краб. Жильят засунул туда руку, как можно глубже, и стал шарить в этой темной норе.
Вдруг он почувствовал, что кто-то схватил его за руку.
Невыразимый ужас овладел им.
Что-то тонкое, шершавое, плоское, ледяное, липкое и живое обвивалось во мраке вокруг его обнаженной руки, оно подбиралось к его груди, оно сжимлло ремнем, впивалось буравом. В один миг словно какая-то спираль скрутила кисть и локоть и коснулась плеча. Холодное острие скользнуло ему под мышку.
Жильят рванулся было назад, но едва мог пошевельнуться. Он был словно пригвожден. Свободной левой рукой он схватил нож, который держал в зубах, и уперся ею в скалу, изо всех сил пытаясь вырвать правую руку. Но он только чуть сдвинул живую повязку, которая стянула его еще туже.
Она была гибка, как кожа, крепка, как сталь, холодна, как ночь.
Еще один ремень, узкий и заостренный, показался из щели, точно язык, высунувшийся из пасти. Этот омерзительный язык лизнул обнаженный торс Жильята и вдруг, вытянувшись и став невероятно длинным и тонким, прилип к его коже и обвил все тело.
В ту же секунду неслыханная, ни с чем не сравнимая боль стала сводить напряженные мускулы Жильята. Он чувствовал, как вдавились в его кожу какие-то отвратительные круглые бугорки. Ему казалось, что бесчисленные рты, прильнувшие к его телу, стараются высосать из него кровь.
Из скалы вынырнул, извиваясь, третий ремень, ощупал Жильята и, хлестнув его по бокам, застыл.
Смертельный страх, достигший предела, бывает нем.
Жильят ни разу не, вскрикнул. Было довольно светло, и он мог рассмотреть омерзительные, приклеившиеся к нему ленты. Четвертая тесьма, взвившись стрелою, обернулась вокруг него и стянула ему живот.
Ни оторвать, ни обрезать липкие ремни, приставшие во множество точек к телу, было немыслимо. Каждая из точек стала очагом чудовищной, невероятной боли. Такое ощущение должен испытывать человек, пожираемый сразу множеством крошечных ртов.
Взметнулся из трещины пятый ремень. Он лег поверх остальных и сдавил Жильяту диафрагму. Эти тиски увеличивали его муку; Жильят едва дышал.
Заостренные на концах ремни расширились к основанию, как клинок шпаги к рукоятке. Все пять, очевидно, сходились к единому центру. Они двигались и ползали по Жильяту. Он чувствовал, как перемещались, вдавливаясь в тело, невидимые бугорки, показавшиеся ему ртами.
Вдруг из щели появился большой круглый и плоский кем слизи. Это и был центр. Пять ремней соединялись с ним, как спицы колеса со ступицей; по другую сторону этого отвратительного диска можно было различить еще три щупальца, оставшихся в углублении скалы. Из кома слизи глядели два глаза.
Глаза видели Жильята.
Жильят понял, что перед ним спрут.
II. ЧудовищеЧтобы поверить в существование спрута, надо его увидеть. Сравнения осьминога с гидрами античных мифов вызывают улыбку.
Порою невольно приходишь к такой мысли: неуловимое, реющее в наших, сновидениях, сталкивается в области возможного с магнитами, которые притягивают его, и тогда оно обретает очертания, – вот эти сгустки сна и становятся живыми существами.
Неведомому дано совершать чудеса, и оно пользуется этдм, чтобы создать чудовище. Орфей[183]183
Орфей (греч. миф.) – певец, приводивший своей музыкой в движение деревья и скалы, усмирявший адские силы.
[Закрыть], Гомер и Гесиод[184]184
Гесиод – древнейший известный нам поэт античной Греции (конец VIII или начало VII в. до н. э.); автор поэм «Труды и дни» и «Теогония», – в последней дается генеалогия греческих, богов.
[Закрыть] могли сотворить лишь химеру; бог сотворил спрута.
Если богу угодно, он может даже гнусное довести до совершенства.
Вопрос о причине такого его желания повергает в ужас мыслителя, верующего в бога.
Если допустить идеалы во всех областях – и если цель – создать идеал ужасающего, то спрут – образцовое творение.
Кит исполин – спрут невелик; у гиппопотама броня – спрут обнажен; кобра издает свист – спрут нем; у носорога есть рог, у спрута рога нет; у скорпиона жало, у спрута жала нет; у тарантула челюсти, у спрута челюстей нет; у ревуна цепкий хвост; у спрута хвоста нет; у акулы острые плавники, у спрута плавников нет; у вампира когтистые крылья, у спрута крыльев нет; у ежа иглы, у спрута игл нет; у меч-рыбы меч, а у спрута меча нет; у ската электрический разряд, у спрута электрического разряда нет; у жабы отравляющая слюна, у спрута отравляющей слюны нет; у змеи яд, у спрута яда нет; у льва когти, у спрута когтей пет; у ягнятника клюв, у спрута клюва нет; у крокодила зубастая пасть, у спрута зубов нет.
У спрута нет ни мускулов, ни угрожающего рева, ни панциря, ни рога, ни жала, ни клешней, ни цепкого или разящего хвоста, ни острых плавников, ни когтистых крыльев, ни игл, ни мечевидного носа, ни электрического тока, ни отравляющей слюны, – ни яда, ни когтистых лап, ни клюва, ни зубов.
Спрут вооружен страшнее всех в животном мире.
Что же такое спрут? Кровососная банка.
В рифах, среди океана, там, где воды его то прячут, то выставляют напоказ свои сокровища, во впадинах никем не посещаемых скал, в неведомых пещерах, полных разнообразной растительности, ракообразных животных и раковин, под глубинными порталами моря, пловцу, которого привлекла бы красота этих мест и который отважился бы заглянуть туда, угрожает неожиданная встреча. Если это случится с вами, не любопытствуйте, бегите прочь. Туда входишь восхищенный, выходишь потрясенный ужасом.
Вот с чем вы всегда можете встретиться в скалах открытого моря.
Сероватый предмет колышется в воде, весь он с руку толщиной, а длиной с пол-локтя, не то тряпка, не то закрытый зонт без ручки. Этот лоскут понемногу приближается к вам.
Но вот он развернулся, восемь лучей внезапно разошлись вокруг двуглазого диска; лучи эти живут; они извиваются, сверкают; это что-то вроде колеса четырех или пяти футов в диаметре. Чудовищная звезда! Она бросается на вас Спрут гарпуном поражает человека.
Эта тварь прилипает к добыче, опутывает ее и связывает длинными ремнями. Снизу она желтоватого цвета сверху – землистого; ничем не передать ее неописуемый пыльный оттенок. Это существо, живущее в воде, как будто сделано из пепла. Оно – паук по форме и хамелеон по окраске. От злобы оно синеет. И все оно мягкое; это страшно.
Его петли душат; прикосновение парализует Оно похоже на скорбут или гангрену. Оно – болезнь принявшая форму чудовища.
Спрута не оторвать. Он плотно прирастает к жертве Каким образом? При помощи пустоты. Восемь щупалец широких в основании, постепенно утончаются, оканчиваясь иглами. Под каждым идут параллельно два ряда постепенно уменьшающихся отростков, крупных у головы, мелких на концах, паждыи ряд состоит из двадцати пяти отростков – на щупальце их пятьдесят; на всем животном четыреста. Отростки эти и являются присосками.
Присоски-это хрящи цилиндрической формы, бесцветные, покрытые роговидной оболочкой. У крупных особей они достигают величины пятифранковой монеты в диаметре постепенно уменьшаясь до размера чечевичного зерна Спрут то выпускает, то втягивает полые трубки – присоски. Иногда они впиваются в добычу глубже чем на дюйм.
Кровососный аппарат обладает тонкой восприимчивостью клавиатуры. Он выступает наружу, потом прячется. Он подчиняется малейшему намерению спрута. Самая изощренная чувствительность далека от чувствительности присосков спосооных молниеносно сокращаться в зависимости от внутренних побуждений животного или внешних условий Этот дракон – мимоза.
То самое чудовище, которое моряки называют спрутом а наука головоногим, легенда называет морским дивом Английские матросы называют его devil-fish, рыба-дьявол. Они называют его также blood-sucker, кровосос. Жители Ламанша навывают его слизнем.
Он очень редко попадается близ Гернсея, очень мал близ Дшерсея, очень велик и довольно часто встречается близ острова Серк.
На одном рисунке в сочинениях Бюфферона, изданных Соннини, изображен осьминог, обхвативший своими щупальцами фрегат. Дени Монфор полагает, что спрут северных широт действительно в силах потопить корабль. Бори Сен-Венсан отрицает это, утверждая, однако, что в наших морях он нападает на человека. Поезжайте на Серк, там вам покажут возле Ьрек-У пещеру ъ скале, где несколько лет назад спрут схватил и, затянув под воду, утопил ловца омаров. Перон[185]185
Перон Франсуа (1775—1810) – французский натуралист, собравший обширные коллекции морской флоры и фауны.
[Закрыть] и Ламарк[186]186
Ламарк Жан Батист (1744—1829) – французский ученый-естествоиспытатель, создавший теорию исторического развития живой природы.
[Закрыть] совершили ошибку, усомнись в том, что спрут может плавать, раз у него нет плавников. Автор этих строк собственными глазами видел на острове Серк, как спрут в гроте, называемом Лабазом, вплавь преследовал купающегося. Когда спрут был убит, его измерили, – оказалось, что у него четыре английских фута в поперечнике, присосков у него насчитали четыреста. Издыхающее животное судорожно вытолкнуло их из себя.
По мнению Дени Монфора, одного из тех наблюдателей, чья богатая интуиция заставляет их опускаться либо возвышаться до занятий магией, осьминог обладает чуть ли не человеческими страстями; осьминог умеет ненавидеть. В самом деле, быть идеально омерзительным – значит, быть одержи– мым ненавистью.
Уродство отстаивает себя перед необходимостью своего уничтожения, и это его озлобляет.
Спрут, плавая, как будто находится в чехле. Он плывет, собравшись складками. Вообразите защитный рукав и внутри него – кулак. Кулак, он же голова спрута, отталкивает воду и продвигается вперед еле заметным волнообразным движением. Оба его выпуклых глаза, хоть и велики, мало заметны, ибо они цвета воды.
На охоте или в засаде спрут маскируется; он уменьшается, сжимается, сокращается до предела. Он сливается с полутьмой. С виду он – изгиб на волне. Его примешь за все что угодно, но только не за живое существо.
Спрут – это лицемер. На него не обращаешь внимания:
он обнаруживает себя внезапно.
Комок слизи, обладающий волей, – что может быть страшнее! Капля клея, замешанного на ненависти.
В прекраснейшей лазури прозрачных вод возникает эта омерзительная, прожорливая морская звезда. Заметить ее приближение нельзя, и это ужасно. Увидеть ее означает стать ее жертвой.
Однако ночью, особенно в период спаривания, спрут фосфоресцирует. Даже эту чудовищную тварь посещает любовь.
Она жаждет супружества. Она прихорашивается, она лучится светом, и с верхушки скалы видишь, как внизу, в глубокой тьме, она расцветает бледным сиянием, словно призрачное солнце.
Спрут не только плавает, он и ходит. Он отчасти рыба, что не мешает ему быть отчасти пресмыкающимся. Он ползает по морскому дну, а для ходьбы ему служат все восемь лап.
Он тащится, как гусеница-землемер.
У него нет костей, у него нет крови, у него нет плоти. Он дряблый. Он полый. Он всего лишь оболочка. Можно вывернуть его восемь щупалец наизнанку, как пальцы перчатки.
У него одно отверстие, в центре лучевидных лап. Что это – анальное отверстие или зев? И то и другое. Оно имеет оба назначения. Вход и есть выход.
Он холоден на ощупь.
Моллюск Средиземного моря отвратителен. Прикосновение этого живого студня, облепляющего пловцов, омерзительно, в нем вязнут руки, в него зарываются ногти, его раздираешь, но его не убить, его отрываешь, но от него не освободиться, это что-то текучее и цепкое, скользящее между пальцами; ничто так не поражает, как внезапное появление спрута, этой Медузы о восьми змеях.
Нет тисков, равных по силе объятиям осьминога.
На вас нападает воздушный насос. Вы имеете дело с пустотой, вооруженной щупальцами. Ни вонзающихся когтей, ни вонзающихся клыков, одно лишь невыразимое ощущение надсекаемой кожи. Укус страшен, но не так страшен, как высасывание. Коготь – пустяк по сравнению с присоском. Коготь зверя вонзается в ваше тело; присосок гада вас втягивает в себя. Ваши мускулы вздуваются, сухожилья скручиваются, кожа лопается под мерзкими присосками; кровь брызжет и смешивается с отвратительной лимфой моллюска. Множеством гнусных ртов приникает к вам эта тварь; гидра срастается с человеком; человек сливается с гидрой. Вы – одно целое с нею. Вы – пленник этого воплощенного кошмара. Тигр может сожрать вас, осьминог – страшно подумать! – высасывает вас.
Он тянет вас к себе, вбирает, и вы, связанный, склеенный этой живой слизью, беспомощный; чувствуете, как медленно переливаетесь в страшный мешок, каким является это чудовище.
Ужасно быть съеденным заживо, но есть нечто еще более страшное – быть заживо выпитым.
Наука, по своей крайней осмотрительности, даже стоя перед лицом фактов, сперва отвергает возможность существования этих необыкновенных животных, но затем решается их изучить: она анатомирует их, классифицирует, вносит в списки, налепляет этикетку; она добывает образцы и прячет их под стекло в музеях, распределяет по рубрикам номенклатуры; она именует их моллюсками, беспозвоночными, лучеобразвыми; устанавливает их место среди им подобных – несколько выше кальмара, несколько ниже сепии; в этих гадах соленых вод она выискивает сходство с гадами пресноводными, с водяными, с водяными пауками; она подразделяет их на крупные, Средние и мелкие виды; она признает скорее мелкие виды, чем крупные, что, впрочем, является ее обыкновением во всех областях, ибо она охотно отдает предпочтение микроскопу перед телескопом; она рассматривает их строение и называет головоногими, пересчитывает их щупальца и называет осьминогами. После этого она оставляет их в покое. Когда с ними прощается наука, берется за дело философия.
Философия, в свою очередь, изучает эти существа. Она заходит не так далеко, как наука, но в чем-то идет дальше ее. Она ле препарирует, она размышляет. Там, где орудовал скальпель, она применяет гипотезу. Она ищет конечную цель.
Мыслитель глубоко страдает. Творения эти заставляют его усомниться в самом их творце. Они – гнусная неожиданность.
Они вносят разлад в душу созерцателя. Он теряется, удостоверившись в их существовании. Они – задуманные и осуществленные формы зла. Мироздание возводит хулу на себя. Как быть с этим? Кого обвинять?
Возможное – страшное плодоносное лоно. Тайна воплощается в чудовищ. Сгустки мрака исторгаются целым, имя которого космос; они разрываются, разъединяются, вращают– ся, плывут, уплотняются, впитывая окружающую тьму, подвергаются неведомым поляризациям, оживают, обретают невероятные формы, созданные из мглы, и невероятные души, созданные из миазмов, и вступают жуткими призраками в мир живых творений. Это – как бы мрак, преобразившийся в животных. Зачем? Вот он, извечный вопрос.
Животные эти – быть может, чудовища, быть может, видения. Они неоспоримы, но они невероятны. Их существование – факт; не существовать – было бы их законным правом.
Они амфибии смерти. Неправдоподобно само их существование. Они соприкасаются с границами мира людей и живут в преддверье мира химер. Вы отрицаете вампира – налицо спрут. Их множество, и очевидность этого приводит вас в замешательство. Оптимизм, при всей своей правоте, почти утрачивает перед ними стойкость. Они – видимый предел кругов тьмы. Они обозначают переход нашей действительности в иную. Кажется, что за ними тянутся сонмы ужасных существ, которые смутно мерещатся спящему сквозь отдушину ночи.
Это продолжение жизни чудовищ, возникших в мире невидимого и переселившихся затем в мир возможного, прозревэлось суровым вдохновением магов и философов, вероятно, даже подмечалось их внимательным оком. Отсюда мысль о преисподней. Демон, этот тигр невидимого мира, хищник, охотящийся за душами, был возвещен роду человеческому двумя духовидцами: имя одного – Иоанн[187]187
Иоанн (Иоанн Богослов) – по церковному преданию, автор книги Апокалипсис, содержащей его «откровения», мрачные пророчества о «конце мира».
[Закрыть], другого – Данте.[188]188
Данте Алигьери (1265—1321) построил поэму «Божественная Комедия» в форме видений ада, чистилища и рая, но дал в ней картины реальной земной жизни.
[Закрыть]
Если правда, что круги тьмы теряются в пространстве, если за одним кольцом следует другое, если это нарастание мрака идет в бесконечной прогрессии, если цепь. эта, которую мы сами решили подвергнуть сомнению, существует, то спрут у одного ее предела доказывает, что есть сатана у другого.
Воплощение злобы на одном конце доказывает, что есть источник злобы на другом конце.
Всякая зловредная тварь, как и всякий извращенный ум, – своего рода сфинкс.
Ужасный сфинкс, предлагающий ужасную загадку Загадку зла.
Вот этр совершенство зла и заставляло иной раз мудрецов уклоняться к вере в двойное божество, в страшного двуликого Фога манихеян.
На шелковой китайской ткани, украденной во время последней войны из дворца китайского императора, изображена акула, пожирающая крокодила, который пожирает орла орел пожирает ласточку, а та пожирает гусеницу.
Все в природе на наших глазах пожирает и само пожирается. Одна жертва поедает другую.
Тем не менее ученые, – а они еще и философы и следовательно, благожелательны ко всему сущему, – нашли этому объяснение или уверовали, что нашли. Некоторые пришли к удивительному выводу, и среди них женевец Бонне[189]189
Бонне Шарль (1720—1793) – швейцарский реакционный натурфилософ, антиэволюционист, создатель мистической теории палипгенезии, в которой стремился «научно» обосновать церковное учение о сотворении мира.
[Закрыть], человек загадочного и точного ума, которого противопоставляли Бюффону[190]190
Бюффон Жорж (1707—1788) – французский ученый-естествоиспытатель, посвятивший себя исключительно описательному естествознанию.
[Закрыть], как позже Жоффруа Сент-Илера[191]191
Жоффруа Сент-Илер Этьен (1772—1844) – французский зоолог, один из наиболее выдающихся эволюционистов до Дарвина. В 1830 г. вступил в диспут с другим крупным, ученым, палеонтологом Жоржем Кювье.
[Закрыть] противопоставляли Кювье[192]192
Кювье (1769—1832) – противник идеи развития природы; противопоставлял ей теорию геологических катастроф, которая была, по словам Энгельса, «революционна на словах и реакционна на деле».
[Закрыть]. Вот какое было объяснение: если всюду есть смерть то всюду должно быть и погребение. Прожорливые хищнижи – это могильщики.
Все существа поглощают друг друга. Падаль – это пища Ужасная чистка земного шара! Человек как животное плотоядное – тоже могильщик. Жизнь наша питается смертью Таков устрашающий закон. Мы сами – гробницы.