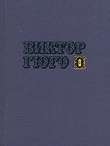Текст книги "Труженики Моря"
Автор книги: Виктор Гюго
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 32 страниц)
В ту самую субботу, которую сьер Клюбен провел в Тортвале, вероятно, и произошло престранное событие, мало кому известное поначалу и всплывшее лишь долгое время спустя.
Ибо, как мы уже говорили, о многом очевидец умалчивает под влиянием испытанного страха.
В ночь с субботы на воскресенье – мы указываем время точно и уверены, что не ошибаемся, – трое мальчишек вскарабкались на крутой пленмонский берег. Ребята возвращались домой, в селение. Они целый день провели на море. То были разорители гнезд, а по местному выражению, «гнездодеры».
На любом побережье, где есть утесы и расщелины в скалах, нависших над морем, ватаги детей опустошают птичьи гнезда.
Мы уже вскользь упоминали о них. Читатель, верно, помнит, что Жильят тревожился и за детей и за птиц.
Гнездодеры – это, так сказать, океанские сорванцы, они отнюдь не робкого десятка.
Тьма была непроглядная. Толстый слой туч закрывал небосклон. На тортвальской колокольне, круглой и остроконечной, как шапка чернокнижника, только что пробило три часа.
Почему же мальчишки возвращались так поздно? Да очень просто. Они разыскивали яйца чаек на «Западной груде гороха». Весна йыдалась теплая, и рано настала пора любви у птиц. Ребята гонялись за пернатыми самцами и самками, кружившими над гнездами, и в охотничьей горячке совсем позабыли о времени. Они попали в плен к приливу, вовремя не вернулись в бухточку, где причалили свою лодку, и им пришлось ждать отлива на одной из вершин «Западной груды гороха». Вот почему они запоздали. Обычно матери ждали их в лихорадочной тревоге, но радость встречи, сменяя тревогу, разражалась гневом, а накипевшие слезы – подзатыльниками.
Поэтому-то ребята побаивались и спешили. Они спешили, но все служило им предлогом для промедления, так им не хотелось являться домой. Впереди их ждали материнские объятия вперемежку с затрещинами.
Лишь одному из них, сироте-французу, нечего было бояться. Он рос без родителей и сейчас даже радовался, что у него нет матери. Никому до него нет дела, поэтому нечего опасаться и колотушек. Двое других были гернсейцы из тортвальского прихода.
Трое гнездодеров, вскарабкавшись на гребень высокого, крутого обрыва, вышли на плоскогорье, к дому, «облюбованному нечистой силой».
И сразу же их обуял страх, что случалось с любым прохожим, особенно с ребенком, в такой час и в таком месте.
Им очень хотелось бежать со всех ног, но хотелось также постоять и поглазеть.
Они остановились.
Они вгляделись в дом.
Он был очень черный и очень страшный.
На пустынном плоскогорье возвышалась мрачная громада, какой-то правильно очерченный отвратительный нарост, какая-то квадратная глыба с прямыми углами, похожая на исполинский алтарь преисподней.
Первой мыслью ребят было удрать, второй – подойти щи ближе. Они еще никогда не видали этого дома в ночной час, Ведь любопытяо испытать страх. С ними был маленький француз, поэтому они подошли к дому.
Известно, что французы ни во что не верят.
Да и легче, – когда ты не один в опасности; втроем бояться веселее.
А потом, когда ты охотник, когда ты мальчишка и когда всей троице нет и тридцати лет, когда высматриваешь, подкарауливаешь, разведываешь то, что скрыто, – разве остановишься на полдороге? Раз ты сунул нос в одно гнездо, как же не сунуть его в другое? Охота увлекает; пошел выслеживать – точно в зубчатое колесо попал. В жилье птиц заглядывал, ну и в жилье призраков, хоть одним глазком, а хочется заглянуть, Почему бы не разнюхать, что делается в аду?
От дичи к дичи – смотришь, и до дьявола доберешься.
Начнешь с воробья, кончишь домовым. Вот и узнаешь, верить ли тому, чем путают родители. Размотать клубок волшебной сказки – большое искушение. Соблазнительно стать таким же сведущим в этом деле, как старушка-бабушка.
Все эти смутные безотчетные мысли, беспорядочно теснившиеся в головах гернсейских гнездодеров, толкнули их на дерзкую затею. Они двинулись к дому.
Мальчик, их вожак в этом отважном предприятии, был достоин своего звания. Этот решительный юнец, ученик подмастерья, принадлежал к породе мальчишек, рано ставших взрослыми; он спал на верфи в сарае, на соломе, сам добывал себе на пропитание, говорил грубым голосом, лазил по заборам и деревьям, без всякого стеснения срывая мимоходом яблоки, работал по ремонту военных кораблей; сын случая, нежданное дитя, сирота-весельчак, родившийся к тому же во Франции, где именно, неизвестно, – две причины быть смелым, – очень насмешливый, белокурый, добрый, он, не задумываясь, отдавал нищему дубль и болтал, если приходилось, даже с парижанами. Теперь он конопатил рыбачьи суда, чинившиеся в Пекри, и зарабатывал по шиллингу в день. Он бросал работу, когда вздумается, и отправлялся разорять птичьи гнезда. Таков был маленький француз.
Чем-то зловещим веяло от этого пустынного места. Оно производило впечатление чего-то грозного и нерушимого. Все наводило уныние. Пологий склон безмолвного и голого плоскогорья терялся в глубине пропасти, зиявшей совсем рядом.
Море внизу приумолкло. Воздух был недвижен. Ни одна былинка не колыхалась.
Медленно шагали юнцы-гнездодеры во главе с маленьким французом, не сводя глаз с дома.
Позднее один из них, рассказывая о своем приключении, вернее, о том, что сохранилось в его памяти, добавлял: «Дом молчал».
Мальчики крались, затаив дыхание, как подкрадываются к зверю.
Они взобрались по крутой тропинке, что сбегает за домом к самому морю, обрываясь у небольшого, но почти недоступного скалистого перешейка, и очутились довольно близко от здания; однако им был виден только южный сплошь замурованный фасад; свернуть влево, где перед ними открылась бы другая стена дома – с двумя окнами, они не смели, им было страшно.
И все-таки они отважились, когда юный подмастерье шепнул им: «Держи лево руля. Оттуда здорово все видно. Надо посмотреть на черные окна».
Они взяли «лево руля» и оказались с другой стороны здания.
В окнах горел свет.
Дети бросились бежать.
Уже на порядочном расстоянии от дома маленький француз оглянулся.
– Вот так штука, – удивился он, – погасло.
В самом деле, окна больше не светились. На тусклом сером небе четко вырисовывался силуэт дома, словно обведенный резцом.
Страх не прошел, но любопытство вернулось. Гнездодеры приблизились к дому.
Вдруг в окнах вспыхнул свет.
Оба тортвальца опять бросились наутек. А бесенок-француз не сделал ни шага вперед, но и ни шага назад.
Он замер, стоя лицом к дому и не сводя с него глаз.
Огонь потух и снова сверкнул. Было непередаваемо жутко.
Неяркая длинная полоса света легла на траву, влажную от ночной росы. И вдруг на стене в комнате возникли чудовищные черные профили, задвигались тени огромных голов.
В доме не было ни потолка, ни перегородок, остались только четыре стены да крыша, поэтому окна засветились одновременно.
Оба гернсеица, увидев, что ученик конопатчика остался, вернулись, прячась друг за дружку, подвигаясь шаг за шагом, дрожа от страха и сгорая от любопытства. Мальчишка тихонько сказал: «В доме привидения, у одного я разглядел нос».
Оба маленьких тортвальца спрятались за спиной француза, как за щитом, прикрывавшим их от страшилища, поднялись на цыпочки и стали смотреть поверх его плеча, ободренные тем, что он загородил их от привидений.
Казалось, и дом смотрел на них. В беспредельном, безмолвном мраке горели два красных зрачка. То были окна. Огонек чуть мерцал, внезапно разгорался и опять тускнел, как бывает именно с такими вот огоньками. Зловещее мелькание объясняется, вероятно, толчеей в преисподней.
Дверь туда то приотворяется, то захлопывается. Отдушина гробницы Похожа на потайной фонарь. Вдруг черная фигура – как будто человеческая – заслонила одно окно, словно появившись снаружи, и скрылась внутри дома. Казалось, что туда кто-то влез.
В дом через окно обычно влезают воры.
Свет вспыхнул, затем погас и больше не появлялся. Дом снова окутался тьмой. И тут послышался шум. Шум походил на голоса. Так всегда бывдет: когда видишь – не слышишь; когда не видишь – слышишь.
Ночью на море беззвучно по-особенному. Безмолвие тьмы там глубже, чем где-либо. Среди волнующихся водных просторов, где не расслышишь и шума орлиных крыльев, в безветренную пору, в затишье, можно, пожалуй, услышать и полет мухи.
Могильная тишина вокруг придавала зловещую четкость звукам, доносившимся из дома.
– Пойдем посмотрим, – сказал маленький француз.
И шагнул вперед.
Его спутники до того струсили, что решились пойти за, ним. Убежать они уже не осмеливались.
Когда они миновали большую кучу валежника, которая неизвестно почему подбодрила их в этом пустынном месте, из куста вылетела сова, зашуршали ветви. Что-то пугающее есть в неровном, косом полете совы. Птица взметнулась и пролетела рядом с детьми, глядя на них круглыми, светящимися в темноте глазами.
За спиной француза возникло некоторое смятение.
А он еще подразнил сову:
– Опоздал, воробей. Не до тебя. Все равно посмотрю.
И пошел дальше.
Хруст ветвей терновника под его грубыми башмаками, подбитыми гвоздями, не заглушал шума голосов, раздававшихся в доме; они звучали то громче, то тише, словно там велась мирная беседа.
Немного погодя француз сказал:
– В общем, одни дураки верят в привидения.
Дерзкие повадки товарища в минуту опасности подбадривают отстающих и толкают вперед.
Оба мальчугана-тортвальца снова зашагали, ступая след в след за своим вожаком.
Казалось, дом, посещаемый нечистью, непомерно увеличивается. В обмане зрения, вызванном страхом, была доля истины. Дом и на самом деле становился больше, потому что они приближались к нему.
Все отчетливее становились голоса, доносившиеся из дома.
Дети вслушивались. Слух также обладает способностью преувеличивать. То было не шушуканье, а что-то погромче шепота и потише гула толпы. Временами долетали отдельные слова. Понять их было невозможно. Они звучали странно. Дети останавливались, прислушивались и снова шли вперед.
– Выходцы с того света разговорились, но я ничуточки не верю в выходцев с того света, – шепнул ученик конопатчика.
Юным тортвальцам очень захотелось юркнуть за кучу хвороста, но они уже были далеко от нее, а их приятель конопатчик все шел и шел к дому. Страшно было идти за ним, но убежать без него было еще страшнее.
Растерянно, шаг за шагом, плелись они за французом.
Он обернулся и сказал:
– Вы сами знаете, что все это враки. Ничего там нет.
А дом все рос да рос. Голоса делались все громче и громче.
Дети приблизились к нему.
Тут они увидели, что в доме теплится свет. То был тусклый огонек, который горит обычно, как мы уже упомянули, в потайном фонаре или освещает бесовские шабаши.
Они подошли вплотную и остановились.
Один из тортвальцев, набравшись храбрости, заметил:
– Никаких тут нет привидений, одни Белые дамы.
– Что это за штука висит в окне? – спросил другой.
– Смахивает на веревку.
– Да это змея!
– Нет, веревка повешенного, – важно заявил француз. – Она им помощница, но я в это не верю.
И в три прыжка он очутился у стены дома. В его отваге было что-то лихорадочное.
Приятели, дрожа, последовали его примеру: один стал слева, другой справа от него, и оба лрижались к нему так крепко, точно приросли. Дети припали ухом к стене. Призраки все еще вели беседу.
В доме разговаривали по-испански и вот о чем:
– Значит, решено?
– Решено.
– Условлено?
– Условлено.
– Человек будет ждать здесь. Может он отправиться в Англию с Бласкито?
– За плату?
– За плату.
– Бласкито возьмет его в свою лодку.
– Не допытываясь, откуда он?
– Дело не наше.
– Не спрашивая его имени?
– Имя не важно, был бы кошелек полон, – Хорошо. Он подождет в доме.
– Пусть запасется едой.
– Еда будет.
– Где?
– В саквояже, который я принес.
– Очень хорошо.
– Оставить его здесь можно?
– Контрабандисты не воры.
– А вы-то сами когда уезжаете?
– Завтра утром. Был бы ваш знакомец готов, уехал бы с нами.
– Он еще не готов.
– Дело его.
– Сколько дней придется ему ждать в этом доме?
– Два, три, четыре. Может, меньше, может, больше.
– Бласкито приедет наверняка?
– Наверняка.
– Сюда, в Пленмон?
– В Пленмон.
– Когда?
– На будущей неделе.
– В какой день?
– В пятницу, в субботу или в воскресенье, – Он не обманет?
– Он мой тезка.
– И приезжает в любую погоду?
– В любую. Он не знает страха. Я Бласко, он Бласкито, – Значит, он непременно будет на Гернсее?
– Один месяц езжу я, другой – он.
– Понимаю.
– Считая с будущей субботы, то есть ровно через неделю, не пройдет и пяти дней, как Бласкито будет здесь, – Ну, а если море разбушуется?
– Если будет ненастье?
– Да.
– Бласкито задержится, но приедет, – Откуда?
– Из Бильбао.
– Куда он направится?
– В Портланд.
– Хорошо.
– Или в Торбэй.
– Еще лучше.
– Пусть ваш знакомец не беспокоится.
– Бласкито не выдаст?
– Только трус – предатель. А мы народ смелый. Не горит лед, не предаст мореход.
– Никто не слышит наш разговор?
– Нас нельзя ни услышать, ни увидеть. Страх превратил это место в пустыню.
– Знаю.
– Кто осмелится нас подслушать?
– Верно.
– А если бы подслушали, то не разобрались бы. Мы говорим на своем языке, его тут никто не знает. А вы знаете, значит, вы свой.
– Я пришел договориться с вами.
– Так.
– Теперь я ухожу.
– Ну что ж.
– А если пассажир захочет, чтобы Бласкито повез его не в Портланд и не в Торбэй, а куда-нибудь еще подальше?
– Пусть приготовит вдвое больше пистолей.
– Тогда Бласкито сделает все, что захочет пассажир?
– Бласкито сделает все, что захотят пистоли.
– Долог ли путь до Торбэя?
– Как будет угодно ветру.
– Часов восемь?
– Может, больше, может, меньше.
– Бласкито послушается пассажира?
– Если море послушается Бласкито.
– Ему хорошо заплатят.
– Золото – золотом, а ветер – ветром.
– Это верно.
– Человек при помощи золота делает, что может, Бог при помощи ветра делает, что хочет.
– Тот, кто собирается уехать с Бласкито, будет здесь в пятницу.
– Хорошо.
– В какое время прибудет Бласкито?
– Ночью. Ночью приплывем, ночью отплывем. Море – жена нам, а темная ночь – сестра. Жена, случается, изменит; сестра – никогда.
– Ну, все решено. Прощайте, молодцы.
– Доброй ночи. А водки на дорогу?
– Благодарю.
– Это почище наливки.
– Итак, вы дали мне слово.
– Мое прозвище – «Честное слово». – Прощайте.
– Вы – джентльмен, я – рыцарь.
Само собою разумеется, что только бесы могли вести такой непонятный разговор. Дети не стали слушать дальше и на этот раз пустились со всех ног, ибо наконец пробрало даже француза, – он бежал быстрее всех.
Во вторник на следующей неделе сьер Клюбен снова привел Дюранду в Сен-Мало.
«Тамолипас» все еще стоял на рейде.
Между двумя затяжками трубки сьер Клюбен спросил у хозяина «Гостиницы Жана»:
– Когда же снимается этот самый «Тамолипас»?
– Послезавтра, в четверг, – ответил хозяин.
В тот же вечер Клюбен, поужинав за столом береговой охраны, против обыкновения вышел из дома. Вот почему его и не было в конторе Дюранды; он не принял почти никакого груза на пароход. Поступок этот был необычен для такого исполнительного человека.
Кажется, он беседовал несколько минут со своим приятелем менялой.
Вернулся он через два часа после того, как колокол на ногетской колокольне подал сигнал тушить огонь. Сигнал дают в десять часов. Значит, уже была полночь.
VI. ЖакресардаЛет сорок тому назад в Сен-Мало был переулок под названием Кутанше. Теперь переулка нет, ибо он попал в план работ по переустройству города и его снесли.
В два ряда, склонясь друг к другу, стояли там деревянные дома, разделенные сточной канавой, – она-то и называлась улицей. Пешеходы пробирались, расставляя ноги циркулем, ступая по краям канавы, то и дело задевая головой и локтями дома, стоявшие справа и слева. У дряхлых построек эпохи нормандского средневековья почти человеческие профили; тут каждая развалина смахивает на колдунью. Нижние этажи, словно вдавшиеся внутрь, выступающие верхние, изогнутые навесы, ржавые железные украшения, торчащие отовсюду, прикидываются подбородками, губами, носами и бровями. Слуховое оконце. – глаз, и глаз кривой. Обомшелая, растрескавшаяся стена – щека. Дома наклоняются лбами друг к другу, будто замышляя злодеяние. Разбойничье гнездо, притон, вертеп – названия, созданные в старину, – связаны с этими образцами зодчества.
Самый большой, самый заметный или самый примечательный дом в переулке Кутанше назывался Жакресардой.
Жакресарда была домом для бездомных. Повсюду в городах, а в морских портах особенно, есть подонки общества. Это личности настолько темные, что часто само правосудие не может установить, кто они такие. Праздношатающиеся дармоеды, изворотливые ловцы случая, шарлатаны всех мастей, вечно пытающие счастье; грязное рубище всех видов, и все способы его носить; прогоревшие жулики, нравственные банкроты, человеческие жизни, потерпевшие крах, неудачливые воры (ибо крупные хищники так низко не падают), мастера и мастерицы зла, пройдохи и потаскушки, совесть, протертая до дыр, и прорванные локти, отъявленные мошенники, докатившиеся до нищеты, негодяи, не добившиеся богатства, все те, кто побежден в социальном поединке, голодающие, а некогда пожиратели, мелкота из преступного мира, нищие – ив прямом и в переносном, скорбном, значении слова – таков этот люд. Здесь человек представлен в скотском образе. Здесь свалка душ. Все это накапливается в какой-нибудь дыре, где изредка прохаживается метла, называемая полицейской облавой. Жакресарда в Сен-Мало и была такой дырой.
В подобных вертепах не найдешь закоренелых преступников, бандитов, грабителей – этого страшного порождения невежества и нужды. Если и попадется убийца, то это озверевший пьяница, а воры, как правило, – мелкие карманники. Здесь все, что общество скорее отплевывает, чем изрыгает. Тут бродяги, а не насильники. Но доверяться им нельзя. На этой последней ступени человеческого падения встречаются беспримерные злодеи. Однажды, закинув сети в Эписье, – а для Парижа это было тем же, чем Жакресарда для Сен-Мало, – полиция поймала Ласнера.
Такие убежища приемлют всех и вся. Падшие равны между собой. Порою сюда скатывается и доведенная до нищеты порядочность. Известно, что даже честные и добродетельные люди не защищены от превратностей судьбы. Слепо преклоняться перед Лувром[136]136
Лувр – старинный дворец французских королей в Париже в середине XIX в., соединенный с дворцом Тюилъри. В 1793 г. превращен в национальный музей живописи и скульптуры.
[Закрыть] и презирать острог – ошибочно.
Общественное уважение, так же как и всеобщее порицание, требует пересмотра. Бывают всякие неожиданности. Ангел в доме терпимости, жемчужина в навозной куче, – такая странная, невероятная находка возможна.
Жакресарда больше напоминала двор, чем дом, и даже не двор, а колодец. На улицу ее окна не выходили. Передним фасадом служила высокая стена, в которой были пробиты низкие ворота. Во двор попадали, подняв щеколду и толкнув створку ворот.
В середине двора виднелась круглая яма, обложенная камнями вровень с землей. То был колодец. Двор был мал, а колодец велик. Выщербленные плиты двора обрамляли закражну колодца.
Квадратный двор был застроен с трех сторон. Со стороны улицы – стена; прямо против ворот, а также справа и слева – жилые помещения.
Если бы вы вошли туда на свой страх и риск, когда стемнеет, то услышали бы шум, похожий на дыхание толпы, и если бы луна и звезды осветили силуэты, неясно различаемые во тьме, то вы увидели бы такую картину:
Двор. Колодец. Против входной двери – навес, что-то вроде подковы, но подковы квадратной; открытая галерея, источенная червями, каменные столбы там и сям подпирают ее бревенчатый потолок, колодец посреди, а вокруг колодца, на соломенной подстилке, будто четки, – протертые подошвы, стоптанные каблуки, пальцы, вылезающие из дырявых башмаков, и множество голых пяток; ноги мужчин, ноги женщин и ногп детей. И все эти ноги спят.
Подальше, под навесом, глаз различал в полутьме человеческие фигуры, туловища, головы, безжизненно вытянутые тела, объятые сном. Тут в смраде и тесноте вповалку лежали мужчины и женщины – невообразимо жалкое человеческое отребье. Спальня была открыта для любого. Плата – два су в неделю. Ноги спящих упирались в колодец. Ненастными ночами дождь заливал ноги; зимними ночами снег засыпал тела.
Что же это были за люди? Неизвестные. Они приходили сюда вечером, а утром их уже не было. Наш социальный строй кишит такими ночными духами. Некоторые прокрадывались на одну ночь и не платили. Многие ничего не ели с самого утра.
Все виды порока, низости, гнусности, скорби; общий сон в изнеможении на общем ложе из грязи. Сновидения этих душ тоже были добрыми соседями. Угрюмое место встречи, где люди копошились и смешивались в зловонных испарениях; усталость, изнеможение, пьяный перегар, дневные мытарства без куска хлеба, без луча надежды, синева сомкнутых век, муки совести, вожделения, мусор в растрепанных волосах, потухшие взгляды быть может, греховные поцелуи. Гниль человеческая бродила в этом чане. Людей закинули в этот вертеп скитания, рок, пришедший накануне корабль, освобождение из тюрьмы, случай, ночь. Судьба ежедневно опорожняла здесь свой мусорный ящик. Входи, кто хочет, спи, кому спится, говори, кто осмелится. Впрочем, голоса никто не подавал. Всякий спешил слиться с остальными. Старался найти забвение в сне, потому что нельзя раствориться во мраке. И брал от смерти что возможно.
Люди смежали веки в общей агонии, возобновлявшейся ежевечерне. Откуда появились они? Из недр общества, ибо они – отверженные; из моря житейского, ибо они – грязная его пена.
Соломы хватало не всякому. Не одно полуголое тело валялось прямо на камнях; ложились изнуренными, вставали разбитыми. Зияющий колодец без ограды и навеса был тридцати футов глубиной. В него лился дождь, просачивались нечистоты стекали ручейки со всего двора. Бадья стояла рядом. Кого мучила жажда, пил. Кого мучила тоска, топился. Сон в грязи сменялся вечным сном. В 1819 году из колодца вытащили четырнадцатилетнего мальчика.
«Своим» в этом заведении не угрожала опасность. На «чужаков» смотрели косо.
Был ли знаком между собой весь этот люд? Нет. Здесь чутьем распознавали друг друга.
Ночлежку содержала молодая и недурная собой женщина с деревянной ногой, носившая чепец с лентами и изредка умывавшаяся колодезной водой.
На рассвете двор пустел, голытьба разлеталась.
Во дворе целый день рылись в навозной куче петух и куры. Двор пересекала прямая перекладина на столбах, она напоминала виселицу, вполне уместную в такой обстановке.
Нередко по утрам, если накануне вечером шел дождь, на перекладине висело для просушки мокрое и грязное шелковое платье хромой хозяйки.
Над галереей, тоже изгибаясь подковой, тянулся одноэтажный жилой дом с чердачным, помещением. Деревянная прогнившая лестница вела наверх, прорезая потолок галереи; по шатким ступеням, громыхая деревяшкой, поднималась нетвердым шагом хозяйка.
Временные жильцы, платившие понедельно или посуточно, помещались во дворе, постоянные жильцы – в доме.
Оконные рамы без стекол, косяки без дверей, трубы без печей – это и называлось домом. Из комнаты в комнату проходили через четырехугольное отверстие, которое прежде было дверью, или через треугольную дыру между стойками полуразрушенной перегородки. На полу валялись куски обвалившейся штукатурки. Дом держался чудом. От ветра он шатался. Люди с трудом взбирались по скользким истертым ступеням. Стены потрескались. Дом вбирал в себя зимнюю стужу, как губка воду. Впрочем, обилие пауков предвещало, что он еще не скоро обвалится. Мебели не было. По углам – два-три разодранных соломенных тюфяка, но в них больше трухи, чем соломы. Коегде – кружка или глиняная посудина для всяких надобностей.
Тошнотворный, гадкий запах.
Из окон виднелся двор. Сверху он был похож на телегу мусорщика, набитую до отказа. Нельзя описать не только людей, но и все, что там гнило, ржавело, плесневело. То было смешение всевозможных отбросов; их роняли стены, их кидали люди. Мусор был усеян отрепьями.
Кроме временных – постояльцев, ютившихся во дворе Жакресарды, там было трое старожилов – угольщик, тряпичник и алхимик. Угольщик и тряпичник занимали два соломенных тюфяка в нижнем этаже; алхимик-изобретатель расположился на чердаке, который неведомо цочему назывался мансардой. Где спала хозяйка, неизвестно. Изобретатель был отчасти и поэтом.
Он жил на вьшке, под черепичной крышей, в комнате с узким слуховым окном и огромным камином, где, как в ущелье, завывал ветер. Слуховое окно было без стекла, и алхимик забил его куском железа от корабельной обшивки. Окно почти не пропускало света, зато впускало холод. Угольщик время от времени платил за постой мешком угля; тряпичник еженедельно платил мерой зерна для кур; алхимик ничего не платил. В ожидании будущих богатств он по частям сжигал дом. Он отодрал от стен остатки деревянных панелей и ежеминутно выдергивал дранку то из потолка, то из крыши, чтобы поддержать огонь под котелком, в котором готовилось «золото». На перегородке над подстилкой тряпичника, виднелись два столбца цифр, написанных мелом рукой тряпичника, который выводил их неделя за неделей; один столбец состоял из троек, а другой из пятерок, смотря по тому, сколько стоила мера зерна – три лиара или пять сантимов. Посудиной для варки «золота» алхимику служила пустая разбитая бомба, произведенная им в чин котелка, – в ней он составлял снадобье для сплава. Он был поглощен идеей превращения. Иногда он разглагольствовал об этом во дворе, на потеху босякам. Он говорил о них: «Этот народ полон предрассудков». Он решил не умирать, пока не швырнет философский камень в лицо науке. Но его ненасытный очаг требовал много топлива. Уже исчезли лестничные перила. Весь дом превращался в пепел на его медленном огне.
Хозяйка говорила: «Пожалуй, мне одни стены останутся». Он ее обезоруживал, посвящая ей стихи. Такова была Жакресарда.
Слугой там был не то мальчишка, не то зобастый карлик то ли двенадцати, то ли шестидесяти лет, не выпускавший из рук метлы.
Завсегдатаи входили через калитку, остальные посетители – через лавку.
Что же это была за лавка?
В высокой стене на улице, справа от калитки, было пробито прямоугольное отверстие, служившее и дверью, и окном со ставнями, и рамой – единственные во всем доме ставни на петлях и с задвижками, единственная застекленная рама. За "тим окном, выходившим на улицу, помещалась каморка, пристроенная к галерее-ночлежке. Над дверью виднелась надпись сделанная углем: «Здесь торгуют редкостями». Выражение это уже и тогда было в ходу. За стеклом на трех полках, прилаженных в виде горки, красовались фаянсовые кувшины без ручек, разрисованный китайский зонтик, весь в дырах, не открывавшийся и не закрывавшийся, бесформенные обломки медной и глиняной посуды, продавленные мужские и дамские шляпы, две-три раковины, связки старых костяных и медных пуговиц, табакерка с изображением Марии-Антуанетты и разрозненный том Алгебры Буабертрана. Такова была лавка. Таков был выбор «редкостей». Черный ход из лавки вел во двор с колодцем. В лавке стояли стол и табуретка. Продавщицей.
была женщина с деревянной ногой.