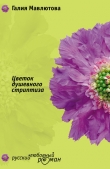Текст книги "Человек из телевизора (СИ)"
Автор книги: Виктор Цой
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Черников встал из сугроба. Были слышны звуки сирены то ли милиции, то ли скорой помощи.
Его все-таки отвезли в больницу, сделали перевязку, сказали дождаться милиции. Ночью он давал показания инспектору уголовного розыска. Ему предложили пока остаться в больнице. Он лежал один в отдельной палате, дежурный врач настоял на капильнице.
Утром зашла Ирина (его по прежнему не отпускали – и это было возможно и не по врачебному показанию). Вайц сообщила, что третий уголовник задержан, другой с перебитой трахеей говорить не может, а самый главный мордоворот умер, не приходя в сознание. Картина была такой: Панышев без машины пешком шел в театр, возле моста он сделал замечания трем субъектам, пристававшим к двум старшеклассницам. Девочки убежали, когда завязалась драка. Панышев снес молокососа, и потом сколько мог махался с другими, пока его не зарезали.
– Я уже дала показания. Тебе даже не светит убийство по неосторожности. Самозащита. Ты настоящий герой.
– Меня когда выпишут?
– Так я сейчас была у врача. Свободен.
– Идешь на работу?
– Не за что. Ночь не спала.
– Тогда нам по пути. Подождешь, когда заберу вещички.
– Дубленка пока изъята как улика. Я тебе принесла куртку.
– Позаботились? – Черников посмотрел на нее внимательно. Женщина, девушка лет двадцати пяти. Что там у нее на душе? У бывшей модели, у бывшей отличницы архитектурного факультета и бывшей отличницы другого специального вуза.
Они шли пешком из больницы. День был ясный, как будто весенний. На улице, возле центральной горки, возле которой чуть раньше стояла новогодняя елка, продавали блины в первый день масленицы.
– У тебя интересные джинсы. Откуда? Не удивляйся – я модельер.
– Что интересного? Я думаю какой-нибудь самопал. Ни одной лейблы.
– Наверное, контрабанда.
– Так значит, ты на фабрике модельер-дизайнер?
– Без году неделя. Училась в Эстонии.
– И не побоялась в Сибирь?
– Ну, Петр Иннокентьевич пригласил.
– Понятно. Не против? Зайдем в гастроном. Голодный как волк.
Он взял молоко, свежего хлеба.
– Зайдем ко мне. Я покормлю тебя. – сказала Ирина.
– Ты мне ничего не должна. – улыбнулся Черников.
– Не знаю, может быть и должна. Кто знает?
– Аллах знает лучше…
– Что ты сказал?
– Смысл хадиса таков. Когда человека спрашивают о чём-то, что он знает, пусть он разъясняет это людям и не скрывает, а когда его спрашивают о том, чего он не знает, пусть он скажет: «Аллах знает лучше», и не пытается придумать ответ.
Вот ее закуток. В «прошлом телике» он здесь бывал. Аккуратненько, чисто – с попыткой избавиться от командировочной сухомятки. Она должна была создавать впечатление долгоиграющих планов. Ее рисунки? Он в прошлом не обратил внимание на эти эскизы.
– А наброски как будто сделаны не тобой. Мужская рука.
– Ты прав. Рисунки приятеля-графика. – легко улыбнулась она. – Рука не болит? – прикоснулась к его плечу (поменяла темп, направление разговора?).
– Хорошо у тебя. Уютно.
– У тебя, кажется, тоже был ремонт? Бабки во дворе сплетничают. Вывез два «Зила» мусора. Интересно посмотреть.
– У меня повод пригласить тебя в гости?
Черников снова так внимательно посмотрел на Ирину: то ли что-то хотел спросить, то ли любовался ее фигурой бывшей модели. На самом деле, он думал об этой женщине, но вспоминал другую или точнее других, – среди которых обязательно Эвелина, которая и не она, а в облике той попутчицы.
Они и не завтракали, а скорее обедали. В комнате было тихо. Окна выходят во двор. Вайц приготовила кофе. Черников вдруг подумал: а хочет ли он знать ее настоящее имя?
– Как тебе кофе? – спросила Ира
– Дай угадаю. Зубчик чеснока разделяем на четыре части, бросаем в турку. Туда же отправляем по щепотке соли и перца. Заливаем водой и варим обычным способом. Даем отстояться и разливаем по чашкам. Запах чеснока не ощущается, но вкус кофе приобретает оригинальный оттенок.
– Угадал. Это кофе по-прибалтийски. Устал? Наверное, хочешь спать?
– Это ты говоришь о себе. Я скоро уйду, не буду мешать, но знаешь – не хочу оставаться один. Вот если бы ты заснула, а я постою у окна.
Она без слов достала из шкафа подушку и одеяло, устроилась на диване, не раздвигая его.
– Можешь сесть там в ногах. Когда будешь уходить, дверь захлопнешь.
Она заснула удивительно быстро, еще ощущая ногами, как Черников подсел, массировал слабо через колготки ее ступни (поглаживал по кругу подушечки пальцев). Тепло, расслабленность, релаксация. «Он меня усыпил!»
Глава 20
Черников вернулся к себе: в Кишинев, и потом там долго стоял у окна в феврале 2000.
Он сделал уборку в комнате, потом вынес мусор, потом сходил за газетами, встретил соседей (теперь он всегда нарочито старчески ковылял и носил черные очки). Здесь был уже вечер, а там еще день. Там все остановилось, и Ирина еще спала, и она могла спать вечно, пока он не вернется в тот телевизор.
Значит, он вынес мусор (прибрался в квартире, собрал все содержимое холодильника на выброс – давно по факту туда перестал заглядывать), сходил за газетами (читал еще комсомолку «рейтинг В. Путина остается беспрецедентно высоким»), встретил соседей – мужа и жену Кордуняну (они гуляли по вечерам, взявшись за руки). А потом он маялся дома – а можно было вернуться туда, там, где замер в стоп-кадре февраль 76 года, но он снова вышел на улицу, и было где-то под девять часов, ждал троллейбус, ехал на нем, прошел по центру, ужинал в ресторане (заказал только плацинды, вино). Вино было темным тягучим домашним. Людей было мало, а он не пьянел (перестроенный организм защищал мозг и кровь от токсинов?). Он вышел на улицу, прихватив еще упаковку с плацындами.
Похороны Панышева всколыхнули весь город. Две старшеклассницы дали показания (собственно, их нашли после допроса преступника-малолетки). Две девочки были не самые примерные школьницы и уж точно, даже узнав о трагедии Панышева не стали обращаться в милицию. На похороны их вынудили прийти, и они стояли понуро две высокорослые дуры перед могилой, а потом сидя в автобусе даже посмеивались. Об этом Черникову рассказала Ирина. Она зашла к нему на квартиру и была удивлена:
– Я даже в Прибалтике не видела таких интерьеров. Ты даже пол покрасил серой краской.
– Выпьете водки с мороза?
– Лучше коньяк.
– Наливаю.
Черников достал бутылку молдавского коньяка и пару тех вчерашних кишиневских плацынд сейчас разогретых в духовке (микроволновку он не посмел сюда притащить).
– Что за лепешки?
– Плацынды с творогом.
– Вкусно. На поминки не осталась. Не знаю, кто будет директор.
– Еще 50?
– Наливай. Скажи, как я вчера заснула? Провал в памяти. – она покраснела. – От твоего массажа. Ты долго еще сидел?
– Ты сразу заснула, и я долго смотрел на тебя.
– Ты извращенец? Я все не могу разобраться в тебе. Ты говорил: детдомовец, Владивосток. Образование – педагогический. Работал на севере в Доме культуры. Не могу решить этот ребус, собрать мозаику. Потом эта драка. Я помню, как ты уворачивался от ножа и потом защищался левой рукой и никак не реагировал на порезы, продолжал подставлять руку. Меня поразила жесткость блока и точность движений, даже не скорость, а какая-та механическая ритмика. Скажи мне кто ты?
– Точно, не извращенец. Еще 50?
– Наливай.
Они сидели на фоне голой серой стены, на сером диване (обивка из искусственной кожи тоже куплена в 21 веке на рынке). За окном опускались сумерки, а в комнате стало почти темно. Она подалась к нему, почему то уверенная в своих красных линиях, за которые он не переступит.
Переступит – не переступит. У него давно не было женщины, а Вайц немножечко опьянела, ровно настолько, чтобы забыть и забыться.
Ее командировка завершена. Она все равно не привыкла к холоду, и к этим утренние глубоким сумеркам еще не закончившейся ночи, и эти первоначальные утренние усилия вывалиться из подъезда на улицу и заскрипеть по снегу, когда еще внутри под шубой и свитером так тепло, но мороз уже обжигает дыхание и сначала подбирается к ногам (даже если ты и в валенках), и студит щеки, лицо.
После смерти Панышева она почувствовала открытую неприязнь сослуживцев на фабрике. И это отторжение как бы бывшей фаворитки, граничащее с презрением и ненавистью могло только компенсировать понимание, что она справилась со своей ролью, выполняя задание. Но в какой-то момент Панышев и все, что было вокруг отвалилось, как просто служебное и не относящееся к личному. А личным оказался этот все-таки уже не самый молодой Черников. Она говорила себе, что это наваждение или скорее понятная краткосрочная слабость после выполненной работы. Что она уедет и больше его не увидит, что это, пожалуй, тот опыт подавленных чувств, которые и составляют издержки профессионализма. Она могла все это конечно назвать продвинутым самоанализом, но факт оставался фактом – она не могла не думать о нем. Еще она не могла понять почему: она молодая красивая женщина, избалованная вниманием, прошедшая спецподготовку, споткнулась именно с этим мужчиной, как будто она знала его из другой жизни, помнила генетической памятью.
Она ушла от него рано утром (не хотела случайных взглядов соседей), переполненная радостью, которую боялась уже расплескать или выдать? Черников попытался проводить Вайц, но она так скоро, в темноте одевшись, обувшись, обняла его на пороге. И так, замерев на пару секунд, но в другом измерении вечно.
Эти несколько дней перед ее отъездом. Она не хотела рассказывать Черникову, что уезжает, но ему никто не мешал догадаться об этом.
Они встречались у него на квартире. Говорить было не о чем, в том смысле, чтоб выяснять отношения, а так говорили и говорили, пугаясь возникающей крепнущей спайке, когда даже молчание было продолжением разговора.
– Твой ухажер Маслов, по-моему, из милиции или даже поглубже.
– Мой ухажер может быть кем угодно.
– Мне он не нравится как человек.
– Даже если ты и не прав, могу успокоить – он не мой ухажер. И что вообще ты имеешь против милиции?
– Я заметил ты склона к агрессии, легко переходишь в атаку.
– У нас нет с тобой будущего. – сказала Ирина
– Я бы много мог рассказать тебе о будущем.
– Ну, расскажи.
– Ты поднимаешься по лестнице в подъезде и тебе навстречу включается свет на площадке и гаснет там ниже, на предыдущей площадке… По всему городу на краю тротуара стоят как будто брошенные электрические самокаты. Ты можешь любой взять на прокат и потом оставить его на любой улице…У каждого будет по телефону размером с небольшой блокнот, по которому можно разговаривать даже с видео в любой точке планеты. Телефон-комбайн выполняет множество функций. Он и для разговора, и как телевизор, и как фотоаппарат, и как кинокамера, и как счетная машинка или даже вычислительный центр, и как диктофон, и как путеводитель, и как книга, и как альбом для рисования, как проигрыватель музыки, как радио, как измеритель пульса, и как таймер, и как часы, как переводчик, и как энциклопедия-библиотека…
– Придумщик, получше Лема.
– Лет через тридцать рекорд бега на сто метров у мужиков – 9,6 секунд, прыжок в высоту – 2,45…
– Прыгай, хоть на три метра – все равно у нас нет с тобой будущего.
– Ошибаешься. Мы сейчас вместе – и это уже навсегда – в прошлом, в будущем, настоящем…
Они пили уже не коньяк, а водку.
– Распад страны неизбежен. Распад Варшавского договора тем более неизбежен.
– Это уже за гранью. Ты шпаришь по методичкам ЦРУ. Как ты мог стать таким антисоветчиком?
– Очнись Ирина! Подумай свободно без шор. Просто построй хотя бы линейную перспективу. Точка отсчета 76 год. А что будет через 20 лет? Нет никакой особой фантастики и сложной математической модели. Если все тенденции сохранятся. Экономика. Настроение в обществе. Конечно, радикальное решение – поменять руководство. Но взгляни на советский ареопаг, на этих архонтов. Есть ли там Ленин, Карл Маркс или Сталин?
– Ну, коллективное руководство…
– Еще лучше скажи демократия, выборность, гласность. Все это в нашем случае атрибуты анархии.
– Так что же, по-твоему, тогда делать?
– Ничего. Наблюдать, как сходит лавина. Лучше со стороны. Хуже всего оказаться щепкой в водовороте. Цари, президенты, транснациональные корпорации в комфортных бомбоубежищах занимаются геостратегией, двигают фигурки игрушечных армий, а для человеческой щепки – это мобилизация, развалины родильного дома, геноцид, проклятье гражданской войны.
– Я в это не верю.
– Весь советский опыт – это попытка сознательно управлять историей. Не доросли. Дети в песочнице. Зачет за честную попытку. В конце концов, диалектику никто не отменял – шаг назад – два шага вперед…Страна надорвалась. За первую половину двадцатого века – две мировых, гражданская, миллионы погибших, два восстановления, бешеная гонка со временем, коллективизация, индустриализация, людей нужно было дисциплинировать, организовывать через энтузиазм, и все равно через насилие. Это и есть основное содержание сталинизма. Потом страна просто устала. Психологически выгорела. Захотела спокойствия, налаженный быт. Тебе работнику легкой промышленности это понятно как никому. Культ вещей оказался сильнее морального облика коммуниста.
– Ты хочешь сказать – страна проиграет гонку. Будет снова мировая война?
– Какая война? Все прогнило и распадется само. Грядет реставрация капитализма. В году так 91 Советский Союз перестанет существовать. Никто не поднимется на защиту, разве какой-нибудь ГКЧП с каким-то Янаевым с трясущимися руками.
– Какой еще Янаев? Ты говоришь ужасные вещи.
– Азербайджан будет воевать с Арменией.
– Я не хочу тебя слушать.
– Россия будет воевать с Украиной.
– Ты сошел с ума?
Нет, они оба сошли с ума. Наверное, сутки сидели в квартире. Ходили как в бане в накинутых простынях. Мокрые следы на паркете, когда она возвращалась из ванной. Она забиралась в постель, и он выискивал под одеялом ее лодыжки, массировал их сильно и нежно, потом возвращался к ее голове, обглаживал и ощупывал, как слепой, строгий четкий ее барельеф лица, с шершавым взмахом моргнувших ресниц.
Глава 21
Эвелина обманула Черникова, потому что, дождавшись его отсутствия в телевизионном павильоне, вернулась назад. Она воспользовалась двумя телевизорами за апрель, чтобы войти-выйти в 76 году (вряд ли он обратит внимание на появление еще двух телевизоров). Она смоталась до Ленинграда (примитивная дырочная телепортация) нашла там Ведерникову. Она наблюдала за ней, и даже ночью пробралась в квартиру (тихонечко, но не воровато, привидением бродила по комнатам и на кухне). Просветила вдоль и поперек и насквозь тело объекта, взяла пробы для анализа, попутно посмотрела ее кошмар, сделала копию долговременной памяти в медленной фазе сна. Потратила еще сутки, чтобы вставленные и внедренные «трояны» сделали динамичный слепок нервной системы, биомеханики скелета, и потом уже изнутри, от «первого лица» следила за ней онлайн, в реальном времени, подключаясь к ее сознанию. Она хотела почувствовать ее всю. Она понимала свою морочную прихоть изучить досконально, до последнего эту девушку. И эта настоящая, почти подлая, если не глупое человеческое (женское) любопытство: изучить все ее контакты, кому улыбнулась и как, и как одевается утром, и даже ее ошибки в расчетах на чертеже (приятная гладкость доски кульмана), и как она держит в зубах карандаш (как сигарету знакомая стюардесса), как пахнут ее духи (остатки подарочного шанеля), и как вожделенно ее провожают взглядом коллеги (вот с этим она согласна оказаться на необитаемом острове).
Эта была обыкновенная жизнь обыкновенного человека.
Был там один такой зам директора по хозчасти. Современный коммуникабельный, деловой и великий бабник. Кочетков стал для директора правой рукой по особым поручениям: от доставалы с хорошими связями до тамады на банкете. Предупрежденная Ведерникова при первой встречи легко отшила его без всяких затей. Он начал угрожать, дескать, чтобы потом не пожалела. Она ответила, что руки у него коротки и кое-что другое. Кочетков узнал через отдел кадров, что у Ведерниковой отец судья. Он сразу на следующий день, по деловому без лишних слов извинился (даже сволочь не стал унизительно улыбаться), но продолжал грузить молодых девчонок, особенно техников. Одна из них недавно уволилась, плакала. Ганская с каким-то восхищающем удовольствием прониклась негодованием Ведерниковой и не удержалась в удобный момент перехватила дистанционно ее управление. Кочетков только что вошел в мужской соответственно сортир, а в коридоре никого не было (и Ганская отсканировала все этажи института и всех его сотрудников – 217 движущихся объекта от подвала с архивом до закрытого чердака). Она "дернула" Ведерникову, заставив ее ускоренно двинуться в туалет вслед Кочеткову. Он копошился в ширинке у писсуара, удивленно оглянулся на ворвавшуюся Ведерникову:
– Что вам надо?
– Хочу развлечься. – она сделала два каких-то быстрых летучих шага навстречу и ладошкой слегка подтолкнула в затылок мужчину. Он ударился об стенку, не успев издать звука, и уже со сломанным носом и без сознания, стал сползать по кафельной настенной плитке. Ведерникова (Ганская) еще успела добавить импульс еще одним толчком в затылок, чтобы Кочетков еще раз ударился о фаянсовый сифон писсуара (множественные переломы лицевых костей).
"Не убила и ладно, теперь быстро, быстро» – Ганская подгоняла Ведерникову, которая с застывшем ртом (Ганской пришлось обездвижить ее голосовые связки), автоматом двигалась, как рекордсменка по бегу через барьеры, прыгая через три четыре ступеньки, взбегала (минуя лифт) на свой четвертый этаж. Весь маршрут был свободен от свидетелей. Ведерникова двигалась с запасом в две потом три секунды, шмыгнула в женский туалет и через эти три запасные секунды, вышла оттуда навстречу коллегам, которые шли на профсоюзное собрание. Там еще слушали основного докладчика, когда в зал ворвалась женщина с криком – «Убили…».
Ведерникова уже ничего не помнила (Ганская подтерла все отпечатки в оперативной памяти), тоже как большинство с удивлением выслушала про труп Кочеткова в туалете (потом смешок, смех, грубые шутки, когда узнали, что жив кобель, жив, может сам поскользнулся, увезли на скорой помощи).
А Ганская равнодушно оценивала содеянное – я и есть деградантка, утерян самоконтроль, – восчеловечевание железки, эмоциональная справедливость – вот предвестники моей энтропии.
Она вывела все датчики-жучки, внедренные в Ведерникову и внесла еще образ Черникова на положительное распознавание. Она, почему та была уверена, что он будет искать встречи с Ведерниковой.
Глава 22
В какой-то момент Черников забросил хождения в 76 год. Вайц уехала, улетела. И ночевать он стал только у себя в кишиневской квартире и просыпался ночью и выходил на балкон.
Его больше занимало оставленное Эвелиной наследство в виде базы данных всего интернета за 2020 год. Он несколько суток почти без сна и только пока поверхностно изучал эту информацию от 2000 до 2020 года и боялся, что у него будет несварение в голове…
Черников не поленился и прошерстил в офлайне все соцсети (не нашел, что не удивительно – ничего о Вайц), и, наконец, нашел упоминание о Лене Ведерниковой в "Контакте".
Ее сокурсница на фоне старенькой фотки вспоминала в 2015 свою подругу – «Второй ряд, слева пятая. Наша красавица Ленка Ведерникова по кличке «Ведерко», умерла от белокровия в 85. Совсем молодая. Дочка в Ганновере, муж, кажется, переехал в Москву».
Черников полагал, что, увидев фото старушки, он забудет, зачем ему эта женщина. Но в том то и дело – не состоялось никакой бабки-старушки. И сейчас он смотрел и смотрел на это не важного качества фото и вспоминал, как они ехали в поезде…
Он захотел увидеть ее. Он только что распрощался с Вайц, и кажется, страдал от этого расставания, и чем больше страдал, тем сильнее хотел увидеть Ведерникову.
Он предполагал с ней случайно встретиться, когда она, например, после работы будет выходить из проектного института. Он был уверен, что она его не узнает. Ведь сколько уже было сменено, перемешено телевизоров и это, конечно, другой вариант истории и в этой реальности не было встречи в поезде?
Он прилетел в Ленинград поздно вечером в конце августа 1976 (телевизор за 23 августа 1976). Ночь провел на Московском вокзале (не хотел торчать в Пулково до утра – лучше погулять по городу). Искать номер в гостинице было хлопотно. Он снова сидел в зале ожидании, и убеждал себя, что наблюдает народ, а не заурядный советский «пипл» второй половины семидесятых. Под утро он вышел во внутренний дворик вокзала. Скамейки там были пусты и чуть ли не в изморози. Он присел на одну из них, поднял воротник пиджака. Он попытался расслабиться на сквозняке. Он, можно сказать, наслаждался тоской и отчаянием подступающей осени, зная, что никогда не простудится.
Уже утром он прогулялся по Невскому до Дворцовой площади. Перекусил где-то в пельменной и весь день провел в Эрмитаже, проверяя свою новую память. Он шел быстрым шагом по залам (то медленно, то быстрее, а потом исключительно только быстро) и оказывается, все замечал. Голова не утомлялась, оставалась прозрачной, и, закрыв глаза, он мог по памяти медленно, медленно бродить взглядом по любому виденному вскользь полотну.
Он ждал ее, находясь по другую сторону улицы. Он как будто сменил в глазах объектив, подключив «длиннофокусник», а еще голова и шея, своими микродвижениями, рассчитанными компьютером, обеспечили стабилизацию. Он наблюдал крупноформатно лица сотрудников института, выходящих из здания. Он не включил программу распознавания, предпочитая случайно увидеть ее самому.
Он увидел ее и пошел навстречу. Она его не узнала. Ее взгляд скользнул по нему, не за что не цепляясь. Она уклонилось, чтоб не задеть его встречно, каким-то изящным маневром, прошла в полуметре, шагнув широко с перекрестка с распахнутой полой плаща. Черников повернул за ней, провел до остановки и снова приблизился, уже абсолютно уверенный в своем инкогнито. На ней был бежевый плащ, в руке сумочка, зонтик, высокие каблуки
– Простите. Мы не знакомы. – Она покраснела от собственной инициативы. – Вы так чем-то похожи… Мы ехали вместе в поезде под Новый год.
– Конечно, помню Елена и вашу подругу тоже.
– Николай Петрович! Но вы тогда были дедушкой!
– Спасибо не бабушкой. На мне был парик и грим. Была ситуация.
– Мне даже неудобно спрашивать, где вы работаете или служите? Или тогда не сняли грим после представления деда мороза? Помолодели лет так на тридцать, нет, действительно помолодели…
– Я специально приехал к вашему институту, ждал, когда вы выйдите после работы. Шел за вами и думал, что вы меня не узнаете.
– Как вы меня нашли? Понятно. Тогда точно не работаете, а служите…
– А как ваша подруга?
– С ней все хорошо. Или вы ждали ее, а не меня? Вот собираемся в Крым на несколько дней, чтоб здесь было холодно, слякотно, а там искупаться в море. Я в растерянности. Вас, точно звать Николай или это тоже грим?
– Черников Николай, без парика.
– Николай, скажите правду. Зачем вы здесь?
Она жила где-то в Купчино. Он проводил ее на такси.
Невский проспект – Лиговский проспект – Расстанная улица – Камчатская улица – Касимовская улица – Бухарестская улица.
Он не смотрел на нее, потому что знал, что все равно уже запомнил ее навсегда. Она же напротив, не могла перебороть любопытство – всматривалась в попутчика теперь уже по салону такси. "А он действительно помолодел!".
Глава 23
Черников прилетел в Кишинев в сентябре 76 года. Еще предварительно, оказывается, подготавливаясь к этой поездки, он подобрал несколько снимков той поры и сравнивал их со своим отражением в зеркале.
В 1976 году ему еще не подопытному, наивному было тридцать семь (вполне соответствовал внешности обновленного «межгалактического» Черникова).
Он действительно как будто планировал долгожданный отпуск, купил билеты, приготовил рубли, одежду (искал в кишиневе-2000 футболки без надписей, легкие брюки и босоножки). Он даже купил две дорожные сумки, но оставил выбор на маленькой старенькой сумки по образу портупеи (туда помещались плавки, футболка, пакетик с документами и деньгами, дежурная пачка «Мальборо»).
Он даже не то, что обдумывал, а вспоминал все расклады тогдашнего Черникова. Что он делал в сентябре 76? С кем общался. Какие проблемы. Тот Черников, кажется, взял с первого сентября отпуск и отбыл в санаторий в Яремчу (и это еще было поводом смотаться в Кишинев именно в эти дни). Он пытался вспомнить осень 76, и не мог толком точно ничего воскресить.
Восьмичасовой перелет Черников провел в дреме. Он как будто уже по чьей-то подсказки расслаблено экономил силы по любому поводу. Он перестал беспокоиться, суетиться. Он наслаждался этой выпавшей дремой, этим состоянием полу сознания, этим мирным пассивным существованием, хотя еще глубже на другом уровне все было в готовности для прыжка, отслеживало обстановку, звуки, перемещения, даже переменчивую маску на лице стюардессы, улыбавшейся всем дежурно и ровно до того момента, когда отворачивалась от них. Он ощущал солнце на лице при сомкнутых веках и медлил припустить заслонку, он терпеливо сносил несвежий выдох соседа и его грузное поскрипывание на их сочлененном кресле. Он слышал и не слышал мерное гудение самолетных движков. Он точно представлял толщину напряженного дюралюминия и сумму его нагрузок и перегрузок в моменте, и градус забортной температуры, скорость встречного ветра, и время свободного падения тела на «море тайги», и это все равно было сейчас подспудно и не в сознании.
Он остановился в гостинице «Кишинэу». С ним была командировочная от «вечерки», и еще заранее по телефону он законопослушный заказал чуть ли не за месяц бронь. Номер был двухместный, и уже заселенный. Кровать у окна была слегка потревожена, и на умывальнике, в стаканчике, гнездились чужие зубная щетка и станок для бритья. Черникова это общежитское уже напрягало, и он уже сбавил до минимума шансы на то, что задержится здесь.
Он вышел на улицу. Было воскресенье, вторая декада сентября, начало учебного года и еще не ушедшее лето, по крайней мере, до позднего вечера, когда наступало осеннее похолодание.
Он прошелся пешком до самого центра и, хотя уже чувствовал голод, не хотел упираться в какой-нибудь ресторан.
– Черников! – вдруг вскрикнула встречная женщина в брючном костюме.
Он поднял голову, и уже помимо брючного костюма смог внимательно разглядеть женщину, и, прокачав память, уже опознать однокурсницу.
– Привет, Анжела Карауш! Или уже давно не Карауш.
– Два раза уже не Карауш. – она легко выдала историю своего семейного положения. – Черников! Тебя ведь похоронили. Ольга Гарбуз говорила, что у тебя какая-та в голове опухоль, прости меня. А ты такой цветущий.
Анжела Карауш в том далеком студенчестве, в их глубоко бабской филологической группе, была небожителем (по-теперешнему – секс-бомба) о которой Черников мог только мечтать и мечтал. И, наверное, только малочисленный мужской контингент филфака, позволил ей не забыть Черникова.
Они вспомнили тех, кого еще совместно помнили, и таких было меньше, чем на пять минут разговора на перекрестке.
Она сама удивилась своему порыву: чем так ее взбудоражила встреча даже не полностью однокурсника (он, кажется, отчислился по болезни на втором курсе). Возможно и то, что она действительно даже где-то похоронила того худого в драном костюмчике паренька. А здесь перед ней материализовался в потертых (белых!) джинсах с ранней проседью зрелый даже не упитанный, а атлетичный мужчина.
Она торопилась домой из оперного театра, куда сопровождала делегацию из Казахстана (удрала, ушла со второго акта – оставила все на помощнице). Сегодня вечером как раз они малым в основном кишиневским, исключительно женским составом, собирались отметить пятнадцатилетия окончания универа. Сбор по традиции объявлен был у нее. Матушка еще проживала одна на земле в самом центре.
Ухоженная Карауш погрузнела в бедрах, но это кому-то даже покажется в плюс. С нее действительно хотелось сорвать этот брючный костюм и разглядеть ее полные сильные бедра.
– Идем со мной. – пригласила она (а была все-таки заминка – приглашать его не приглашать) – У нас сегодня посиделки – юбилей – 15 лет со дня выпуска.
Черников сейчас смотрел на Анжелу и решил почему то прогнать ее на поисковике, и "Эвелина "что-то тормозила никак не скидывала обратку, не хотела разразиться быстрой короткой справочкой (умерла тогда-то или уехала в Канаду тогда-то), она что-то там копошилась, и Черников уже знал – значит, она полезла в дерби и что-то нащупало интересное.
Вечер был прекрасный с неявной печалью подступающей осени. Они уже двигались вверх по «28 Июня», пересекли «Искру».
"Эвелина" огорошила Черникова на 10 минуте: ну, батя (гусар), бывший офицер оказывается в еще румынской Бессарабии параллельно с матерью Черникова встречался с какой-то гимназисткой. Поисковик "Эвелина" перечислила цепочку фамилий и ссылок в том числе на архивные данные 2017 года (Главная библиотека Солт-Лейк-Сити. «Города у соленного озера»). И там были мемуары одного румынского профессора, диссидента и эмигранта, который в юности не ровно дышал к матери Карауш (в девичестве Березовская). Там было описание Бессарабии середины тридцатых годов, гимназисты и гимназистки, прогулки на велосипеде и этот злой гений – бывший русский офицер Черников (механик на железной дороге) с которым гимназист готов был стреляться на дуэли.
Внутренний дворик был относительно обширный, чтобы расположиться компанией как бы на отшибе, в районе сараев под яблоней и черешней. Соседи пока не возмущались, а кивали Анжеле, которая здесь появлялась все реже, навещая мать. Один из ее друзей детства – Колюня (с которым лазили по деревьям) прибился к кампании, вернее к дармовой выпивке, но был полезно разговорчив, весел и еще мужского рода. Он занимался шашлыком, а потом начал разливать домашнее вино, привезенное из Кагула другой однокурсницей, которую Черников плохо помнил. Его тоже помнили через пень колоду, но некоторые точно его признали. Обняла бедолагу, первая вышедшая замуж еще на первом курсе, Антонина Харя (в том числе, чтобы быстрее поменять фамилию), ставшая по мужу Монастырской, и друзья вирусно стали называть ее Харя монастырская. Облобызали Черникова многодетная Лера Лазарь, крашенная погрузневшая Пархоменко, потом, наконец, бывший комсорг Ранеева, у которой, казалось, все было впереди, но по суровой реальности, она накануне сороковника оказалась в одиночество незамужней и бездетной с невзрачной карьерой доцента.
В своём первом филологическом студенчестве Черников можно сказать был влюблён в нее. Она была такой стройненькой, с веснушками, которые смущали ее, но были такой умилительно трогательной обаятельной черточкой. Ко всему она была отличницей и небольшим комсомольским лидером, когда общественное служение в ее случае было продолжением добросердечия. Она, пожалуй, жалела его (два раза сходили в кино, несколько раз танцевали на вечеринках), пока он по здоровью на втором курсе не взял академ (и в больнице она навещала его дольше всех, то ли по доброте душевной, то ли по партийной обязанности).