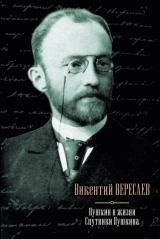
Текст книги "Пушкин в жизни"
Автор книги: Викентий Вересаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 40 страниц)
Вот я и в карантине, с перспективою оставаться в плену четырнадцать дней – после чего надеюсь быть у ваших ног... Я в карантине и в эту минуту не желаю ничего больше. Вот до чего мы дожили – что рады, когда нас на две недели посадят под арест в грязной избе к ткачу, на хлеб и на воду!
ПУШКИН – Н. Н. ГОНЧАРОВОЙ, 2 декабря 1830 г. Платово.
Милый! я в Москве 5 декабря. Нашел тещу озлобленную на меня, и на силу с нею сладил, – но слава богу – сладил. На силу прорвался я и сквозь карантины – два раза выезжал из Болдина и возвращался. Но слава богу, сладил и тут. Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда: 2 последние главы Онегина, 8-ю, 9-ю, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами (стихов 400), которую выдадим Anonyme. Несколько драматических сцен, или маленьких трагедий, именно: Скупой Рыцарь, Моцарт и Сальери, Пир во время чумы и Д. Жуан. Сверх того, написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Еще не все (весьма секретное): написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржет и бьется – и которые напечатаем также Anonyme – под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает.
ПУШКИН – П. А. ПЛЕТНЕВУ, 9 декабря 1830 г. Москва.
Секретно. 9 числа сего декабря прибыл из города Лукоянова отставной чиновник 10 класса Александр Сергеев Пушкин и остановился Тверской части I квартала в гостинице "Англия", за коим надлежащий надзор учрежден.
Полицмейстер МИЛЛЕР в рапорте и. д. моск. обер-полицмейстера, 11 дек. 1830 г. Красн. Арх., т. 37, стр. 242,
К зиме опять Пушкин в Москву приехал, – только реже стал езжать к нам в хор. Однако, нередко я его видала по-прежнему у Нащокина. Стал он будто скучноватый, а все же по-прежнему вдруг оскалит свои большие белые зубы, да как примется вдруг хохотать! Иной раз даже испугает просто, право!
ЦЫГАНКА ТАНЯ (ТАТЬЯНА ДЕМЬЯНОВНА) в передаче Б Маркевича. Соч. Б. М.
Маркевича, т. XI, стр. 135.
Ты не узнал бы меня: оброс я бакенбардами, остригся под гребешок, остепенился, обрюзг.
ПУШКИН – Н. С. АЛЕКСЕЕВУ, 26 дек. 1830 г., из Москвы.
Пушкин женится на Гончаровой, между нами сказать, на бездушной красавице, и мне сдается, что он бы с удовольствием заключил отступной трактат. С. Д. КИСЕЛЕВ – Н. С. АЛЕКСЕЕВУ, 26 дек. 1830 г. Переписка Пушкина, т. II,
стр. 204.
В декабре 1830 или январе 1831 года Пушкин навестил нас в Остафьеве. Я живо помню, как он во время семейного вечернего чая расхаживал по комнате, не то плавая, не то как бы катаясь на коньках, и, потирая руки, декламировал, сильно напирая на: "я мещанин, я мещанин", "я просто русский мещанин!"
Кн. ПАВЕЛ ВЯЗЕМСКИЙ. Собр. соч., 528.
Уже при последних издыханиях холеры навестил меня в Остафьеве Пушкин. Разумеется, не отпустил я его от себя без прочтения всего написанного мною. Он слушал меня с живым сочувствием приятеля и судил о труде моем (биография фон-Визина) с авторитетом писателя опытного и критика меткого, строгого и светлого. Вообще более хвалил он, нежели критиковал. Между прочим, находил он, что я слишком живо нападаю на фон-Визина за мнения его о французах и слишком горячо отстаиваю французских писателей. При всей просвещенной независимости ума Пушкина, в нем иногда пробивалась патриотическая щекотливость и ревность в отношении суда его над чужестранными писателями. Как бы то ни было, день, проведенный у меня Пушкиным, был для меня праздничным днем.
Кн. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ. Полн. собр. соч., I, с. LI.
В семи верстах от уездного города Подольска, Московской губернии, недалеко от старой калужской дороги, находится село Остафьево. Первым его владельцем был князь Андрей Иванович Вяземский. Когда он приехал для осмотра имения, ему бросилась в глаза липовая аллея и так ему понравилась, что он решился на покупку и тотчас же приступил к постройке нынешнего дома. Это прочный, поместительный, удобный каменный дом в два этажа, с фронтоном и колоннами, соединенный крытыми галереями-колоннадами с двумя каменными флигелями, также двухэтажными. Под домом обширные подвалы и кухня, простенки которой выложены красивыми кафлями. Дом этот так построен, что в нем могут поместиться несколько семейств, не стесняя друг друга. – По широким ступеням главного входа подымаемся на окружающую дом террасу. Входим в первую комнату, в ней пять дверей. Первая дверь направо – в библиотеку, там ряд комнат с простыми, выкрашенными шпалерами. Влево от входной комнаты -гостиная, увешанная картинами. Далее комната в два окна, кабинет. Тут висят семейные портреты. Наконец, спальня в два окна, с двумя колоннами; она угловая. Середину дома занимает круглый зал с целым полукружием выходящих в сад дверей. Средняя дверь ведет в липовую аллею, разделяющую сад пополам. Середина потолка в облаках. Сверху окно коридора верхнего этажа. Когда-то по широкому карнизу этой залы ловко проходил старик Губан, один из остафьевских старожилов. Другая половина дома обращена в сад. Влево от залы – старая столовая, с буфетными, старинными шкафами, с внутренним окном с разноцветными стеклами. Противоположная дверь залы ведет в библиотеку Павла Петровича (сына кн. Петра Андреевича); большая комната с установленными по стенам шкафами красного дерева с бронзой, когда-то бывшими в доме на Почтамтской. Далее ряд комнат с книгами, портретами, старою мебелью, что-то вроде кладовой, соединяющейся со старою библиотекой. – Верхний этаж весь состоит из жилых помещений. Низенькие комнаты с широкими подоконниками. В этом же этаже и карамзинская комната. В ней три окна к стороне Десны и одно большое – в сад. Здесь, у этого последнего окна, стоял некогда письменный стол Карамзина, а комната эта была тем его рабочим кабинетом, в котором написано им девять томов "Истории Государства Российского". Из окна вид на сад. Кругом деревья и часть горизонта. Впечатление успокоительное, тихое, располагающее к усидчивому труду. – Влево от сада поле с двумя березовыми рощами; вправо овраг с засохшим руслом Любучи и опять поля. Прямо за садом старая березовая роща. Отсюда вид на поля и на извилистую ленту реки Десны. На горизонте когда-то тянулись леса, ныне вырубленные. Тут же недалеко ряд курганов и сельское кладбище. С другой стороны дома пруд с плотиною, за ним церковь, белая, с зеленой крышей, вокруг них березы с обычными гнездами и стаей грачей; тут же сейчас крестьянские избы. Это – село Остафьево.
Граф С. Д. ШЕРЕМЕТЬЕВ. Село Остафьево. Русский Вестник, 1903, янв.,_ стр.
120 – 124.
Я знал Пушкина в 1832 году и лицо его запомнил хорошо, тем более, что лицо Пушкина было такое характерное, что оно невольно запечатлевалось в памяти каждого, кто его встречал... Когда же мне впервые показали акварель (П.Ф.) Соколова (рисована в 1830 г.), я сразу сказал: "это единственный настоящий Пушкин".
ЛЕВИЦКИЙ-отец, фотограф императорского двора, в передаче СИГИЗМУНДА
ЛИБРОВИЧА. Пушкин в портретах. СПб., 1890, стр. 42.
Сейчас еду богу молиться и взял с собою последнюю сотню. Узнай, пожалуйста, где живет мой татарин, и, коли можешь, достань с своей стороны тысячи две.
ПУШКИН – П. В. НАЩОКИНУ в дек. 1830 г.
Нат. Ив. Гончарова возила дочь свою и жениха по соборам и к Иверской. Пушкин пишет: мой татарин, потому что купил у него шаль для своей невесты.
П. И. БАРТЕНЕВ со слов НАЩОКИНА. Девятнадцатый век, I,383.
Религиозность Наталии Ивановны (матери Н. Н. Гончаровой) принимала с годами суровый, фанатический склад, а нрав словно ожесточился, и строгость относительно детей, а дочерей в особенности, принимала раздражительный, придирчивый оттенок. Все свободное время проводила она на своей половине, окруженная монахинями и странницами, которые свои душеспасительные рассказы и благочестивые размышления пересыпали сплетнями и наговорами на неповинных детей или не сумевших им угодить слуг и тем вызывали грозную расправу... В самом строгом монастыре молодых послушниц не держали в таком слепом повиновении, как сестер Гончаровых. Если, случалось, какую-либо из них призывали к Наталье Ивановне не в урочное время, то пусть даже и не чувствовала она никакой вины за собой, – сердце замирало в тревожном опасении, и прежде чем переступлен заветный порог, – рука творила крестное знамение, и язык шептал псалом, поминавший царя Давида и всю кротость его.
А. П. АРАПОВА. Новое Время, 1907, № 11409, иллюстр. прилож., стр. 7.
По рассказу Ольги Сергеевны (сестры Пушкина), родители невесты дали всем своим детям прекрасное домашнее образование, а главное, воспитывали их в страхе божием, причем держали трех дочерей непомерно строго, руководствуясь относительно их правилом: "в ваши лета не сметь суждение иметь". Наталья Ивановна наблюдала тщательно, чтоб дочери никогда не подавали и не возвышали голоса, не пускались с посетителями ни в какие серьезные рассуждения, а когда заговорят старшие, – молчали бы и слушали, считая высказываемые этими старшими мнения непреложными истинами. Девицы Гончаровы должны были вставать едва ли не с восходом солнца, ложиться спать, даже если у родителей случались гости, не позже десяти часов вечера, являться всякое воскресение непременно к обедне, а накануне праздников слушать всенощную, если не в церкви, то в устроенной Натальей Ивановной у себя особой молельне, куда и приглашался отправлять богослужение священник местного прихода. Чтение книг с мало-мальски романическим пошибом исключалось из воспитательной программы, а потому и удивляться нечего, что большая часть произведений Пушкина, сделавшихся в то время достоянием всей России, оставались для его суженой неизвестными.
Л. Н. ПАВЛИЩЕВ, 209.
Наталья Ивановна была довольно умна и несколько начитана, но имела дурные, грубые манеры и какую-то пошлость в правилах. В Ярополче было около двух тысяч душ, но, несмотря на то, у нее никогда не было денег, и дела в вечном беспорядке. В Москве она жила почти бедно, и, когда Пушкин приходил к ней в дом женихом, она всегда старалась выпроводить его до обеда или до завтрака. Дочерей своих бивала по щекам. На балы они иногда приезжали в изорванных башмаках и старых перчатках. Долгорукая помнит, как на одном балу Наталью Николаевну уводили в другую комнату, и Долгорукая давала ей свои новые башмаки, потому что ей приходилось танцовать с Пушкиным.
Кн. Е. А. ДОЛГОРУКОВА по записи БАРТЕНЕВА. Рассказы о П-не, 63.
Пушкин настаивал, чтобы поскорее их обвенчали. Но Наталья Ивановна напрямик ему объявила, что у нее нет денег. Тогда Пушкин заложил имение, привез денег и просил шить приданое. Много денег пошло на разные пустяки и на собственные наряды Натальи Ивановны.
Кн. Е. А. ДОЛГОРУКОВА по записи БАРТЕНЕВА. Рассказы о П-не, 64.
12 тысяч рублей были заняты у Пушкина на расходы по свадьбе.
П. И. БАРТЕНЕВ со слов П. В. НАЩОКИНА, Девятнадцатый век, I,392.
Наталья Николаевна сообщала, что свадьба их беспрестанно была на волоске от ссор жениха с тещей, у которой от сумасшествия мужа и неприятностей семейных характер испортился. Пушкин ей не уступал и, когда она говорила ему, что он должен помнить, что вступает в ее семейство, отвечал: "это дело вашей дочери, – я на ней хочу жениться, а не на вас". Наталья Ивановна диктовала даже дочери колкости жениху, но та всегда писала в виде P. S., после нежных писем, и Пушкин уже понимал, откуда идут строки.
П. В. АННЕНКОВ со слов Н. Н. ПУШКИНОЙ-ЛАНСКОЙ (вдовы поэта). Записи. Б.
Модзалевский. Пушкин, стр. 352.
Пушкин очень внимательно следил .за ходом польского восстания. Еще в исходе 1830 г., наскучив тем, что свадьба его оттягивалась вследствие разных препятствий со стороны будущей тещи, он говорил Нащокину, что бросит все и уедет драться с поляками. – Там у них есть один Вейскопф (белая голова): он наверное убьет меня, и пророчество гадальщицы сбудется.
П. И. БАРТЕНЕВ. Девятнадцатый век, I, 386.
Нетерпеливость Пушкина, потребность быстрой смены обстоятельств, вообще пылкий характер его выражается между прочим и в том, что он хотел было совсем оставить женитьбу и уехать в Польшу единственно потому, что свадьба, по денежным обстоятельствам, не могла скоро состояться. Нащокин имел с ним горячий разговор по этому случаю в доме кн. Вяземского. Намереваясь отправиться в Польшу, Пушкин все напевал Нащокину: "Не женись ты, добрый молодец, а на те деньги коня купи".
П. В. НАЩОКИН по записи П. И. БАРТЕНЕВА. Рассказы о П-не, 41.
Новый год встретил я с цыганами и с Танюшей, настоящей Татьяной-пьяной. Она пела песню, в таборе сложенную, на голос: приехали сани.
Давыдов с ноздрями,
Вяземский с очками,
Гагарин с усами,
Девок испугали
И всех разогнали и пр.
ПУШКИН – кн. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ, из Москвы, 2 янв. 1831 г.
К Пушкину, и занимательный разговор, кто русские и не русские. – Как воспламеняется Пушкин, – и видишь восторженного.
М. П. ПОГОДИН. Дневник, 7 янв. 1831 г. П-н и его совр-ки, XXIII – XXIV,
III.
Пушкин был у меня два раза в деревне, все так же мил и все тот же жених. Он много написал у себя в деревне.
Кн. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ – П.А.ПЛЕТНЕВУ, 12 янв. 1831 г., из Остафьева. Изв.
Отд. русск, яз. и слов. Имп. Ак. Наук. 1897, т. II, кн. I, стр. 93.
Душа моя, вот тебе план жизни моей: я женюсь в сем месяце, полгода проживу в Москве, летом приеду к вам. Я не люблю московской жизни. Здесь живи не как хочешь – как тетки хотят. Теща моя – та же тетка. То ли дело в Петербурге! Заживу себе мещанином припеваючи, независимо и не думая о том, что скажет Марья Алексеевна.
ПУШКИН – П. А. ПЛЕТНЕВУ, 13 января 1831 г., из Москвы.
Вы совершенно правы, упрекая меня за мое пребывание в Москве. Не поглупеть в ней невозможно. Вы знаете эпиграмму на общество скучного человека: "On n'est pas seul, on n'est pas deux"//Не один, не вдвоем (фр.)//. Это эпиграф к моему существованию.
ПУШКИН – E. M. ХИТРОВО, 21 янв. 1831 г., из Москвы. Письма Пушкина к.
Хитрово, 14 (фр.).
Ужасное известие (о смерти Дельвига) получил я в воскресение. На другой день оно подтвердилось. Вчера ездил я к Салтыкову (отцу жены Дельвига) объявить ему все – и не имел духу. Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалел о нем, как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изо всех связей детства он один оставался на виду – около него собралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько нас? ты, я, Баратынский, вот и все. Вчера провел я день с Нащокиным, который сильно поражен его смертью – говорили о нем, называя его покойник Дельвиг, и этот эпитет был столь же странен, как и страшен. Нечего делать! согласимся. Покойник Дельвиг. Быть так. Баратынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здоров – и постараемся быть живы.
ПУШКИН – П. А. ПЛЕТНЕВУ, 21 янв. 1831 г., из Москвы.
Когда известие о смерти барона Дельвига пришло в Москву, тогда мы были вместе с Пушкиным, и он, обратясь ко мне, сказал: – "Ну, Войныч, держись: в наши ряды постреливать стали". П. В. НАЩОКИН – Н. М. КОНШИНУ, 21 авг. 1844 г. Рус. Стар., 1908, дек., стр.
763.
Вчера обедал в клубе. К нам подсел поэт Пушкин и все время обеда проболтал, однако же прозою, а не в стихах. Стол был очень хорош, покурили, посмотрели мастеров в биллиард и разъехались. А. Я. БУЛГАКОВ – К. Я. БУЛГАКОВУ, 22 янв. 1831 г. Рус. Арх., 1902, I, 48.
Вчера совершилась тризна по Дельвиге. Вяземский, Баратынский, Пушкин и я, многогрешный, обедали вместе у Яра, и дело обошлось без сильного пьянства.
Н. М. ЯЗЫКОВ – А. М. ЯЗЫКОВУ, 28 янв. 1830 г., из Москвы. Ист. Вестн.,
1883, № 12, 530.
Я – женат. – Женат – или почти. Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. "Il n'est de bonheur que dans les voies communes (счастье – только на избитых дорогах)". Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся – я поступаю, как люди, и вероятно не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входили в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью. У меня сегодня сплин – прерываю письмо мое, чтоб тебе не передать моей тоски: тебе и своей довольно. Пиши мне на Арбат, в дом Хитровой.
ПУШКИН – Н. И. КРИВЦОВУ, 10 февраля 1831 г., из Москвы.
(По поводу письма к Кривцову). Нам случилось видеть еще одно письмо Пушкина, написанное также почти накануне свадьбы и еще более поразительное по удивительному самосознанию или вещему предвидению судьбы своей. Там Пушкин прямо говорит, что ему вероятно придется погибнуть на поединке.
П. И. БАРТЕНЕВ. Рус. Арх., 1864 стр. 974.
Через несколько дней женюсь. Заложил я моих 200 душ, взял 38.000, и вот им распределение: 11.000 теще, которая непременно хотела, чтобы дочь ее была с приданым – пиши пропало; 10.000 Нащокину, для выручки его из плохих обстоятельств: деньги верные. Остается 17.000 на обзаведение и житие годичное. В июне буду у вас и начну жить en bourgeois, а здесь с тетками справиться невозможно – требования глупые и смешные, а делать нечего. Теперь понимаешь ли, что значит приданое и отчего я сердился? Взять жену без состояния – я в состоянии, но входить в долги для ее тряпок я не в состоянии. Но я упрям и должен был настоять по крайней мере на свадьбе.
ПУШКИН – П. А. ПЛЕТНЕВУ, первая половина февр. 1831 г., из Москвы.
В городе Опять начали поговаривать, что Пушкина свадьба расходится; это скоро должно открыться: середа последний день, в который можно венчать. Невеста, сказывают, нездорова. Он был на бале у наших, отличался, танцовал, после ужина скрылся. Где Пушкин? я спросил, а Гриша Корсаков серьезно отвечал: "он ведь был здесь весь вечер, а теперь он отправился навестить свою невесту". Хорош визит в пять часов утра и к больной! Нечего ждать хорошего, кажется; я думаю, что не для ее одной, но и для него лучше было бы, кабы свадьба разошлась.
А. Я. БУЛГАКОВ – К. Я. БУЛГАКОВУ, 16 февр. 1831 г., Рус. Арх., 1902, I,
стр. 52.
Раз вечерком, – аккурат два дня до свадьбы его оставалось, – зашла я к Нащокину и Ольге (цыганке, жившей с Нащокиным). Не успели мы и поздороваться, как под крыльцо сани подкатили, и в сени вошел Пушкин. Увидел меня из саней и кричит: – "Ах, радость моя, как я рад тебе, здорово, моя бесценная!" – поцеловал меня в щеку и уселся на софу. Сел и задумался, да так будто тяжко, голову на руку опер, глядит на меня: – "Спой мне, -говорит, – Таня, – что-нибудь на счастие; слышала, может быть, я женюсь?" – "Как не слыхать, – говорю, – дай вам бог, Александр Сергеевич!" – "Ну, спой мне, спой!" – "Давай, говорю, Оля, гитару, споем барину?" Она принесла гитару, стала я подбирать, да и думаю, что мне спеть... Только на сердце у меня у самой невесело было в ту пору; потому, у меня был свой предмет, и жена увезла его от меня в деревню, и очень тосковала я от того. И думаючи об этом, запела я Пушкину песню, – она хоть и подблюдною считается, а только не годится было мне ее теперича петь, потому она будто, сказывают, не к добру:
Ах, матушка, что так в поле пыльно?
Государыня, что так пыльно?
Кони разыгралися. А чьи то кони, чьи то кони?
Кони Александра Сергеевича...
Пою я эту песню, а самой-то грустнехонько, чувствую и голосом тоже передаю... Как вдруг слышу, громко зарыдал Пушкин. Подняла я глаза, а он рукой за голову схватился, как ребеночек, плачет... Кинулся к нему Павел Войнович (Нащокин): "что с тобой, что с тобой, Пушкин?" – "Ах, -говорит, – эта ее песня всю мне внутрь перевернула, она мне не радость, а большую потерю предвещает!.." И недолго он после того оставался тут, уехал, ни с кем не простился.
ЦЫГАНКА ТАНЯ (ТАТЬЯНА ДЕМЬЯНОВНА) в передаче Б. М. МАРКЕВИЧА. Полн. собр.
соч. Б. М. Маркевича. СПб., 1885, т. II, стр. 135.
Накануне свадьбы Пушкин позвал своих приятелей на мальчишник, приглашал особыми записочками. Собралось обедать человек десять, в том числе был Нащокин, Языков, Баратынский, Варламов, кажется Елагин (А. А.) и пасынок его. Ив. Вас. Киреевский. По свидетельству последнего, Пушкин был необыкновенно грустен, так что гостям было даже неловко. Он читал свои стихи, прощание с молодостью, которых после Киреевский не видал в печати. Пушкин уехал перед вечером к невесте. Но на другой день, на свадьбе, все любовались веселостью и радостью поэта и его молодой супруги, которая была изумительно хороша.
П. И. БАРТЕНЕВ. Рассказы о П-не, 53.
Накануне свадьбы был очень грустен и говорил стихи, прощаясь с молодостью (был Варламов), напечатанное. Мальчишник. А закуска (?) из свежей (?) семги (?). Обедало у него человек 12, Нащокин, Вяземский, Баратынский, В., Языков. И вот Пушкин уехал к невесте; кажется, Елагин. На другой день он был (два слова не разб.) с откр. рук., он был очень весел, смеялся, был счастлив, любезен с друзьями; брат (?) шу (тил). П. И. БАРТЕНЕВ. Запись на обложке тихонравовской тетради. Рассказы о П-не,
129.
Необходимо разыскать стихи... прощание с молодостью и покаяние в грехах ее, которые Пушкин читал накануне своей свадьбы, на так наз. мальчишнике, и про которые живо вспоминал один из слушателей, И. В. Киреевский.
П. И. БАРТЕНЕВ. Рус. Арх., 1904, № 1, обложка.
У Пушкина верно нынче холостой обед) а он не позвал меня. Досадно. -Заезжал и пожелал добра. – Там Баратынский и Вяземский толкуют о нравственной пользе. М. П. ПОГОДИН. Дневник, 17 февр. 1831 г. П-н и его совр-ки. XXIII – XXIV,
112.
18 числа сего месяца (февраля) совершилось бракосочетание. Говорят, совершенство красоты. Когда увижу ее, опишу тебе ее с ног до головы. Накануне у Пушкина был девишник, так сказать, или лучше сказать, пьянство -прощальное с холостой жизнью.
Н. М. ЯЗЫКОВ – А. М. ЯЗЫКОВУ. В. И. Шенрок, Н. М. Языков, биогр. очерк.
Вести. Евр., 1897, № 12, 603.
Я пьяный на девишнике Пушкина говорил вам о том, но вы были так пьяны, что навряд ли это помните.
ДЕНИС ВАС. ДАВЫДОВ – Н. М. ЯЗЫКОВУ. Рус. Стар.. 1884, № 7, стр. 134.
Сегодня свадьба Пушкина наконец. С .его стороны посажеными Вяземский и графиня Потемкина1>, а со стороны невесты Ив. Ал. Нарышкин и А. П. Малиновская. Хотели венчать их в домовой церкви кн. Серг. Мих. Голицына, но Филарет (Московский митрополит) не позволяет. Собирались его упрашивать; видно, в домовых нельзя, но я помню, что у Обольянинова обвенчали Сабурова. А. Я. БУЛГАКОВ – К. Я. БУЛГАКОВУ, 18 февр. 1831 г., из Москвы. Рус. Арх.,
1902, 1, 53.
1>Сейчас же после принятия его предложения Гончаровою Пушкин просил быть посаженою матерью на его свадьбе княгиню В. Ф. Вяземскую (письмо к ней от конца апреля – нач. мая 1830 г.). 17 янв, 1831 г., за месяц до свадьбы, кн. Вяземский писал Пушкину про свою жену: "Посаженая мать спрашивает, когда прикажешь ей сесть, и просит дать ей за неделю знать о дне свадьбы". (Переп. Пушкина, II, 217). Однако Вера Федоровна не только не была посаженою матерью Пушкина, но даже не присутствовала на его свадьбе. 4 февраля, прибивая образ, княгиня упала, ушиблась, была долго без чувств и выкинула. За четыре дня до свадьбы Пушкина Булгаков видел ее лежащею на кровати, точно мертвец: худою, желтою и бледною, еле говорящею; еще в марте опасались за ее жизнь, и оправилась она только к концу мая (см. письма А. Я. Булгакова. Рус. Арх., 1902, I, стр. 50 и сл.).
–
Первые годы женатой жизни
В конце января 1831 года русская армия одиннадцатью колоннами под командованием фельдмаршала И. И. Дибича перешла границы Царства Польского. Этому движению предшествовали важные события. В июле 1830 года во Франции рухнула реставрированная в 1815 году монархия Бурбонов. В августе началась революция в Бельгии. В сентябре Бельгия объявила о своем отложении от Голландии (близкой России по политическим и династическим связям), приняв над собой военное и дипломатическое покровительство Франции. Николай I, считая необходимым исправить случившееся, стал готовиться к войне в Европе. 17 ноября восставшие жители столицы Польши захватили арсенал и дворец наместника, цесаревича Константина (брата Николая); было избрано правительство, которое провозгласило династию Романовых низложенной, Польшу независимой. Войска, готовые выступить на помощь королю Голландии, пришлось повернуть на Варшаву. Конституционные правительства, особенно Париж, понимали, что Польша только их авангард в борьбе с императором России: полонофильские настроения грозили вот-вот перейти в открытую военную поддержку польским выступлениям. Назревала всеевропейская война.
Между тем 11 июля 1831 года события начали разворачиваться внутри России. В расположенных недалеко от Петербурга новгородских военных поселениях восстали расквартированные там батальоны. При соответствующем стечении обстоятельств этот русский бунт грозил перейти в новую пугачевщину. В северных губерниях продолжала свирепствовать холера. Так начинались 30-е годы.
В контраст к этим происшествиям личная жизнь Пушкина открылась счастливейшим и безмятежным периодом жизни в Царском Селе, а потом и в Петербурге. К счастью любящего и горячо любимого мужа прелестной жены вскоре присоединилось счастье отцовства. Жена имела ослепительный успех в обществе, положение поэта при дворе казалось прочным, нехватка денег не выходила пока за обычные рамки. Превратиться, как по волшебству золотой рыбки, из тихой московской барышни в жену первого поэта России и первую красавицу "роскошной, царственной Невы" было трудным испытанием само по себе. Но этого мало. Наталья Николаевна стала и самовластной хозяйкой большого дома – без денег, с ненадежными слугами, болеющими детьми, вечно или после родов, или в ожидании ребенка. К тому же избранник ее был, по меньшей мере, необычным человеком. Его хватало на то, чтобы течь, подобно большой реке, многими рукавами – быть поэтом, и светским человеком, и ученым, и отцом семейства, и карточным игроком. И этого ему еще было мало. Наталье Николаевне приходилось привыкать быть женой всех персонажей, таящихся в ее муже. Семейная жизнь принесла и Пушкину немало новых для него хлопот. Однако они не заслоняли для поэта острые вопросы исторического и общественного характера.
События в Европе глубоко волновали окружение Пушкина и его самого. Он находил, что Россия накануне нового 1812 года. В августе 1831 года он пишет стихотворения "Клеветникам России" и "Бородинская годовщина", в которых высказывает свою точку зрения на русско-польские отношения как на "домашний старый спор" двух народов, связывая при этом сам вопрос о существовании славянства с объединением его вокруг России. Стихотворения не носят следов вражды против отважно сражавшихся поляков; наоборот, поэт подчеркивает, что они
Не услышат песнь обиды
От русского певца.
Сказать это в условиях войны было не так легко. Острие обоих стихотворений направлено против политиков и публицистов Франции, "мутителей палат", призывавших к общеевропейской войне против России.
В это время Пушкин принимает назначение придворным историографом; это дает ему возможность широко пользоваться царским архивом. Он предлагает издавать под своей редакцией официальную политическую газету, испытывая потребность откликнуться на бурные общественные события. К этой идее потянулись ренегаты всякого рода, в частности бывшие "арзамасцы" Блудов и Уваров. Было получено и разрешение. Однако увидев, кто хочет принять участие в этой работе, поэт отложил исполнение замысла на неопределенный срок, по существу отказавшись от него. С должностью придворного историка дело обстояло сложнее. Особенности этой службы стали проясняться постепенно, вполне определившись только к 1834 году, когда поэт писал жене: "Я не должен был вступать в службу, и, что еще хуже, опутывать себя денежными обязательствами... Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно".
Написано Пушкиным в первые годы женитьбы не так много (но в том числе "Сказка о царе Салтане", "Русалка", "Дубровский"). Видимо, в душе его совершались важные перемены, строилось новое отношение к жизни, к судьбе, которое получит свое воплощение в художественных созданиях второй болдинской осени и последовавших за ней высоких творениях.
–
В день свадьбы Наталья Ивановна послала сказать Пушкину, что надо еще отложить, что у нее нет денег на карету или на что-то другое. Пушкин опять послал денег.
Кн. Е. А. ДОЛГОРУКОВА по записи БАРТЕНЕВА. Рассказы о П-не, 64.
Во время обряда Пушкин, задев нечаянно за аналой, уронил крест; говорят, при обмене колец, одно из них упало на пол... Поэт изменился в лице и тут же шепнул одному из присутствующих: "tous les mauvais augures!" //все это плохие знаки! (фр.)//
Рус. Стар., 1880, т. XXVII, 148.
Во время венчания нечаянно упали с аналоя крест и евангелие, когда молодые шли кругом. Пушкин весь побледнел от этого. Потом у него потухла свечка. – "Tous les mauvais augures", – сказал Пушкин. В день свадьбы большой ужин у Пушкина в доме Хитровой, где распоряжался Левушка (брат Пушкина).
Кн. Е. А. ДОЛГОРУКОВА по записи БАРТЕНЕВА. Рассказы о П-не, 64.
Мать мне рассказывала, как ее брат, во время обряда, неприятно был поражен, когда его обручальное кольцо упало неожиданно на ковер, и когда из свидетелей первый устал, как ему поспешили сообщить после церемонии, не шафер невесты, а его шафер, передавший венец следующему по очереди. Ал. С-вич счел эти два обстоятельства недобрыми предвещаниями и произнес, выходя из церкви: "Tous les mauvais augures!" О случае с кольцом и шафером говорили мне и посаженый отец дяди, кн. П. А. Вяземский, и супруга его, Вера Федоровна, хотя и не присутствовавшая тогда на свадьбе, и, наконец, посаженая мать, тогда графиня Елиз. Петровна Потемкина (вышедшая вторично замуж за сенатора Ипп. Ив. Подчаского). Иконофором при обряде был малолетний сын кн. Вяземского Павел, а родитель его и П. В. Нащокин, уехав прежде новобрачных, встретили Пушкиных с образом на новой квартире молодой четы.
Л. Н. ПАВЛИЩЕВ, 241.
Пушкин женился 18 февраля 1831 года. Я принимал участие в свадьбе и по совершении брака в церкви отправился вместе с П. В. Нащокиным на квартиру поэта для встречи новобрачных с образом. В щегольской, уютной гостиной Пушкина, оклеенной диковинными для меня обоями под лиловый бархат с рельефными набивными цветочками, я нашел на одной из полочек, устроенных по обоим бокам дивана, собрание стихотворений Кирши Данилова.
Кн. ПАВЕЛ ВЯЗЕМСКИЙ. Собр. соч., 529.
Филарет таки поставил на своем: их обвенчали не у кн. Серг. Мих., а у Старого Вознесения. Никого не велено было пускать, и полиция была для того у дверей. Почему, кажется, нет? И так совершилась эта свадьба, которая так долго тянулась. Ну, да как будет хороший муж! то-то всех удивит, никто этого не ожидает, и все сожалеют о ней. Я сказал Грише Корсакову, быть ей милэди Байрон. Он пересказал Пушкину, который смеялся только. Он жене моей говорил на бале: пора мне остепениться; ежели не сделает этого жена моя, то нечего уже ожидать от меня. А. Я. БУЛГАКОВ – К. Я. БУЛГАКОВУ, 19 февр. 1831 г. Рус. Арх.. 1902, I, 54.



