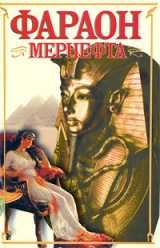
Текст книги "Фараон Мернефта"
Автор книги: Вера Крыжановская
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Я машинально поднял голову и при свете факелов увидел паланкин, несомый восемью невольниками, в котором сидели две женщины, великолепно разряженные. Одна из них, уже пожилая, была мне незнакома, но другая, молодая, прекрасная, покрытая драгоценными каменьями, с белым нежным лицом, выражавшим гордость и невозмутимое счастье, была... Смарагда. Сердце мое замерло, затем его охватила острая боль, словно его стиснули раскаленными щипцами. Все бурные чувства, дремавшие во мне в продолжение восьми лет, пробудились и вспыхнули с невероятною силою при виде той, для которой я всем пожертвовал и которая возненавидела меня до покушения на убийство.
Я возвратился домой страшно взволнованный, отослал двух своих служителей и, сидя у стола, пил вино кубок за кубком, обдумывая, каким способом лишить жизни красавицу злодейку, потому что оставить ее долее наслаждаться счастливой жизнью с Омифером превышало мои силы. Треск лампы, потухшей от недостатка масла, заставил меня опомниться. Я встал, с наслаждением расправил свои онемевшие члены и лег спать. Способ мщения был найден.
На следующее утро я приказал купить самых роскошных и дорогих цветов и отослал слуг, дав им поручения, будто бы безотлагательные. Оставшись один, я артистически уложил цветы в богатую корзинку, спрятав под ними змею, укушение которой было смертельно, затем выкрасил себе все тело в темный цвет, загримировал лицо, переоделся и превратился в невольника знатного дома. Неся на голове корзинку с цветами, покрытую шелковым платком, я направил шага к палатам Мены.
Было весьма правдоподобно, что наутро, после пира, какой-нибудь тайный поклонник прекрасной египтянки вздумал послать ей цветы, как деликатное заявление своих чувств. И если она примет подарок и наклонится вдохнуть аромат цветов, то скрытый под ними посол мой наградит ее поцелуем, в котором она всегда мне отказывала.
Воспоминания толпой осадили меня при виде знакомого богатого жилища. Какая разница между тем днем, когда, уверенный в успехе, я входил в него с целью предложить Смарагде свою руку, и нынешним, когда я приносил ей смерть!
Остановившись внизу, в парадных сенях, я попросил доложить о себе, и через несколько минут с лестницы сбежал черный невольник, говоря, что супруга Омифера сидит на плоской кровле и приказала привести меня туда.
С трепещущим сердцем я последовал за нубийцем и, войдя на кровлю, уставленную растениями, увидел Смарагду, полулежащую на кушетке. Две молодые девушки обвевали ее опахалами, а на ковре сидел крошечный карлик, который подавал ей то золотую чашу с напитком, то корзинку со сладкими печеньями. С ленивой небрежностью молодая женщина выпивала глоток, потом брала печенье из корзинки и не спеша грызла его своими жемчужными зубками.
Почтительно поклонившись, я поставил цветы у ее ног, преклонив колено, и снял шелковый платок с корзинки.
– Благородная супруга Омифера, удостой принять от моего господина эти цветы его сада.
Смарагда смотрела на меня с любопытством, но не узнавала.
– Кто твой господин? – спросила она.
– Он не желает покамест объявить своего имени, но супруг твой знаком с ним и обещал привести его в твои палаты.
Говоря это, я пристально глядел на Смарагду, стараясь внушить ей желание принять цветы и держать их возле себя.
– Если твой господин знает Омифера, я принимаю его подарок, – сказала молодая женщина, лицо которой вдруг затуманилось. – Вот тебе за труд, – продолжала она, бросив мне кольцо из серебра. – Беки, поставь корзинку возле меня на табурет, мне хочется рассмотреть эти цветы и подышать их благоуханием.
Я смиренно поблагодарил, раскланялся и вышел.
Едва успел я спуститься с лестницы, как пронзительный крик раздался на террасе. Без сомнения, мой посол сделал свое дело.
Поднялась суматоха. Громкие, испуганные голоса женщин и карлика, звавших на помощь, послышались с плоской кровли, слуги в переполохе забегали и заметались во все стороны. Я воспользовался первой минутой смятения, чтобы незаметно ускользнуть на улицу, и поспешно скрылся в толпе прохожих. Вполне довольный своим делом, я возвратился домой и заперся в рабочей комнате. На каменном столе там лежало тело моей старой знакомой, прекрасной Хэнаис, воспитанницы Кермозы. По счастливому для нее стечению обстоятельств она сделалась женой Нехо, но прожила с ним недолго. По смерти ее, случившейся на днях, мой бывший товарищ поручил бальзамировать труп жены удивительному мастеру, умевшему придавать мумиям вполне жизненный вид.
Обвивая тело ее повязками, которые должны были покрыть его до самого горла, я в то же время думал: если мне поручат бальзамировать тело Смарагды, я захвачу с собою ее мумию и убегу; боги должны мне доставить хоть это ничтожное вознаграждение за все перенесенные муки. Я не знал, что судьба готовит мне лучшее, а именно видеть ее предсмертную агонию.
Не прошло, кажется, и часа после моего возвращения, как мой невольник пришел с докладом, что паланкин и люди, присланные Омифером, ожидают у пещеры и что Омифер убедительно просит меня немедленно оказать помощь его супруге, ужаленной змеею.
Я тотчас взял ящик с лекарствами, накинул плащ и отправился в путь с присланными людьми.
Глубокая скорбь царствовала в палатах Мены: везде виднелись бледные, перепуганные лица, люди сходились группами и с расстроенным видом озабоченно шептались между собой. Увидев меня, многие из них бросились мне навстречу и почти на руках помчали наверх, в комнату, примыкавшую к плоской кровле. Там лежала больная, и тень смерти уже омрачала ее прекрасное лицо. Возле нее на коленях стоял Омифер, держа ее за руки; черты его, искаженные душевной мукой, выражали отчаяние, близкое к безумию. В нескольких шагах от него два врача шепотом толковали между собою; их мрачный вид и печальные покачивания головой ясно показывали, что надежда была потеряна. В ногах постели стояли приближенные служанки Смарагды и горько рыдали, а старуха кормилица, обливаясь слезами, прикладывала примочки к обнаженной груди больной.
– Колхис, маг.
Это восклицание перелетало из уст в уста и достигло даже ушей Омифера. Врачи косо взглянули на меня и поспешно вышли, но он быстро вскочил на ноги и, схватив меня за руку, привлек к постели больной.
– Спаси ее, – произнес он глухим, разбитым голосом, – и половина моего состояния будет твоя.
Я наклонился к умирающей и стал рассматривать ее мраморную грудь, обезображенную багровой раной с почерневшими краями.
В эту минуту Смарагда открыла глаза и устремила их на меня с таким выражением страдания, ужаса и немой мольбы о спасении, что мое железное сердце содрогнулось.
Да, она была счастлива, она боялась смерти и умоляла меня спасти ей жизнь... Но для кого? Для Омифера. Я снова стал тверд и холоден, как гранит. Дрогнула ли ее рука в тот момент, когда она погружала в мою грудь острие кинжала?
– Господин, – сказал я, наклонившись к уху Омифера, – меня позвали слишком поздно: против смерти я бессилен. Но, если хочешь, могу облегчить последние минуты твоей благородной супруги.
– Оставайся и делай все, что можешь.
Я остался, наблюдая, как смерть мало-помалу овладевала своей жертвой. Но если, с одной стороны, мне было сладко навеки отнять у соперника любимую женщину, то с другой – я испытывал адские муки ревности при виде раздирающего душу прощания супругов, беспредельной любви, в которой меркнущие глаза Смарагды искали взора ее мужа, нежной ласки ее слабеющих рук, обвитых вокруг его шеи. Что же касается Омифера, то скорбь его была невыносимой.
Наконец я не выдержал. Надо было ускорить развязку, и я знал, что достаточно сильного душевного потрясения, чтобы порвать последнюю нить жизни. Удалив от постели Омифера под предлогом, что хочу рассмотреть рану, я встал так, что только больная могла видеть мое лицо, и, обнажив грудь, показал ей глубокий шрам от удара кинжалом.
– Смарагда, – произнес я своим настоящим голосом.
Глаза умирающей остановились на мне, широко раскрывшись от ужаса.
– Пинехас! – прошептала она.
Я нагнулся почти к губам Смарагды и выразительно проговорил:
– Змею под цветами принес тебе я. Ты когда-то хотела меня убить, а теперь я убил тебя.
Она вскрикнула и подняла руки.
– Это он! Пин...
Но тут ее голос замер, руки опустились. В последний раз ее глаза блеснули искрой ненависти и презрения, потом голова упала на грудь, зрачки потухли, дыхание прекратилось... Смарагда испустила дух...
Вечером того же дня Нехо привел ко мне Омифера и советовал поручить бальзамирование тела Смарагды мне, даже хотел показать мумию Хэнаис как образчик моего искусства.
Омифер восхитился моей работой и объявил, что в ту же ночь доставит мне умершую, а также все принадлежности и украшения для убранства ее мумии. Сердце мое радостно забилось. Как только посетители ушли, я принялся тщательно убирать грот, где занимался бальзамированием.
Я осветил его факелами и лампами, а на чистом столе в стройном порядке расставил масла и эссенции в баночках и склянках. Эти вещества, состав которых был известен только мне одному, и придавали трупам гибкость и свежесть живого тела.
Около полуночи шум на дворе возвестил мне о прибытии Омифера. Я вышел в сопровождении двух служителей с факелами и увидел целую процессию. Сначала шли невольники, поддерживая на плечах крытые носилки, где лежала усопшая, за ними следовали другие с корзинами, ящиками и шкатулками, а позади несли паланкин, в котором сидел Омифер, заливаясь слезами.
Я провел людей в грот и приказал поставить там носилки. Рабы сложили все принесенные вещи, а Омифер преклонил колени у тела обожаемой жены и долго стоял неподвижно, закрыв лицо руками, по-видимому мысленно читая молитвы.
Потом он встал и обратился ко мне:
– Я вверяю тебе то, что для меня дороже всего в мире, но не хочу видеть ее прежде, чем она станет как живая. Вот тут, – и он указал мне на ящики и корзинки, – ты найдешь самый тонкий холст, лучшие благовония, ткани и драгоценные украшения, а в этом кошельке золото для покупок, на случай, если чего недостанет. Не жалей ничего, мудрый Колхис. Если твоя работа меня не разочарует, то я озолочу тебя.
Когда он ушел со своими людьми, я выслал моих, опустил кожаную занавесь, закрывавшую вход в мастерскую, снял покров с носилок и открыл лицо Смарагды, прекрасное даже после смерти.
«Наконец, – думал я, – ты принадлежишь мне. Теперь ты не можешь убежать, как когда-то из моего шатра в еврейском стане. Я сделаю тебя такой же прелестной и нарядной, как при жизни, буду восхищаться твоей красотой, и ты не оттолкнешь меня, а твоя душа будет страдать, незримо присутствуя при этом. Сегодня мы празднуем наше вечное обручение, жестокая женщина».
С чувством торжества я поднял тело и положил его на каменную скамью. Сняв с него одежду, я взял нож, чтоб сделать необходимые разрезы.
Прежде всего я хотел вынуть это неблагодарное сердце, в котором не нашлось для меня никакого другого чувства, кроме отвращения. Я намеревался набальзамировать его особым способом и постоянно носить на груди, чтоб оно прониклось моей теплотой, чувствовало каждое биение моего сердца и вдвойне страдало от своего бессилия.
С этой минуты я стал работать день и ночь, едва давая себе несколько часов покоя. Я создавал свое образцовое произведение: на бальзамирование этой мумии я положил все свои силы, все знания, всю заботливость художника. Это был не сухой, безжизненный труп, а спящее тело, гибкое, прелестное, благоухающее самым тонким ароматом. Я расчесал и заплел длинные черные волосы умершей, подкрасил ей губы и щеки так искусно, что казалось, кровь еще переливалась под тонкой прозрачной кожей, убрал ее голову и шею чудными драгоценностями и, обернув тело повязками и роскошной тканью, положил его в великолепный саркофаг кедрового дерева, присланный Омифером.
С трепещущим сердцем любовался я своей работой и никак не мог от нее оторваться, точно дивная мумия меня околдовала. Мне казалось, что теперь я люблю ее еще сильнее, чем живую, мятежное сердце которой всегда оспаривало у меня обладание ее личностью. Теперь она была безмолвна, в таинственном полусвете грота ее эмалевые глаза смотрели на меня без упрека, я сторожил ее, как верный раб, страшась только одного: как бы не потерять сокровище. Малейший шум заставлял трепетать: не Омифер ли явился за своим добром, на которое имел полное право? Эта мысль доводила меня до безумия. Я готов был врукопашную защищать свое лучшее произведение, и во мне созрело свирепое решение отделаться от Омифера. Я приготовил на столе возле саркофага чашу и сосуд с вином, в которое подмешал тонкий яд, и стал ждать его прибытия.
Наконец Омифер явился, и я повел его к телу Смарагды. Откинув газовый покров с саркофага, я взял факел и ярко осветил лицо покойницы.
С восторженным и вместе скорбным криком Омифер упал на колени и погрузился в ее созерцание. Я украдкой глядел на него с ревнивой ненавистью. Мог ли он, упивавшийся страстными взорами живой Смарагды, теперь любоваться ее эмалевыми глазами, безжизненными и холодными, как золотой жук, вложенный в ее грудь вместо сердца, которое билось для него одного? Эти уже ничего не отражавшие глаза могли пленять только того, кто во взоре живой не видел ничего, кроме гнева и презрения.
После долгого молчания Омифер встал и протянул мне руку.
– Благодарю тебя, мудрый Колхис, – сказал он, – ты превзошел все мои ожидания: она совершенно как живая... Могу ли я сейчас же забрать ее?
– Если б ты не пришел сегодня, то завтра я сам послал бы тебя уведомить, что все готово. Вечером мне надо еще кое-что сделать, а завтра поутру пришли рабов за саркофагом. Как ты бледен и изнурен! Выпей вина, оно подкрепит тебя.
Он поблагодарил меня, выпил чашу и ушел.
«Ты не вернешься больше, – думал я с торжеством, садясь на свое обычное место у саркофага. – Теперь, Смарагда, я твой единственный обладатель».
Через два дня я узнал о смерти Омифера. С той минуты я прекратил прием посетителей и деятельно стал готовиться к отъезду из Таниса.
Я знал, что касты врачей и бальзамировщиков враждебно следили за мной; они требовали открыть секрет бальзамирования. Я опасался насилия и решился бежать с драгоценной мумией и значительным имуществом, которое скопил, но мое болезненное состояние не позволяло пуститься в дорогу. Я не смог излечиться от раны, нанесенной мне Смарагдой, это сильно подорвало мое здоровье, а душевные потрясения и чрезмерный труд окончательно его расстроили. Я чахнул с каждым днем; кашель и боль в груди не давали покоя, аппетит пропал, фрукт и несколько глотков вина составляли всю мою дневную пищу, сон бежал от моего изголовья. Но, несмотря на эти страдания, я не хотел умирать. Я боялся смерти и загробной ответственности, в которую твердо верил. День и ночь я ломал голову, подыскивая верное средство, чтобы избавиться от страшного перехода в мир иной и сохранить жизненную силу в своем истощенном организме, чтобы душа не могла его покинуть и предстать пред судилищем возмездия...
В одну из долгих бессонных ночей у меня появилось сильное желание узнать, что сталось с Энохом и Кермозой. Вся сила моей мысли сосредоточилась на них, и, к удивлению моему, повторилось то же явление, которое однажды показал мне Барт.
Стены грота раздвинулись и исчезли; я увидел обширное, бесплодное пространство пустыни и вдали бесчисленные шатры еврейского стана. В небольшой каменистой долине, обагренной кровью, лежали кучи человеческих трупов, и в одном из них я узнал своего отца Эноха; его лицо, искаженное начавшимся разложением, было обращено к небу...
Пораженный ужасом и скорбью, я пришел в себя.
Позже, уже в мире духов, пришлось мне узнать, что, участвуя в восстании против Мезу, Энох пал жертвою одного из тех избиений, которыми «Иегова карал израильтян за неповиновение Его пророку».
Это странное видение живо напомнило мне прошлое и все события, которых я был свидетелем. Я вспомнил Элиазара и встрепенулся. Средство избежать смерти найдено: мне следовало привести свой организм в оцепенение, сохранив жизненный импульс. Для этого требовалось только одно условие: я должен был предохранить себя от всякого постороннего прикосновения и тогда мог жить целую вечность, так как жизненная сила никогда не иссякла бы в моем онемевшем теле.
Приняв решение, я, не откладывая, занялся необходимыми приготовлениями. Я отпустил слуг со строгим наказом ни под каким видом не пытаться проникнуть в пещеру и даже уничтожить след входа в нее, будто бы потому, что человек, дерзнувший отворить ее, выпустит на свободу страшных демонов, которые его растерзают, и поразит город и страну ужаснейшими бедствиями. Затем я тщательно заделал выход изнутри, перенес в грот все свои дорогие вещи и разостлал ковер возле саркофага. Приготовления эти продолжались трое суток, в течение которых я соблюдал строгий пост, не позволяя себе проглотить даже и капли воды.
Я тщательно вымылся, надел новую одежду, прикрепил к стене грота зажженный факел так, чтобы, догорев, он не мог произвести пожара, и стал на колени у саркофага. В последний раз полюбовался несравненной мумией, поцеловал ее уста и лоб, потом сел на ковер, скрестив ноги. Я заткнул себе уши маленькими втулками из воска и, повернув язык таким образом, чтоб закрыть носовой канал, с полузакрытыми глазами углубился в самосозерцание. Вскоре тяжелое оцепенение охватило все мое тело. Стены грота и все окружающие предметы заколыхались и закружились в пространстве, потом все исчезло: меня окружил непроницаемый мрак, и я потерял сознание своего бытия. Я уснул таким сном, который люди, если б могли меня видеть, сочли бы вечным...
Сколько времени я пробыл в таком состоянии, не могу определить, только ощущение сырого и холодного сквозного ветра вдруг заставило меня очнуться. Я пришел в себя, но совершенно не понимал, что со мной.
Меня пронизывала острая боль, горло сжималось, тело корчилось и словно распадалось на части, огненный поток падал на меня и жег. Страдание было так невыносимо, что я снова лишился чувств, на этот раз мне показалось, будто обморок длился несколько мгновений.
Я опомнился и увидел, что держусь в воздухе, покрытый развевающейся одеждой дымчатого цвета; окружающие предметы озарял тусклый красноватый свет... Я находился в моем гроте, где все было по-прежнему. Драгоценный саркофаг стоял на своем месте, а также мои золотые чаши, кубки, серебряные блюда и прочие вещи. Никто ничего не похитил во время моего сна...
Но откуда тут взялась вторая мумия с почерневшей, сморщенной кожей и иссохшими, как палки, скрещенными на груди руками? Вдруг я затрепетал: мне были знакомы эти резкие черты, эти густые черные волосы, этот амулет на золотой цепочке, в котором заключалось сердце Смарагды.
То был я и не я; мой вид стал теперь страшен и отвратителен. На шее у меня зияло черное отверстие, похожее на рану, а на коленях, свернувшись кольцом, лежала змея, глаза которой сверкали в тени фосфорическим блеском.
Долго размышлял я о своем странном положении и никак не мог его понять. Я помнил, что привел себя в оцепенение, чтобы избежать смерти, – что же случилось? Я хотел проломить заложенный вход в грот и выйти, но не мог пошевелиться, это меня крайне удивило и встревожило.
Вдруг неизвестно откуда послышался голос:
– Прекрасная мумия все еще у тебя? Береги ее хорошенько, верный страж, чтоб она не вздумала уйти.
Я оставался парящим над отвратительным призраком, своим двойником, но начал страдать от того, причины чего не мог объяснить: воздух давил меня, свинцовая тяжесть налегла на все мои члены, и смертельная тоска томила сердце.
Я взглянул на саркофаг, и мне показалось, что он пуст. В то же мгновение я увидел Смарагду и Омифера, проходивших мимо меня на близком расстоянии.
– Вор! – крикнул я. – Отдай мою собственность.
– Ты сам вор, да еще и убийца в придачу, – отвечал Омифер, оскалив зубы злобной усмешкой. – Ты отравил меня, чтобы похитить мою собственность... Теперь я беру ее назад. Довольно уже времени ты держишь ее у себя.
И они исчезли.
Вне себя от ярости, я хотел броситься за ними вслед, но мои парализованные члены не повиновались, и я остался словно пригвожденный к месту, где часто должен был терпеть пытку появлений Омифера и Смарагды, которые меня дразнили и издевались над моим бессилием.
Вскоре подобное состояние стало невыносимым, но тщетно работала моя мысль, отыскивая из него выход.
Я убедился, что ничего не могу сделать сам. Но к кому обратиться, кого умолять, чтоб он пришел на помощь? Египтяне молились Озирису, Изиде, Пта и другим богам; но все эти божества казались мне жалкими, и я вспоминал слова Мезу, что куски дерева или камня, которым мы поклонялись, не способны помочь; о великом же Едином, я, увы, не мог составить себе никакого представления. Я подумал и об Иегове, боге Мезу, но этот бог всеми своими действиями выказал жестокость, выводя евреев из Египта, и месть за каждое непослушание (это доказывалось участью фараона и его армии), и я его боялся. Иегова карал меня за измену, которую я совершил, покинув лагерь евреев. Он внушил мне мысль умертвить Смарагду и послал змею, пробудившую меня на действия. Нет, я не смел обратиться к оскорбленному мною неумолимому Божеству, провозглашавшему: «Око за око, зуб за зуб». А египетские боги? Разве я не навлек на себя их гнев, отрекшись от них для Иеговы? Они также оттолкнут меня...
В горе своем я вспомнил о сладостном явлении Существа, которое Мезу называл своим руководителем и которое проповедовало терпение, милосердие и самоотречение. Оно не могло быть суровым и гневным, как великий бог народа Израильского. Сомнения рассеялись, гордость и упорство исчезли, потому что против этого Божества я не знал за собою вины.
Собрав всю силу воли, я воззвал к нему:
– Облегчи мои муки, благожелательное Божество. Я не был твоим поклонником, но всегда мыслил о тебе с благоговением. Не отвергай же моей мольбы, прости меня, не осуждая.
По мере того как моя мысль с крайним напряжением излагала эту просьбу, струя благодетельной теплоты проникала в мои оцепеневшие члены. Словно увлекаемый этим животворным источником, я постепенно стал подниматься в облачное пространство, пролетая его все быстрее и быстрее.
Вдруг я остановился; сероватый туман, окружавший меня, рассеялся, открыв светлый горизонт. В глубине его явственно обрисовывалось видение, описать которое не в состоянии никакое перо человеческое. На нежно-лазурном фоне, обрамленном словно облаками, похожими на снег, сияющий на солнце, парило Существо, развевающаяся одежда которого сверкала, как струи водомета, озаренные лучами тысячи солнечных светил. Его окружали подобные Ему, но менее лучезарные существа. Одно из них напомнило мне образ Изиды, но свет был слишком ослепителен, чтобы я мог различить все подробности.
В эту минуту серебристый туман заволок сияющую картину, и сквозь его легкую дымку проглянули очи, каких не дано видеть никому из смертных. Я даже не стану пытаться описывать их форму или цвет и скажу только, что перед этим выражением любви и божественного милосердия преклонился бы самый закоренелый злодей. Под лучами этого взора, сиявшего сверхчеловеческой кротостью, виновная душа вполне могла открыть самые затаенные бездны совести, самые прочные тайники сердца, не чувствуя ни стыда, ни унижения. Все исчезало, все забывалось под этим возрождающим взором.
– Бедный сын пространства, – выражала гармоничная вибрация, – ослепленный плотью, ты мог думать, что всемогущий Творец, благость которого населяет бесчисленные миры бесконечного пространства, может, как вы, несовершенные существа, питать чувства ненависти или мщения. Молись и раскаивайся, Пинехас. Бог, которого ты страшишься, имеет к тебе лишь снисхождение и всепрощение. Он сделал тебя способным все понять, все приобрести, завещав тебе, как бесконечно любящий отец, частицу своей божественности. Если ты захочешь сокрушить и обуздать страсти, омрачающие твою душу, Он изольет на тебя всякую мудрость, откроет тебе обширные и светозарные врата совершенства, и когда, очищенный падениями и испытаниями, жизнями и страданиями, ты появишься пред Ним чистым, лучезарным, то будешь иметь право сказать Ему: Отец мой небесный, я возвращаюсь теперь достойным назваться сыном Твоим. Пошли же меня, куда укажет Твоя воля, вестником в бесконечном пространстве Твоей премудрости и благости. Но для того чтобы достигнуть этой высокой цели, Пинехас, цепи, связывающие твою душу с плотью, должны быть сокрушены молитвою, раскаянием и милосердием.
При этих утешительных словах сладостное спокойствие осенило мою изболевшуюся душу.
– Но, – возразила мысль моя, – почему на земле не знал я Тебя таким, благодатный дух милосердия? Зачем немые и суровые идолы служат там изображением Отца небесного?
– Сын мой, поклонение божеству всюду рождается вместе с человеком. Как только люди воздвигают алтарь этому божеству и призывают его, один из служителей Отца небесного отвечает на этот призыв и наставляет их добру. Во все времена, во всех поколениях, во всех религиях, от самой грубой до самой утонченной, посланники божества наставляли истине и добру, приспособляя свои наставления к данной среде, к умственному уровню людей. Никогда они не проповедовали зла, и никто, обращавшийся к Богу с верою и добрыми стремлениями, не бывал Им оставлен. Но сколько уже раз, мятежный дух, было говорено тебе все это? А между тем ты постоянно впадаешь в прежние пороки и в течение веков остаешься на одной и той же ступени совершенства. Бедное существо, ты сам себя наказываешь, ибо страсти терзают тебя, и, обессиленный ими, ты падаешь и вновь начинаешь преступную жизнь.
Я был поражен истиной этих слов. Да, я сам был своим злейшим врагом. Никто не терзал меня так, как мои собственные слабости. Но где взять сил для сопротивления злу?
Взор божественного наставника склонился ко мне с глубоким участием и бесконечной благостью.
– Пинехас, когда твое сердце научится истинной любви, когда тебя станет страшить мысль причинить зло тебя окружающим, тебе поможет добродетель, и при помощи этих двух союзниц ты выйдешь из борьбы вооруженный непоколебимою волею, направленною только к добру. Ты будешь силен, и никакое искушение не поколеблет тебя. Иди же к своему гению-руководителю и подготовляй себя к новому земному существованию смирением пред врагами и молитвой. В следующем воплощении постарайся овладеть своими страстями и пробудить в себе благородные чувства, чтобы любовь твоя была счастьем, а не бедствием для тех, на кого она обратится.
Пинехас
Рассказ Нехо
В эпоху, когда начинается мой рассказ, я был молодым человеком лет двадцати пяти – двадцати шести и служил офицером в гвардии фараона.
Корону Верхнего и Нижнего Египта носил тогда Мернефта, сын и наследник Великого Рамзеса II, и резиденцией его был город Танис, который он любил так же, как и его отец.
Первые годы моей службы, спокойные и счастливые, не заключали в себе ничего особенного. Но однажды мое внимание привлек странный факт, в некотором роде служивший как бы прологом ко всем последующим волнениям и бедствиям.
Это было в Танисе, в день публичного приема, в огромной зале с колоннадами.
Фараон сидел на троне из массивного золота, возвышавшемся на несколько ступеней от пола. Около государя стояли его веероносцы, советники, вельможи, вдоль стен залы неподвижно стояли мы, офицеры и солдаты гвардии.
Уже значительная часть просителей представили свои прошения и получили правосудные решения, как вдруг у входа произошло некоторое замешательство. Тесная толпа просителей расступилась, и мы увидели торжественное шествие верховного жреца храма Изиды в сопровождении своих собратьев в длинных белых одеждах и со страусовыми перьями на головах.
Подойдя к трону, они низко поклонились. Фараон поприветствовал их и спросил, какая причина привела к нему служителей великой богини.
– Могущественный сын Ра, великий фараон, мы пришли сказать тебе, что если презренное и ненавистное племя евреев не будет строго обуздано, то оно принесет несчастье Египту, ибо духи мрака и злобы, которых оно насылает, нападают даже на чистых девственниц, посвященных великой богине.
Мернефта вскочил со своего трона, воины забряцали оружием, готовые по мановению его руки броситься на евреев и истребить их. Но царь, вспомнив, что такое волнение не подобает его достоинству, спокойно сел на место и с важностью сказал:
– Если вы, служители Изиды, пришли с жалобой, то вам будет оказано правосудие. Говорите, достопочтенные отцы. Если евреи осмелились коснуться чести и достоинства девиц, состоящих при вашем храме, то, клянусь, они кровью своей заплатят за это преступление.
Он ударил себя в грудь, и все собрание преклонилось до земли.
– Дело в том, государь, – снова заговорил верховный жрец, – что еврей по имени Элиазар, человек богатый и влиятельный, находился в отсутствии два года и по возвращении поселился в доме, смежном с одним из твоих виноградников. Он внушил рабочим, что мы их угнетаем, и подтолкнул твоих служителей к бунту. Во время этого возмущения их надзиратель, добросовестный слуга царя из хорошей египетской семьи, был убит, а виноградник почти истреблен. Эти события произошли шесть месяцев тому назад, и око царево, благородный Аамес, арестовавший виновных, после строгого следствия приговорил одних к работе в рудниках, других к наказанию палками. Что же касается Элиазара, то его приговорили удавить, коварный язык его вырвать и бросить на съедение воронам, а труп повесить. Казнь должна была состояться шесть дней тому назад, но Элиазара в темнице нашли мертвым. Тело его поволокли на место казни и хотели вырвать язык, но зубы мертвеца были так крепко стиснуты, что разжать их, не раздробив челюстей, оказалось невозможным. Кроме того, начиналась буря, и распорядители приказали повесить его за ноги. К вечеру буря так усилилась, что виселица, поставленная неподалеку от реки, повалилась на землю, и многие свидетели с трепетом увидели, как нечистый труп скатился в священные воды Нила и был унесен его бурными волнами. Это событие было предвестником другого, еще более прискорбного. Нынешней ночью нас пробудили страшные крики, раздававшиеся из залы, где спят девицы, посвященные служению богине. Вскоре весь храм был на ногах, и когда во главе почетнейших жрецов я вошел в женскую опочивальню, то увидел плачевное зрелище. Некоторые девицы лежали в обмороке, другие прятались по углам, третьи, ломая руки, бегали вокруг одра, на котором лежало неподвижное, окоченевшее тело Снефру, прекраснейшей из дев, служащих Изиде. На шее у нее была рана, похожая на укус. Тщетно мы старались успокоить потрясенных жриц, долго раздавались их отчаянные вопли. Наконец одна из юных дев объяснила мне, что Элиазар внезапно появился между ними и, бросившись на Снефру, укусил ее за горло. Девица эта знала Элиазара, так как до его отъезда из Таниса встречалась с ним в доме отца Снефру. Последняя питала преступную страсть к прекрасному семиту, и отец ее, опасаясь, что боги покарают его дочь за любовь к нечистому человеку, отдал ее в храм служению богине.








