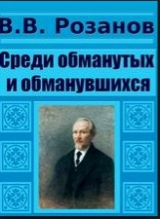
Текст книги "Среди обманутых и обманувшихся"
Автор книги: Василий Розанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Нет, в самом деле: „Красный карбункул“ я читал в начале моего учительства, лет 18 назад; и без труда вспомнил, когда подошел к теме. Т. е. 18 лет не изгладили из моего сердца картину, заставившую его когда-то содрогнуться. Жуковского все знают; Жуковского все читали. И г. Писарев, профессор, – конечно, тоже! Отчего же он забыл? Да как же ему помнить, когда сейчас после „Карбункула“ он перешел к неизмеримо серьезнейшим трудам: 1) о составлении „Месяцеслова православной церкви“ – раз; 2) исторические розыскания о происхождении „Кормчей книги“ – два; 3) „Слово иже во святых отца нашего (имярек) в пятидесятницу о посте“ – три; 4) о мудрости дев такого-то века и жен-великомучениц века следующего?! „Красный карбункул“… что это? стишок, тьфу! Серьезному человеку, как завтрашний профессор богословия, даже и читать-то такие вещи неприлично, не то чтобы их помнить, запечатлевать на сердце и проч.
Так и образуется исторически сердце „мачехи“. „Не мое дело! не моя кровь! не моя забота!! Это плавает ниже уровня, на котором я сижу!“ Высокомерие аскета к браку, твердое и незыблемое его убеждение, что это все находится в нижнем этаже, – и есть единственный пункт, который важен при вопросе о девстве и браке. Еще ни единожды бесплодный не позавидовал в христианстве плодородному; не посмотрел на него снизу вверх, со вздохом доброго (не зложелательного) завидования. Ни разу. Все взгляды – сверху вниз! Они-то одни и значительны. Позвольте: случилась болезнь вас в семье или среди ваших друзей; и та же болезнь, даже тягчайшая, случилась у швейцара дома, в котором вы живете. Как бы вы ни были добры лично, благородны, великодушны, – однако сейчас же скажется колоссальная разница в вашем отношении к болезни у себя, в своем этаже и к болезни в подвальном этаже. И о швейцаре вы спросите; позовете к нему – но уже фельдшера, а не доктора; позовете заурядного, „номерного“ участкового врача и ведь ни в каком случае не броситесь к знаменитости, не станете ахать и охать перед дверью его, шуметь, подымать скандал – пока не дозоветесь!! Ни один, самый святой человек, так для прислуги не поступит, только „от себя“ поахает, т. е. довольно платонически и в конце концов бесплодно, для больного и болезни – бесполезно. Но дело-то не в „аханьи“, а в исцелении. Больному нужно быть здоровым – вот и все, вот – единственное! И „единственного“-то этого никак не добьется себе человек „нижнего, подвального этажа“; т. е., в применении к нашему вопросу, брачный никогда этого не дождется от безбрачного, раз последний смотрит на себя как на „добро – добра добрейшее“[2]2
Только вчера я ознакомился с рядом серьезных и во всяком случае добросовестных статей г. Басаргина в «Моск. Вед.», – между прочим, о браке и девстве. Их отношение он выражает формулою-изречением, когда-то произнесенною Серафимом Саровским: «Добро – добра добрейшее». Т. е. что брак есть добро, а девство – в той же линии и такое же добро, но лишь высшее. Соблазнительная и лукавая («и овцы целы, и волки сыты») формула. Но она разбивается, как и все члены «духовной» схемки о браке, перед лицом действительности: ну, да, хороший этаж, но – низший! А низшему – и низшая забота, меньшее попечение, грубейшее законодательство, более грубый и поверхностный устав. Но ведь семья – это ствол «древа жизни»; и выходит, что «добро, которое еще выше предыдущего добра», на самом-то деле незаметно подъедает корень этого «древа жизни», подъедает просто тем, что сверху лежит на нем; и с таковым своим действием уже является не «добрейшим добром», а едва ли не «первым злом» («будете яко бози», «не слушайтесь заповеди Божией, повелевшей вам множиться»).
[Закрыть]. Получается практическая гибель. Девственники только занимаются „оклеветанием братии своих“ (дело довольно для них привычное), когда делают вид, что они хотят пребыть в девстве, а кто-то хочет их женить. Кто-то „хочет их обидеть“, когда они „никого не обижают“. Вечная клевета, одна и та же на протяжении веков. Дело идет о веянии умственном, а не о личном состоянии; дело идет об убеждении, об убежденности: а ею уже мы все дышим, она составляет принадлежность общества. Дело идет практически – о власти; а как под властью – теория, взгляд, убеждение, то вот откуда идет и оспаривание высоты хотя бы на волосок один бесплодных перед плодородными, бесплодия перед плодом. Тут важно именно „веяние духа“. Вот, несколько лет, я занимаюсь развитием противоположного веяния: о большей благодатности плода сравнительно с бесплодием. Ведь я практически никого же не женю, не сватаю: а какая началась, из аскетического лагеря, бомбардировка этого моего „веяния“. Сколько злобы, прямо – ярости[3]3
До какой степени она доходит, можно видеть из следующего. Не только М.А. Новоселов, человек довольно добрый, назвал меня (на одном из религиозно-философских собраний) единственно за это веяние «противником духа Христова», но мне передан был, года два назад, одним из многочисленных моих, хотя мною и не виданных, корреспондентов, г. Н. Добровольским, следующий рассказ. Посетил он в Москве покойного Михаила С. Соловьева, брата известного философа и сына знаменитого историка. Как переписывающийся со мною, он в беседе упомянул обо мне (т. е. о литературной моей деятельности). «Розанов – антихрист, – ответил он мне. – Я рассмеялся, – пишет мне Добровольский, – видя мой смех, М.С. вторично и упорно повторил свою мысль. Я не стал спорить. Но, выйдя от него на улицу, все думал, чем бы вы могли вызвать такое странное, можно сказать дикое, мнение о себе, и между тем в таком не легкомысленном человеке; М.С. Соловьева я всегда называл про себя тяжелодумом» и проч. Не невозможно, что это шло и от Вл. С. Соловьева, который, написав столько томов о «богочеловечестве» и вообще всю свою жизнь занимавшийся только богословием, с его ингредиентами, кажется, ни одной страницы не написал о семье, о мужьях, о женах, о детях: отражение довольно верное общего к семье богословского отношения. Если в каком-нибудь отношении может быть верно или может к такому заподозриванию меня подать повод, – то вот этот недостаток вообще всего (за 2000 лет) исторического христианского богословствования. Не находя во всем нем самых тем, мною трактуемых, и видя, однако, что я трактую их с религиозной точки зрения, недоумевающие критики мои говорят: «Это что-то, выходящее за орбиту христианства; прецедентов для этого, почвы для этого в Евангелии нет. Что же такое говорит Розанов, и какого Бога он несет нам, и что это за религиозное веяние? Смысл его статей как будто добр, неотрицаем: но откуда же добро это? не от Евангелия? Тогда – сгинь, и с добром своим, не хотим слушать!» Между тем это же самое они могли бы повторить и об литературе, и об искусстве, да и вообще о 7/10 жизни. Ни Дездемоны, ни Меркуцио «от духа семинарии» не выведешь. Господа богословы собственно стоят перед задачей: чтобы треснул обруч на их гробе, и этот гроб выпустил их из себя как живое существо, когда они все время притворяются мертвецами (ведь поэзию-то, стишок-то и они любят? ведь Дездемона – сия «мысленная Ева», как говорится в Покаянном каноне Андрея Критского, – мерещилась и всем подвижникам?) да и всем вообще им хочется жизни, хочется яблочков, цветочков. Только худшие из них (вот и г. Л. Писарев) притворились до настоящей смерти, – как несчастные наши сектанты, выносившие в лес дубовые гробы и ложившиеся в них с ожиданием «трубы архангела». Увы, жить всем хочется: прекрасен сей дар Божий. Но как жить? Без отрицания – подымаясь (самоидеализируясь). Тут – культура, тут – задача веков; тут забота, внимание, т. е. прежде всего не низший, а высший этаж. Семья хочет занять апартаменты, до сих пор занятые девственным состоянием,?????'ею; хочет себе венцов, скипетров, «житий», и «державства», и «ключей Царства Небесного», ранее ей не дававшихся. О «ключах» весь и спор: можно ли семейному, плодородному, счастливому, веселому, без уныния и тоски в себе, без упреков себе, однако соделаться дорогим и милым существом Богу? В этом весь и спор, – как довольно тонко заметил (на одном религиозно-философском собрании, при спорах о браке) М.А. Новоселов: об «основном христианском настроении». Оно было 2000 лет довольно удушливое, тоскливое, печальное, жалующееся, скорбящее; в общем – трагическое. Нет улыбок, преступен смех, порицаемо удовольствие; и всего страстнее порицается – сладчайшее, муже-женское, «любовь», соединение. Теперь, я беру это, беру самое сладкое (даже по сознанию аскетов), и, рассматривая, с недоумением говорю: «Да что же тут неправда? Неправда – в хитрости, заносчивости, власти, скупости. А это, из чего рождается такое чудное существо, как дитя, такое невинное, – оно скорее мне думается уже свято, нежели греховно. Каковы деньги, таковы и проценты; и если (приведем сравнение) от „двух в плоть единую“ отрезаются такие благодетельные „купоны“, как дитя, то не очевидно ли, что „любовь“ и сопряжение полов не только не есть фальшивая ассигнация, как уверили все человечество аскеты, но это самый верный „закладной лист“ несокрушимого банка. Проценты хороши – капитал хорош. Напротив, основной фонд аскетизма (продолжаю сравнение) подозрителен по процентам, им приносимым: кто же был (берем центр), – кто был, говорю, гордее пап, властолюбивее, заносчивее? И дух этот каков в центре – всюду и на периферии, везде: „приидите и поклонитесь нам“. Папа – и Иов, „имевший семь сынов и семь дщерей“: подумайте, сравните. Иаков, который до последней прелести знал все оттенки души и нрава и энергичной Рахили, и скромной Лии, и стыдливых Баллы и Зелфы, – как он не похож на Григория Гильдебрандта, введшего для всего Запада целибат. Но вдумаемся же, почему в благости такая разница у девственника и патриарха, столь обильно семейного? Зная до гортанных звуков голоса, до шелеста платья, до приветливой встречи ввечеру, при закате солнца – четырех этих человек, а с двенадцати сынами – шестнадцать, как мог он глубоко и вплотную постигнуть существо человеческое; и так как это – семья, любимое (не как у нас), все „нравящееся“ ему, – то он постиг это с доброй, ласковой стороны, со стороны ласкаемой им и ласкающей его. Бездны оптимизма! лазурный свод со звездами! Гильдебрандт же никого вплотную не знал; как аскеты и вообще знают „подчиненных“ или „равных“. Совсем другая сфера наблюдения, – холодная, или колючая: „уксус“ и еще что-то. И я не порицаю Гильдебрандта, но сострадаю ему. Каково поле – таков и цветочек; какова песчинка – такова и пустыня. Возлюбим индивидуумы – тогда возлюбим и человечество! Но когда в „человечестве“ есть только начальники и подчиненные, „устав“ и „правила“ (монастыря, службы духовной), как полюблю я человека! Аскеты, единого не любящие („вплотную“), – не любят и человечества! Не верю этому, подозреваю. Таким образом и я проповедую любовь к человечеству („Христов дух“, ведь так?), но захватив в нее и родники любви (avo amoris, позволю для яркости выразиться) и располагая человечество по такому плану, чтобы сама собою, без особенного моего проповедания, рождалась среди него любовь. Тогда как аскеты принесли любовь какую-то странную; тугую, непринимающуюся: проповедуемую, – но от того-то и проповедуемую бесплодно тысячу лет, что сами же они ампутировали природный и Богом установленный родник ее (Адаму „нравится“ Ева, это первое его от нее впечатление, выразившееся в знаменитом восклицании его), отделили любовь от родника любви – прокляв его. В круге моей мысли исключена трагедия, остающаяся лишь в форме естественного зла (смерть, болезнь; также недостатки воли, напр., недостаток в человеке любви, не вечная любовь); девушка с ребенком – для меня дар Божий, а вот измена – символ и последствие грехопадения: вообще грехопадение – всякая слабость человека, бессилие. Против этого-то исключения трагедии из концепции моей (не из природы) и восстали аскеты, напр. „трагический“ (не без оттенка комизма) В.С. Соловьев и еще более совсем унылый (от неуспеха церковно-приходских школ) С.А. Рачинский, а по примеру больших – и сонмы малых: „Это – не от духа Христова: дух Христа – печальный“. Но, не входя здесь в рассуждения, замечу, не есть ли эта фраза Иоанна Крестителя („покайтесь“) – „преходящая“, которой смысл сам собою прошел, когда пришел Христос, сказавший Нафанаилу: „Истинно говорю вам – отныне увидите ангелов, сходящих с Небеси и восходящих на Небо“? Нафанаил же был под смоковницею, и так тщательно под нею (для чего-то) укрылся, что, по удивлению его словам Христа: „Я видел тебя под смоковницею“, – можно заключить, что никто из людей, а только Один Бог, мог увидеть его там. И все человечество знает эти „смоковницы“ около себя: отчего не представить, что Бог как взял отсюда именно Нафанаила – берет отсюда же и избраннейших своих исповедников! Аскеты, так великие религиозным духом (кто это оспорит для некоторых?), может быть, и сами не знают подлинного родника его: смотрите, ветви „смоковниц“ их опущены особенно низко, до полной непроницаемости; но бл. Иероним говорит: „Нигде нет стольких соблазнов, как в пустыне; пока я жил в Риме, между женщин, я не думал о них; теперь я в одиночестве; но как пылает внутренний огонь!“ Теперь, озирая все в общем, я как бы подымаю ветви „смоковницы“ и говорю: „Да тут и всегда были только Нафанаилы, люди добрые, простые: вот – Иов, там – Авраам с Саррою и Агарью, еще – Иаков со стадом, женами, двенадцатью сынами и далее – Давид с Мелхолою, еще – Соломон с Суламитой: все – люди, о безбрачии не помышлявшие. Они-то и были добрейшие („плотнейшее“ познавание индивидуумов). Им и следует подражать, как исполнителям заповеди, и не искать других примеров“. Все это просто и непреступно; хотя „основное настроение“, – как справедливо заметил М.А. Новоселов, при этом радикально изменяется. Но уже я не виноват, что В.С. Соловьев, М.А. Новоселов, С.А. Рачинский и пр. так унывали, что даже и „искупление рода человеческого“, и „богосыновство“, и „богочеловечество“, и даже „церковноприходские школы“ их развеселить не могли, не могли прояснить их души. А „понравилась“ бы им девушка – может, и не так сумрачны были бы; родился бы у Соловьева сыночек: совсем другое направление мысли! Во всяком случае, никто меня не может оспорить, что это новая категория, – и если подлинно она „не от Христа“ (М.С. Соловьев, М.А. Новоселов), – то нельзя же ее стереть, она останется крепко, цепко; и если (усиленное утверждение обоих Соловьевых, и опять Новоселова) она – „против Христа“, то, существуя от начала мира и ранее пришествия на землю Христа, она могла бы очутиться в таком странном отношении к Христу лишь единственно при том предположении, что Христос сам повернулся против нее (этой категории). Но прямо и в упор ни М.А. Новоселов, ни В.С. и М.С. Соловьевы ни разу не сказали, не написали: „Христос был враг рождения детей“. А раз этого они не дерзнули написать – и „вся их батарея не стреляет“, т. е. все их обвинения меня в якобы „антихристианском духе“ – как билетики от съеденных конфет: разнесло ветром.
[Закрыть]; стремления уничтожить, затоптать вначале же всходы моей мысли. Откуда бы это, когда практически я ничего не делаю, на семи женах не женат и никакого инока не совлек на мирской путь? Пусть уж они оценят (им виднее) вред моего „веяния“; я же скажу, что из нашего лагеря видно, как опасно, мучительно, грозяще, разрушительно – хотя бы самое тонкое „веяние“ духа бесплодия. Ибо, конечно, поэзия сильнее и закона, и истории, фактов: она лежит подспудно в основе всего этого.
* * *
„Ницше, ницшеанство! Злое и насмешливое начало в истории!“ Да, мне кажется, нигде его столько не напихано, но лишь под „благолепною формою“, как у этих тощих фараоновых коров, пожирающих ныне „коров тучных“. Приведенные о разводе слова из Л. Писарева – почему они не „ницшеанские“, не злые, насмешливые, равнодушные к добру и злу, „по ту сторону добра и зла“? Неужели одну и ту же идею, разрушительную, мы не узнаем под разными формами? И если Ницше – злой насмешник и разрушитель, то поистине он только неопытный мальчишка перед колоссальным ницшеанством, которое дало искусительную заповедь человеку: „Не плодитесь! не размножайтесь! и станете – яко бози“. Его начала и ходов мы не расследуем. Мы исследуем только общую идею, „веяние“; исследуем ее в средних, уже очевидных моментах. Поразительно, что уже в III–IV веках нашей эры начали появляться случаи хирургического самооскопления, даже среди лиц духовного сана, – что вызвало специальное постановление одного из Вселенских соборов лишать таких лиц сана и чуть ли не предавать анафеме; но постановление это, как и другие в защиту брака, осталось холодным и внешним законом: поэзия скопчества продолжалась, „веяние“ веяло, проникая во все уголки жизни, в каждую книжку, в каждую картинку, во всякий звук музыки, пения, легенды, прозы и вымысла. И оно искоренило формальный закон, без подробностей в нем, без защит его, без подпор ему. Творится „новая тайна беззакония“, высказался г. Басаргин о всей совокупности защищаемых мною идей. Какое недоразумение, отвечу я скромно, тихо, беспритязательно. Да смел ли бы я говорить так твердо, не будь совершенно убежден, что борюсь против „тайны беззакония“, но прокравшийся как тать, как тень, почти в шапке-невидимке, в среду исполнителей единственного (заметьте, единственного!) закона, данного первой чете до грехопадения: „Размножьтесь! наполните землю!“
Позже начал веять „дух“ противоположный; так – краткое „веяние“, без громов, молнии, незаметное, неуловимое. Вначале оно только окислило плодородие. К сладким (и свежим) плодам райских дерев прибавило горечь. Есть сладкий миндаль, попадается – горький. Горькая миндалинка выросла на сладком миндальном дереве. Замечательно, что с первою же виною человека привзошла горечь в рождение. „В болезнях будешь рождать детей своих“, – сказано было Еве, которой ранее было повелено рождать, без указания (и след., бытия) болезней. Мужу, который был только пассивен в вине (грехопадения) перед Богом, не дано было вовсе боли при рождении: хотя во всемогуществе Божием, конечно, было – и ему дать страдание сюда. Но змий не дремлет: и ныне боль рождения если не физиологически (Бог запретил), то экономически, социально, юридически, всячески уже распространилась и на него; а на Еву и ее чад эта боль, опять же всячески, распространилась до нестерпимости, до невозможности, до страха рождать! Враг только вошел в плодородие: и удесятерил проклятие Божие! „Древо жизни“ (в Апокалипсисе, заключительная глава) двенадцать раз в год приносит плоды: но Апокалипсис открывает будущее; а по разу ежегодно „древо жизни“ и между грехопадением, и „Небесным Иерусалимом“ должно приносить свой плод. „Боль“, привнесенная в рождение, клала естественную (и единственно нужную) границу рождению; как закон труда, тяжелого, невыносимого, данный Адаму, – клал размножению и плодородию вторую границу, с мужской стороны. „Я беден! Земля произращает тернии и волчцы! И самое исполнение заповеди Божией (размножение) – ныне мне стало трудно: в раю все было дано человеку без труда и он мог собирать жатву хоть 12 раз в год“. Удивительно, как не разобраны были все эти знаменательные слова Книги Бытия. Была во Франции „меркантильная система“ (политической экономии) в эпоху Кольбера; потом явились „физиократы“, так же односторонне покровительствовавшие плугу, как раньше односторонне покровительствовали фабрике и магазину; но явился Адам Смит и объявил, что и физиократы, и меркантилисты занимались глупостями: ибо „народное богатство“ управляется – сокрытыми в нем самом законами, автономными, которые – раз им дана свобода – приведут страну без всякой „благопопечительности“ чиновников – в состояние более цветущее, чем Франция при Тюрго и Кольбере. И состояние Англии, Манчестер и Бирмингам, удостоверили прочность теорий шотландского мыслителя. Собственно, в вопросе о плодородии[4]4
К признанию по крайней мере некоторой правоты моих мыслей начинают приходить, пусть немногие еще, духовные писатели-священники. Из них один, в духовном журнале, заметил, что собственно Бог основал изречениями первой человеческой чете «размножение, но еще брака не установил» (автор, очевидно, «брак» смешивает с формами его «заключения»). Какова бы ни была мысль автора, он точно указывает, что «повеление Божие множиться» обнимает благословением всю сумму человеческого (общечеловеческого) размножения: и уже не его (рождения) вина, что не все оно вобрано внутрь себя «браком» (формами заключения союза), но что эта форма, растеряв множества зерна, приняла в себя лишь часть Божия заповедания, отвергнув другую. Не менее ценны рассуждения другого священника об отношении к браку Ветхого и Нового Завета, – где он говорит, последуя указанию Спасителя на первый Завет, что «от начала не было так», и безбрачие есть тенденция, вовсе не известная пророкам, законодателям и повествователям Библии («тайна беззакония начала действовать»). Все это ценно, и духовенство наше, вообще очень упорное в исследовании, раз начав размышлять, – долго не остановится в движении мысли, которой любопытство возбуждено.
[Закрыть] человеческом – то же самое. От начала жизни в него вложены законы жизни, невидимые, до сих пор вовсе не известные, но и при неизвестности действующие так же, как если бы они были известны человеку. Бог, давший жизнь человеку, дал этой жизни и законы; одаривший его плодородием – дал и инстинкты его, „веяния“, поэзию, влюбление, но все это вовсе не в чрезмерной степени (как опасаются идиоты), а в границах, в нормах, дальше которых – увы! – человеку никогда не переступить. Год бремени не ограничивает ли плодородия женщин? болезнь – не устрашает ли их? утомление кормлением, да и труд, просто труд беременности (быть „в тягости“ – народ изрек): все это не кладет ли слишком большую и совершенно определенную границу рождению? Прибавьте сюда старость и болезни, не связанные с рождением, из смертной (теперь – смертной!) природы вытекающие, – и вы убедитесь, что для страха аскетов: „как бы дерево не начало приносить плоды 12 раз в год“ – не было никакого основания. А бедность, нужда, труд мужчин, равно слабость их и болезненность гарантировали от „несчастия многоплодности“ (bete noire скопчества) и с этой стороны. Прибавлю сюда дивный, истинно небесный закон, по коему во всякой стране, местности, городе каждый век и год рождается девочек ровно столько, сколько мальчиков (чуть-чуть, едва заметно больше: на 100 мальчиков – 102 или 103); итак, закон моногамии собственно навсегда и навечно утвержден самою натурою. Остаются исключения; остаются 3–2 „сироты“-девочки: тайна, опять тайна, ибо для дивного закона, столь уравнявшего рождения, конечно, возможно было бы и абсолютно уравнять их, если бы Божественному Промыслу не угодно было указать через это знамение, что навсегда рождение останется биологиею, т. е. асимметричностью, некиим „беспорядком“ (отличительная черта всего живого, поэтического, философского!!!), а не механикою, не счетною машиною. Таким образом, сама моногамия уже содержится в законе рождения; но моногамия истинная, а не наша, с домом терпимости за занавескою. Установлен был Богом закон, что каждый мужчина на всю свою жизнь получит единую подругу себе, друга себе, вторую душу себя – в жене; кроме 2–3 „сирот“… Что же для них придумать? Если монастырь – то ведь есть монастырь и для мужчин. Монахов погашают монахини: а 3–2 „сироты“ все же остаются – в „миру“. Очевидно, остаток „трех“ имел и имеет в виду не „женский монастырь“, а что-то иное, мирское же, семейное. Иначе, если б вне семьи предполагалось им быть, то на сотню девочек и рождалось бы три „уродца“ бесполые, как есть такая порода у пчел, да и вообще известна в животном мире. Три излишние, но в таком ограниченном числе есть, очевидно, поправка к арифметике, каковою грозит стать моногамный брак, абсолютно выраженный. Собственно, и нельзя представить (у нас, в Европе, при домах терпимости и соблазняемой прислуге) такого благоденствия, что из 100 мужчин целые 97 от отрочества и до могилы „знали“ бы единственную одну подругу! 97 на 100?? Да у нас на 100 не выйдет 70 просто „женатых“, ну хоть как-нибудь женатых и, след., сколько-нибудь ограничивающих себя в отношении пола. Имеем „разливанное море“, так что в такое „несчастие“, как „женитьба“, мужчина и „впасть“-то соглашается не иначе, как за хороший куш (приданое). Итак, 97 абсолютно моногамных на 100 мужчин – это со стальною твердостью определено и обеспечено в самой природе вещей, если б ей было дано свободно выразиться. Теперь остаются 3 „сироты“. Инициатива брака всегда принадлежит мужчине, добывающему хлеб, трудолюбцу. Возьмет ли он, при „разливанном море“ (пола), дурнушку, бедную, очень бедную? глуповатую? Есть косоглазые, рябые, картавящие, заикающиеся. Увы, под „болезнью“ живем, в „грехопадении“: и „проклятая“ часть его заключается не в том, что хотят жениться (гипотеза аскетов), а в том, что именно не хотят жениться, напр., на дурнушках, глуповатых и заикающихся. Как же человека понудить к этому? В свободе и лежит обеспечение, т. е. лежало. Теперь, при „разливанном море“, для всякого со средствами и силами человека открыто столько „красоток“, что на дурнушку он и не взглянет. А при свободе и автономности действия внутренних законов? Да 97 разобраны 97-ю, и на трех последних мужчин остается три девушки „так себе“ и три дурнушки, никому не понадобившиеся. Если бы роду человеческому, всему сплошь, был врожден закон моногамии, то три эти так и остались бы абсолютно безбрачными; трава – вон из поля. Но кто же, когда они умрут, их вспомнит? Кто утешит их в старости, выходит в болезни? Дурнушкам семья еще абсолютно необходимее, чем красоте и молодости и силе. Позволю сказать выражение, что брак существует преимущественно для дурнушек: ибо другие нашли бы и иное, чем утешиться, в чем занять себя, как снискать себе ласку; а дурнушка кому же покажется „милою“, кроме собственных детей? Для устроения судьбы их мужчине и дан труд тяжелый, но не арестантски тяжелый; труд серьезный – но не до отчаяния, и с облегчением, с пятнами голубого просвета на заволоченном (после грехопадения) тучами небе. Облегченные в труде своем пусть возьмут „сирот“ этих: ведь на 97 – таких будет только трое! Ну, видали ли вы, чтобы хоть в самой скромной сельской обстановке на каждые 97 парней приходилось только трое, которые в жизнь свою „знали“ только двух женщин?! Неслыханное благополучие! Невиданное целомудрие! Ему не смеем и верить! Между тем оно твердо обещано и (главное!) обеспечено в автономном действии внутренних законов брака. Мужу для того и не дано боли при рождении, дабы он имел большую силу расширения, нежели связанная болью женщина; и, когда позволяет скорбь труда, кому она это позволяет – чтобы не забыл больных, слабых, частью – старых; но не как заповедь (хотя дана и заповедь об этом в словах: „наполните землю“), которую он мог бы и не исполнить, а во исполнение своего свободного желания (порицаемая „похоть“ аскетов).
Так все было устроено в дивном организме плоти, для спасения плоти: как в духе есть свои законы, инстинкты, отдаваясь коим он доходит до гениальности. Семья, учрежденная Богом, – нет, сильнее: человек, сотворенный Богом семейно, – вне всякого сомнения, и развил бы у себя гениальную (по целомудрию и чистоте) семью, не вмешайся сюда злой дух своими „советами“, противоположно „повеявшими“…
„Никаких законов в плоти нет. Плоть – послед грехопадения, в котором рождается человек как греховное существо; и главная, даже единственная его духовная забота должна состоять в освобождении от этого несчастного последа“[5]5
Псалом царя Давида (50-й) со словами: «в беззаконии зачат, во грехах роди мя мати моя» – подробно и исчерпывающим образом разобран протоиереем Л.П. У-ским (в книге моей «В мире неясного и нерешенного», 2-е изд., 1904 г.). Отсылаю туда любопытствующих. В добавление замечу оговорку, пришедшую мне недавно на ум: Давид, хотя был пророк, непогрешим не был (вспомним слово Златоуста об ап. Павле: «Хотя и Павел, но человек»). Погрешив (жестокостью в отношении к Урии, мужу Вирсавии: ибо по закону он мог взять ее по разводу, если бы ни она Урии, ни ей Урия не нравились), – итак, погрешив в поступке (ведь этого же никто не отрицает! Ведь это же и Бог ему сказал через Нафана), почему, спрашивается, не мог он погрешить и в слове, во взгляде на рождение?.. Непогрешимо только Богом сказанное (напр., заповедь размножения), а о прочих мы должны иметь в виду: «Не сотвори себе кумира… ни на небеси, ни на земле». Между тем ссылка на 50-й псалом у богословов ежеминутна: и не замечают они, что, смешав «первородный грех» с исполнением «заповеди», они повернули все человечество восстать против Бога, плоды чего (проституция и детоубийство) дымятся как «злая жертва» на руках у нас.
[Закрыть]. И вот для этого – новая поэзия, а за нею – и правила, учреждения, законы, которые вытянули кончик муки, данной Еве в наказание за неповиновение, в длинную веревку, в цепь мучений, которая стала связываться с рождением и в которую запуталось рождение. Оно так странно „благословилось“ и так „от души“ люди ему „порадовались“, что – ежегодно целыми тысячами – матери начали удушать собственных детей! Не известное среди кошек, собак – стало у человеков: видите ли, „в обеспечение женской нравственности“. Женщина, чтобы если не „быть“, то хоть сохранить „вид“ нравственности, – должна задушить рожденное ею дитя. Читатель видит, до какой степени как бы утроенное, удесятеренное „проклятие“ привзошло в человечество после того первого. Но сказано было о подлежавших ослеплению: „Они будут видеть – и не поверят, будут слышать – и не услышат“; хотя мы (говорю о цивилизации) несчастнее и преступнее скотов, но почитаем себя равными ангелам и „почти Богу“…
Два слова о невинности всякой единичной матери, убивающей дитя. В секте хлыстов, проповедующей абсолютное безбрачие, как известно, не рождается детей, вовсе, почти: но изредка все же и на хлыстовок находит „проруха“ и они забеременивают; тогда от плода они избавляются или выкидышем, или бросают рожденное дитя в лесу. Читал я несколько брошюр против хлыстов, изданных, между прочим, „Миссионерским Обозрением“, но там нет ни одного упрека „девице Марье“, „хлыстовке Катерине“. Имен не называется; человеки – не обвиняются. Все обвинение ложится на секту, учение, „веяние“. И основательно. Будем же справедливы и зрячи не к одним противникам, но и к себе: и у великорусского, да и у всех европейских народов детоубийство, очевидно, есть не проступок лица, а грех, и смертный грех (я думаю, по ужасным его чертам, – „сатанинский“ грех), „веяния“…
Злой дух, ставший в вратах рождения, приписал ему хаотичность[6]6
«В вас – хаос шевелится», – обвиняет меня и г. Басаргин. Впрочем, хоть за внимание и некую заботу мысли – спасибо ему.
[Закрыть], и он навел несчастнейший и преступнейший испуг на человека – перед исполнением заповедания (единственного!) Божия. „Лучше Мне повиноваться, чем Богу“: не вечное ли это соблазнение злого духа.
* * *
Поэтическую иллюстрацию „высокого идеала христианского брака“, какую дали Шиллер и Жуковский, дополним русскою прозаическою картиною. Цитирую газету-журнал „Право“ N 17 за 1903 год:
Екатеринбургский окружной суд. (Истязание беременной жены.) (От нашего корреспондента.) „4 марта в выездной сессии в гор. Ирбите разбиралось дело об истязаниях, мучениях и побоях, нанесенных беременной женщине, последствием которых были преждевременные роды и смерть ее младенца. Сущность дела в следующем: в мае месяце 1901 г. Сусанна Емельянова вышла замуж за молодого парня Илью Артемьева Мурзина; сначала жизнь молодых шла более или менее сносно, но в „Богородицын день“ (22 октября) того же года муж уже порядком „поучил“ свою молодую жену: в их супружескую жизнь вмешалась свекровь Сусанны, Евгения Львова Мурзина, которая невзлюбила свою сноху. Сусанну били чем попало, морили голодом, муж привязывал ее за косы к кровати и держал так привязанную по целым ночам за то, напр., что она (по его собственному показанию) взяла однажды самовольно из сундука 1/2 фунта пряников и отдала их своей матери или не сразу как-то легла с ним спать; на судебном следствии проскользнуло заявление Ильи Мурзина, что жена его по ночам уходила от него, заявление ничем не подтвердившееся.
Сусанна никому не жаловалась, терпела и молчала; с осени 1901 г. выяснилось, что молодой муж Сусанны Илья Мурзин болен сифилисом; в этой болезни он обвинил Сусанну, и побои участились; 4 января 1902 г. он повез ее в больницу в Ирбит, чтоб оставить там, как больную, но в больнице ни врач, ни акушерка, Сусанну свидетельствовавшие, больною сифилисом ее не нашли, а нашли только беременною на пятом-шестом месяце, в больнице ее не оставили, велели везти домой и „беречь ее“. По приезде домой муж, не дав ей обогреться, сдернул с нее платье, а с головы ее шаль и платок, схватил за косы и, бросив ее на пол, начал ее бить за то, что она не осталась в больнице; а свекровь, схватив железный крюк от умывальника, фигурировавший на суде в качестве вещественного доказательства, длиною около аршина, так же стала бить Сусанну этим крюком по чем попало за то же самое; подходила ночь, и Илья опять привязал Сусанну к кровати за косы и, несмотря на мольбы и просьбы несчастной отпустить ее выйти на минутку на улицу, не отвязал ее; старик Артемий Мурзин просил жену свою и сына отвязать Сусанну и сам хотел это сделать, но Евгения Мурзина ему этого не позволила; ночью Сусанна, оставив клок волос, кое-как сама сходила на улицу, а вернувшись, тут же у порога, на голом полу разрешилась мертвым младенцем; и муж, и свекровь были безучастны к этому событию, только старик Артемий побежал за бабушкой-повитухой, та пришла и стала просить воды и тряпок, чтобы привести в порядок роженицу. Но Евгения Мурзина, несмотря на настойчивые требования повитухи, не дала ничего, отвечая: „Не дам я ей, проклятой, ничего, пусть издыхает, как собака…“, и не допустила бабку помочь роженице. Повитуха, видя, что добром с Евгенией ничего не сделаешь и что в доме творится что-то неладное, пошла и привела с собою сотского и десятского, и только при содействии полиции удалось более или менее оказать помощь больной, да и то Евгения Мурзина не дала ни воды, ни тряпок, а Артемий Мурзин все это достал сам; Гликерия Мурзина (повитуха) хотела положить Сусанну, как лихорадочно больную, на печку, но Евгения и этого не позволила и не дала ничего постлать на лавку, и Сусанну пришлось положить на лавку на голые доски. На другой день силой же Евгению заставили истопить баню; в бане бабка, увидя у Сусанны все тело исполосованным, в кровоподтеках, ссадинах и синяках, спрашивала: отчего это у нее? Но Сусанна или молчала, боясь родных, или давала нелепые ответы, как и другим посторонним людям, и только потом уже, некоторое время спустя, объяснила, как ей жилось, и как ее зверски истязали.
Дело не раз откладывалось по болезни Ильи Мурзина; наконец на суд 4 марта предстали болезненного вида молодой парень Илья Артемьев и сморщенная, иссохшая старуха Евгения Львова Мурзины, обвиняемые по 1489, 1491 и 1492 ст. ст. „Улож. о нак.“; виновными они себя не признали; Евгения все время на суде плакала, вздыхала, смотрела на икону и крестилась; присяжные вынесли обоим обвиняемым обвинительный вердикт (Илье дали снисхождение); суд приговорил: Евгению Мурзину к 4 годам тюремного заключения, Илью Мурзина к 4 годам арестантских рот“.
„Уложение о наказаниях“… Судится она по „статьям 1489, 1491 и 1492 улож. о наказ.“: но почему не по „статьям“ (а ведь их много?) „Устава духовных консисторий“, – раз уже „брак есть таинство и судить о нем не принадлежит светской власти, слишком грубой, земной и низменной“, а только духовной. А вот, видите ли: „низменная“-то власть, „земное“-то человечество почувствовало это как злодеяние, возмутилось и пожалело; да и не только пожалело платонически, сердобольно, а и вступилось. Выехали судить дело какие-то „чиновники в мундирах“ и „аблакаты“, люд все презренный, не добродетельный, не небесный: а где же „небесные человеки“? Да рядом с избиваемой – постный суп едят и молоком не балуются. Тощая вермишель тянется в желудке, попахивает грибком – и царство небесное обеспечено. Нет, я серьезно. По настоянию митрополита Филарета московского была выброшена из законодательства (в 40-х годах) статья, установившая развод в случае покушения одного из супругов на жизнь другого. „И брак стал совсем крепок, солиден и свят“. Нет, послушайте: в приведенном случае, который стали судить светские судьи, ведь вовсе еще не содержится „покушения на жизнь“, и такие-то „легонькие“ случаи, ну, простой там грубости и невнимания мужа к жене, можно сказать, и на минуту не заставили обеспокоиться московского владыку и прервать его „воздеяние руку мою“ и т. п. небесную поэзию, слушая которую вся Россия (и мне приходилось) в сладком трепете замирает в Великий пост. Альты-то как заливаются… И свечи, и лампады, и дым ладана. „Не знаем, где стояли, на небе или на земле“, – записали свое впечатление послы князя Владимира от цареградской службы. Но и тогда, около св. Софьи, как теперь около Успения, – всего в нескольких шагах (у нас – в Замоскворечье) те „бытовые“ картинки процветали и все так же не смущали благочестия благочестивых и умиления умиленных… пока не пришли какие-то „аблакаты“, которые „в церковь не ходят, лба перекрестить не умеют“ и все же деревенскую бабу умеют пожалеть лучше „нас“. Право, поймешь которого-то Генриха в Англии, воскликнувшего о назойливом Фоме Бекете: „Кто избавит меня от этого монаха“; поймешь и нынешнего Комба во Франции; и поступок с монастырскими имуществами Екатерины П. Из собственной истории их не поймешь: кажется – „хищение“, „насилие“ и „безбожие“, какой-то хаос, что-то чудовищное. Но из истории замученной этой бабы и того, кто ее судит и кто о ней отказался судить, как о деле „легальном“ и ничего особенного не представляющем (по Л. Писареву: „Не сошлись характерами, и баба ищет нового прелюбодеяния“), – можно понять.
Читатель с впечатлительным сердцем вскочит: „Да неужели же на подобные случаи, которые через исповедь, в слезах, картинно были переданы духовным отцам – переданы во всех городах, столицах, уездах, селах и передавались неустанно с тех пор, как существует исповедь и установлен брак, – неужели на эти реки слез и горя ничем они не реагировали? Никаким не то чтобы законом, судом, статьей в „Уставе духовных консисторий“, – но по крайней мере платонически, красноречиво, через угрозу в проповеди жестоким мужьям, через утешение в проповеди же замученным и оскорбленным?“ Представьте – ничего. Ни звука. Откройте все „творения“, многотомные, протяженные: они все тянут ту же вермишель, проталкивая ее в катаральный желудок, – и вот вам „царство небесное на земле“ готово. Нет, серьезно: слыхал ли когда-нибудь кто-нибудь, чтобы против жестоких мужей поднялись громы, как против Дарвина и „материалистов“, да против тех же „адвокатов и безбожников“, читающих Дарвина, а не „наши томы“. Ни звука. Только раз, в довольно толстой книжке (870 страниц): „Семья православного христианина. Сборник проповедей, размышлений, рассказов, стихотворений. Составил священник А. Рождественский“ (С.-Петербург, 1900), мне привелось встретить единственную за всю жизнь статейку как раз на эту тему: „К женам, имеющим худых мужей“, которую и привожу здесь целиком как историческое выражение исторической „благопопечительности“. Вот послушайте, читатель, как утешил и рассудил:
„К женам, имеющим дурных мужей. Из жизни св. Нонны. Чет. мин., авг. 5-го. Всякий знает, что далеко не все живут счастливо в супружестве и что, при этом, в огромном большинстве, чаще приходится пить горькую чашу женам, нежели мужьям. Там, слышишь, муж вовсе не хочет знать Бога и творит неподобное; там – пьяница; иному все равно, есть ли у него жена и дети или нет; у третьего в привычку вошло постоянно надругаться над женою. Четвертый… да что четвертый? И не перечтешь, сколько есть худых мужей. И вот сердце обливается кровью, глядя на этих несчастных страдалиц, как бы осужденных на каждодневную муку и безграничную скорбь. Как же быть? Неужели так уж и оставить их в этой муке и ничем не помочь им? Ужели нет средства облегчить их горькую участь? Нет, необходимо должно помочь, и есть средство на то, чтобы облегчить их участь. Вы, конечно, спросите, в чем же состоит это средство? А вот послушайте, мы его сейчас откроем вам.
„Мать св. Григория Богослова, блаженная Нонна, была дочь добрых христиан, и родители воспитали ее по правилам христианского благочестия. Но вот ее несчастие: родители выдали ее за язычника. И горько, горько ей, пламенной христианке, было видеть, как муж ее, вместо истинного Бога, чтит бездушные твари и кланяется огню и светильникам. В самом деле, каково ей было, когда она станет на свою молитву, а муж на свою; она начнет молиться Богу, а муж справлять идольские обряды? – Да, тяжело было! Но к чести ее должно сказать, тяжело было только сначала. Нонна была женщина мудрая и волей сильная и скоро средство из тяжелого положения выйти нашла и худого мужа сделала добрым, и из него – язычника сделала также примерного и святого христианина. Каким же образом она достигла этого?
Нонна день и ночь припадала к Богу, в посте и со многими слезами просила у Него даровать спасение главе ее, неутомимо действовала на мужа, стараясь приобресть его различными способами: упреками, убеждениями, услугами… и более всего своею жизнию и пламенною ревностью о благочестии, чем всего сильнее склоняется и смягчается сердце, добровольно давая вести себя к добродетели. Ей надобно было, как воде, пробивать камень беспрерывным падением капли, от времени ожидать успеха в том, о чем старалась, как и оправдало последствие. Об этом просила она, этого ожидала, не столько с жаром юных лет, сколько с твердостию веры. И на осязаемое никто не полагался так смело, как она на ожидаемое, по опыту зная щедролюбие Божие. – Рассудок мужа стал мало-помалу исцеляться, а Господь стал его еще привлекать к себе и сонными видениями. Раз мужу Нон-ны представилось, будто он поет следующий стих Давида: «Возвеселихся о рекших мне: в дом Господень пойдем» (Пс. 121, 1). – С пением он ощущал в сердце сладость и, встав в радостном настроении, рассказал о видении своей супруге. Она же, уразумевши, что Сам Бог призывает мужа к святой церкви, стала усерднее поучать его христианской вере и привела его на путь спасения. В то время по пути в Никею остановился в Назианзине св. Леонтий, епископ Кесарии Каппадокийской. К нему блаженная Нонна привела своего мужа, и Григорий был крещен руками святителя. По принятии же святого крещения, проводил столь праведную и богоугодную жизнь, что впоследствии был избран на епископский престол в том же городе Назианзине. (Чет. мин., янв. 25-го).
«– Итак, вот вам помощь, жены несчастные! Подражайте святой Нон-не, и, Бог даст, и вы обратите на добрый путь ваших мужей. Молитесь пламенно о них Богу; действуйте на них упреками, убеждениями и услугами, показывайте им собою пример благочестивой жизни, веруйте в милосердие Божие, вооружитесь терпением и, поверьте, что как капля воды беспрерывным падением пробивает камень, так и вы, несомненно, рано или поздно тронете сердца мужей ваших и эти сердца обратите к Господу. Но если бы, при всем том, вы и не тронули их, то и тут ваше не пропадет, ибо, через свое, здесь на земле, терпение от мужей вы стяжаете себе венец мученический и причтетесь на небе к лику претерпевших до конца» (Гурьев. «Четьи минеи в поучениях»). (Стр. 172–175 разгонистой печати книжки.)
Вот и все, все, читатель.
И ни одного слова о том, что ведь, может быть, муж – алкоголик? вырожденец? «врожденный преступный тип»? Ни которая из категорий этих не пришла на ум, очевидно, ленивому г. Гурьеву и столь же лениво его перепечатавшему А. Рождественскому; и в общем – всему этому духу, ленивому к самой теме («христианская семья»), и не избираемой почти никогда для трактования.
Алкоголизм, вырожденец?.. Но может быть гораздо худшее и обыкновеннейшее. Именно: около жены, робкой в уме своем, недалекой, чуть-чуть даже тупой (ведь это еще не преступление?), может стоять человек стальной воли и твердого ума, о которого «подражайте св. Нонне» – рассыплется, как песок около гранита. Не читали разве составители этих «советов» в «Семейной хронике» С.Т. Аксакова о молодом Куролесове, который издевался над своею почти малолетнею женою, взятою главным образом ради приданого? Да и наконец, «пример св. Нонны» еще надо вычитать из книжки свящ. Рождественского. А до знаменитого 1900 года, когда появилась знаменитая книжка? а безграмотный люд? а люд нищий? Можно ли с ворами поступать, советуя: «Не воруй»? «Но мы – духовные и кроме духовных (мягких) средств иных для вразумления нечестивцев не имеем». Ну, будто бы? а сектанты? «штундисты» и «штундо-баптисты» и прочий люд, который к «нам» лютее, чем Илья Мурзин к жене своей Сусанне? Для них и их «вразумления» даже в служебный люд избираются лица с нарочито-пугающими фамилиями, вроде, напр., известного г. Бульдогова…








