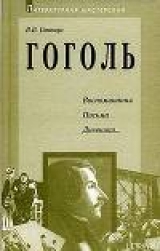
Текст книги "Гоголь. Воспоминания. Письма. Дневники."
Автор книги: Василий Гиппиус
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Москва, 26 мая 1836 г.
…Есть предел грусти, где далее она уже нейдет. Что делать! может быть, любовь к искусству я простер далее, нежели должно, но это не моя вина. Теперь «Ревизор» дал немного мне приятных минут и вместе горьких, ибо в результате оказался недостаток в силах и в языке. Может быть найдутся люди, которые были довольны; но надо заглянуть ко мне в душу! Ну, меня в сторону. Ежели Н. В. Гоголь не уехал за границу, то сообщи ему, что вчерашний день игрался «Ревизор» – не могу сказать, чтобы очень хорошо, но нельзя сказать, чтобы и дурно; игран был в абонемент, и потому публика была высшего тона, которой, как кажется, она (комедия) многим не по вкусу. Несмотря на то, хохот был беспрестанно; вообще принималась пьеса весело; на завтра билеты на бельэтажи и бенуары, а равно и на пятницу – разобраны. Ежели получил от Гоголя пьесу «Женитьба», то пожалуйста, переписав, пришли; а то, несмотря ни на какие неудобства, я сам за ней приеду. Прощай, целую тебя.
М. С. Щепкин, стр. 162–163.
М. С. Щепкин – И. И. Сосницкому3 июня 1836 г.
Сейчас получил от тебя, дружище, письмо, и сейчас отвечаю. Бранишь, что я не писал подробно об успехе пьесы, но я написал тебе всё, что мог написать. Публика была изумлена новостью, хохотала чрезвычайно много, но я ожидал гораздо большего приема. Это меня чрезвычайно изумило; но один знакомый забавно объяснил мне эту причину: «Помилуй, говорит, как можно было ее лучше принять, когда половина публики берущей, а половина дающей?» И последующие разы это оправдали: принималась (комедия) чрезвычайно хорошо, принималась с громкими вызовами, и она теперь в публике общим разговором, и до кого она ни коснулась – все в восхищении, а остальные морщатся. Ленский в Хлестакове очень недурен. Орлов в слуге хорош. Бобчинский и Добчинский порядочны, [Ник. Мат. Никифоров (1796–1880) и Серг. Вас. Шумский (1820–1878). ] а особливо в сцене, где они являются с просьбой – один об сыне, а другой хлопочет о том, чтобы привести в известность о его местопребывании; а первой сценой я недоволен. Собой я большею частию недоволен, а особливо первым актом. Петр Степанов в судье бесподобен. Женщинами я вообще недоволен, а особливо женой и дочерью: чрезвычайно нежизненны. [Марья Дм. Львова-Синецкая (1795–1875) и Панова. ] Вчера играл я в четвертый раз, и публика каждый раз принимает ее теплее и теплее; театр всегда бывает полон. Теперь доволен ли моим отчетом?
М. С. Щепкин, стр. 163–164.
И. И. Лажечников о Гоголе…В письме к Белинскому от 18 июня 1836 г. Лажечников хвалит написанные им тогда разборы Шевырева, «Постоялого двора», [Роман Ал-дра Петр. Степанова, вышед. в 1835 г. Отзыв Белинского (отрицательный) – в «Молве», 1836 г., № 1 «Разборы Шевырева» – статья «О критике и лит. мнениях Моск. Наблюдателя» («Телескоп», № 5). ] но думает, что Белинский польстил «Современнику» и слишком пристрастен к Гоголю. Тогда только что вышел «Ревизор», и Лажечников, как многие писатели старой школы, совершенно искренно не понимал восторга от новой комедии, которую считал просто карикатурой, фарсом, годным для потехи райка, а не художественным творческим произведением. Он еще раз потом возвращается к этому предмету… «Высоко уважаю талант автора „Старосветских помещиков“ и „Бульбы“; но не дам гроша за то, чтобы написать „Ревизора“… Признаюсь, я сержусь на вас: вы пристрастны… Зачем, взыскивая с других за всё и про всё, вы прощаете всё Гоголю? Но приезжайте, приезжайте хоть для того, чтобы поспорить; я выиграю вдвойне, – буду иметь удовольствие вас видеть у себя и, может быть, убеждусь, что я принимал белое за черное».
А. Пыпин. «Белинский, его жизнь и переписка», изд. 2-е, стр. 103–104.
Из воспоминаний В. В. Стасова[Влад. Вас. Стасов (1824–1906) – археолог и историк искусства. Воспитывался в училище правоведения в Петербурге. Воспоминания относятся к 1836 г.]
…Первое, что я прочитал из Гоголя, это была «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», напечатанная в «Новоселье», сборнике, составившемся из статей лучших тогдашних писателей, по поводу переезда книгопродавца Смирдина в новый магазин. Вот где можно сказать, что новое поколение подняло великого писателя на щитах с первой же минуты его появления. Тогдашний восторг от Гоголя – ни с чем несравним. Его повсюду читали точно запоем. Необыкновенность содержания, типов, небывалый, неслыханный по естественности язык, отроду еще неизвестный никому юмор – всё это действовало просто опьяняющим образом. С Гоголя водворился на России совершенно новый язык; он нам безгранично нравился своей простотой, силой, меткостью, поразительною бойкостью и близостью к натуре. Все гоголевские обороты, выражения быстро вошли во всеобщее употребление. Даже любимые гоголевские восклицания: «черт возьми», «к черту», «черт вас знает», и множество других, вдруг сделались в таком ходу, в каком никогда до тех пор не бывали. Вся молодежь пошла говорить гоголевским языком. Позже мы стали узнавать и глубокую поэтичность Гоголя, и приходили от нее в такой же восторг, как и от его юмора, Вначале же всех поразил, прежде всего остального, юмор его, с которым нам нельзя было сравнить ничего из всего, до тех пор нам известного. Мы раньше всего купили для нашего класса «Новоселье», и тотчас же толстый том был совершенно почти в клочках от беспрерывного употребления. Тогда не только в Петербурге, но даже во всей России было полное царство Булгарина, Греча и Сенковского. Но нас мало заинтересовали «Похождения квартального» Булгарина и «Большой выход сатаны» Сенковского, появившиеся в этом томе. Ложный и тупой юмор Брамбеуса был настолько скучен, и мы только и читали, что «Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича». Скоро потом купили два томика «Арабесок». Тут «Невский проспект», «Портрет» нравились нам до бесконечности, и я разделял общий восторг. Не могу теперь сказать – как другие, но что касается до меня лично, то я был тогда в великом восхищении и от исторических статей Гоголя, напечатанных в «Арабесках». «Шлецер, Миллер и Гердер», «Средние века», «Мысли об изучении истории», [ «О преподавании всеобщей истории»] все это глубоко поражало меня картинностью и художественностью изложения. Что, кабы нам на этот манер читали историю в классе, думал я сто раз, сравнивая статьи Гоголя с тою мертвечиною, тоской и скукой, какою нас угощали наши учителя, под названием «истории», конечно и не подозревая, что у нас есть воображение, потребность жизни и пластичности. И, мне кажется, эти статьи не пропали даром. Они имели значительное влияние на отношение мое, и моих товарищей, к истории…
Некоторые из нас видели тогда тоже и «Ревизора» на сцене. Все были в восторге, как и вся вообще тогдашняя молодежь. Мы наизусть повторяли потом друг другу, подправляя и пополняя один другого, целые сцены, длинные разговоры оттуда. Дома или в гостях нам приходилось нередко вступать в горячие прения с разными пожилыми (а иной раз, к стыду, даже и не пожилыми) людьми, негодовавшими на нового идола молодежи и уверявшими, что никакой натуры у Гоголя нет, что это всё его собственные выдумки и карикатуры, что таких людей вовсе нет на свете, а если и есть, то их гораздо меньше бывает в целом городе, чем тут у него в одной комедии. Схватки выходили жаркие, продолжительные, до пота на лице и на ладонях, до сверкающих глаз и глухо начинающейся ненависти или презрения, но старики не могли изменить в нас ни единой черточки, и наше фанатическое обожание Гоголя разрасталось всё только больше и больше.
«Русская Старина», 1881 г., № 2, стр. 414–418.
Письма русского путешественника
Н. В. Гоголь – В. А. ЖуковскомуГамбург, 28/16 июня (1836) [Гоголь уехал из Петербурга 6 июня, на пароходе, вместе с А. С. Данилевским.]
Мне очень было прискорбно, что не удалось с вами проститься перед моим отъездом, тем более, что отсутствие мое, вероятно, продолжится на несколько лет. Но теперь для меня есть что-то в этом утешительное. Разлуки между нами не может и не должно быть, и где бы я ни был, в каком бы отдаленном уголке ни трудился, я всегда буду возле вас. Каждую субботу я буду в вашем кабинете, вместе со всеми близкими вам. Вечно вы будете представляться мне слушающим меня читающего. Какое участие, какое заботливо-родственное участие видел я в глазах ваших!.. Низким и пошлым почитал я выражение благодарности моей к вам. Нет, я не был проникнут благодарностью; клянусь, это что-то выше, что-то больше ее; я не знаю, как назвать это чувство, но катящиеся в эту минуту слезы, но взволнованное до глубины сердце говорят, что оно одно из тех чувств, которые редко достаются в удел жителю земли. – Мне ли не благодарить пославшего меня на землю! Каких высоких, каких торжественных ощущений, невидимых, незаметных для света, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек. Львиную силу чувствую в душе своей и заметно слышу переход свой из детства, проведенного в школьных занятиях, в юношеский возраст. В самом деле, если рассмотреть строго и справедливо, что такое все, написанное мною до сих пор? Мне кажется, как будто я разворачиваю давнюю тетрадь ученика, в которой на одной странице видно нерадение и лень, на другой нетерпение и поспешность, робкая, дрожащая рука начинающего и смелая замашка шалуна, вместо букв выводящая крючки, за которую бьют по рукам. Изредка, может быть, выберется страница, за которую похвалит разве только учитель, провидящий в них зародыш будущего. Пора, пора наконец заняться делом. О, какой непостижимо-изумительный смысл имели все случаи и обстоятельства моей жизни! Как спасительны для меня были все неприятности и огорчения! Они имели в себе что-то эластическое; касаясь их, мне казалось, я отпрыгивал выше, по крайней мере чувствовал в душе своей крепче отпор. Могу сказать, что я никогда не жертвовал свету моим талантом. Никакое развлечение, никакая страсть не в состоянии были на минуту овладеть моею душою и отвлечь меня от моей обязанности. Для меня нет жизни вне моей жизни, и нынешнее мое удаление из отечества, оно послано свыше, тем же великим провидением, ниспославшим все на воспитание мое. Это великий перелом, великая эпоха моей жизни. Знаю, что мне много встретится неприятного, что я буду терпеть и недостаток и бедность, но ни за что в свете не возвращусь скоро. Долее, долее, как можно долее буду в чужой земле. И хотя мысли мои, мое имя, мои труды будут принадлежать России, но сам я, но бренный состав мой будет удален от нее.
Не знаю, как благодарить вас за хлопоты ваши доставить мне от императрицы на дорогу. Если это сопряжено с неудобствами, или сколько-нибудь неприлично, то не старайтесь об этом. Я надеюсь, что при теперешней бережливости моей могу как-нибудь управиться с моими средствами. Правда, разделавшись с Петер[бургом], я едва только вывез две тысячи, но, может быть, с ними я протяну как-нибудь до октября, а в октябре месяце должен мне Смирдин вручить тысячу с лишком. С петербургскими моими долгами я кое-как распорядился: иные выплатил из моей суммы, другие готовы подождать. Если же на случай вы получите для меня деньги, то вручите их Плетневу, который мне может переслать, если мне придется большая надобность. Я еду теперь прямо в Ахен. Письмо же к Коппу [Доктор во Франкфурте. ] отправил по почте вчера, раньше никак не мог.
Наше плавание было самое несчастное. Вместо четырех дней, пароход шел целые полторы недели, по причине дурного и бурного времени и беспрестанно портившейся пароходной машины. Один из пассажиров, граф М[усин-]Пушкин, умер. В Ахене я дождусь ответа Коппа, к которому послал описание моей болезни, впрочем не слишком важной. В Ахене я займусь месяца два языками, потому что мне чрезвычайно трудно изъясняться, и потом еду на Рейн. Передайте мой поклон князю Вяземскому и благодарите его от меня за его участие и письмо. Даже с Пушкиным я не успел и не мог проститься; впрочем он в этом виноват. [Пушкин вернулся из Москвы в Петербург 23 мая, и лето провел на даче – на Каменном острове. Возможность свидания с Гоголем была таким образом затруднена, но не исключена. Но 1836 г. – год охлаждения между Гоголем и Пушкиным, вероятно, на почве журнальных отношений. ] Для его журнала я приготовлю кое-что, которое, как кажется мне, будет смешно: из немецкой жизни. [Написано не было. ] Плетневу скажите, что я буду писать к нему из Ахена, и что я очень сильно жму его руку. Желая вам как можно лучше, веселее проводить время и прося вас думать иногда о том, который думать о вас почитает праздником и приготовляет только на закуску после трудов, остаюсь навсегда ваш
Н. Гоголь.
«Письма», I, стр. 383–386.
Н. В. Гоголь – М. П. ПогодинуЖенева, сентября 22/10 1836 г.
Здравствуй, мой добрый друг! как живешь? чтό делаешь? скучаешь ли, веселишься ли? или работаешь, или лежишь на боку да ленишься? Бог в помощь тебе, если занят делом. Пусть весело горит пред тобою свеча твоя!.. Мне жаль, слишком жаль, что я не видался с тобою перед отъездом. Много я отнял у себя приятных минут… но на Руси есть такая изрядная коллекция гадких рож, что невтерпеж мне пришлось глядеть на них. Даже теперь плевать хочется, когда об них вспомню. Теперь передо мною чужбина, вокруг меня чужбина, но в сердце моем Русь, – не гадкая Русь, но одна только прекрасная Русь: ты, да несколько других близких, да небольшое число заключивших в себе прекрасную душу и верный вкус. Я не пишу тебе ничего о моем путешествии. Впечатления мои уже прошли. Уже я привык к окружающему, и потому описание его, сомневаюсь, чтобы было любопытно. Два предмета только поразили и остановили меня: Альпы да старые готические церкви.
Осень наступила, и я должен положить свою дорожную палку в угол и заняться делом. Думаю остаться или в Женеве, или в Лозане, или в Веве, где будет теплее (здесь нет наших теплых домов). Принимаюсь перечитывать вновь всего Вальтер Скотта, а там, может быть, за перо…
«Письма», I, стр. 396.
Н. В. Гоголь – В. А. ЖуковскомуПариж, 12 ноября 1836 г.
…Прошатавшись лето на водах, я перебрался на осень в Швейцарию. Я хотел скорее усесться на месте и заняться делом; для этого поселился в загородном доме близ Женевы. Там принялся перечитывать я Мольера, Шекспира и Вальтер Скотта. [Вероятно, на французском языке (английским Гоголь занялся только в последние годы жизни). ] Читал я до тех пор, покамест сделалось так холодно, что пропала вся охота к чтению. Женевские холода и ветры выгнали меня в Веве. Никого не было в Веве; один только Блашне выходил ежедневно в 3 часа к пристани встречать пароход. Сначала было мне несколько скучно, потом я привык и сделался совершенно вашим наследником: завладел местами ваших прогулок, мерял расстояние по назначенным вами верстам, колотя палкою бегавших по стенам ящериц, нацарапал даже свое имя русскими буквами в Шильонском подземелье, не посмел подписать его под двумя славными именами творца и переводчика «Шильон. узника»; [Т. е. Байрона и Жуковского. Шильонский замок – на берегу Женевского озера. ] впрочем, даже не было и места. Под ними расписался какой-то Бурнашев. Внизу последней колонны, которая в тени, когда-нибудь русский путешественник разберет мое птичье имя, если не сядет на него англичанин. Недоставало только мне завладеть комнатой в вашем доме, в котором живет теперь великая кн. Анна Федоровна. Осень в Веве наконец настала прекрасная, почти лето. У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за «Мертвых Душ», которых было начал в Петербурге. Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше; серо-лилово-голубо-сине-розовые ее горы легче и воздушнее. Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то… какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем! Это будет первая моя порядочная вещь; вещь, которая вынесет мое имя. Каждое утро, в прибавление к завтраку, вписывал я по три страницы в мою поэму, и смеху от этих страниц было для меня достаточно, чтобы усладить мой одинокий день. Но наконец и в Веве сделалось холодно. Комната моя была нимало не тепла; лучшей я не мог найти. Мне тогда представился Петербург, наши теплые домы; мне живее тогда представились вы, вы в том самом виде, в каком встречали меня приходившего к вам и брали меня за руку, и были рады моему приходу… И мне сделалось страшно скучно. Меня не веселили мои «Мертвые Души», я даже не имел в запасе столько веселости, чтобы продолжать их. Доктор мой отыскал во мне признаки ипохондрии, происходившей от геморроид, и советовал мне развлекать себя; увидевши же, что я не в состоянии был этого сделать, советовал переменить место. Мое намерение до того было провести зиму в Италии, но в Италии бушевала холера страшным образом; карантины покрыли ее, как саранча. Я встречал только бежавших оттуда итальянцев, которые от страху в масках проезжали свою землю. Не надеясь развлечься в Италии, я отправился в Париж, куда вовсе не располагал было ехать. Здесь встретил я своего двоюродного брата, [Так Гоголь назвал почему-то А. С. Данилевского. ] с которым выехал из Петербурга. Это лучший из выпущенных вместе со мною из Нежина. Жаль, что вы не знаете его стихов, которые под величайшим страхом показал он только одному мне, и то не прежде, как затворивши все двери, чтобы и французы не услышали. Париж не так дурен, как я воображал, и, что всего лучше для меня, мест для гулянья множество; одного сада Тюльери и Елисейских полей достаточно на весь день ходьбы. Я нечувствительно делаю порядочный моцион, что для меня теперь необходимо. Бог простер здесь надо мною своё покровительство и сделал чудо: указал мне теплую квартиру; на солнце, с печкой, и я блаженствую. Снова весел. «Мертвые» текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною всё наше, наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словом вся православная Русь. Мне даже смешно, как подумаю, что я пишу Мертвых Душ в Париже. Еще один Левиафан затевается. Священная дрожь пробирает меня заранее, как подумаю о нем, слышу кое-что из него. Божественные вкушу минуты… но… теперь я погружен весь в «Мертвые Души». Огромно велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ; но что ж мне делать! Уже судьба моя враждовать с моими земляками. Терпение! Кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом. Знаю, что мое имя после меня будет счастливее меня, и потомки тех же земляков моих, может быть, с глазами, влажными от слез, произнесут примирение моей тени.
…Не представится ли вам каких-нибудь казусов, могущих случиться при покупке мертвых душ? Это была бы для меня славная вещь, потому, как бы то ни было, но ваше воображение верно, увидит такое, чего не увидит мое. Сообщите об этом Пушкину; авось-либо и он найдет что-нибудь с своей стороны. Хотелось бы мне страшно вычерпать этот сюжет со всех сторон. У меня много есть таких вещей, которые бы мне никак прежде не представились; но, несмотря, вы все еще можете мне сказать много нового, ибо что голова, то ум. Никому не сказывайте, в чем состоит сюжет «Мертвых Душ».
Название можете объявить всем. Только три человека: вы, Пушкин да Плетнев, должны знать настоящее дело. Прилагаемое письмо прошу вас покорнейше вручить Плетневу немедленно; оно нужное.
«Письма», I, стр. 413–416.
Н. В. Гоголь – Н. Я. ПрокоповичуПариж, 25 янв. 1837 г.
Я получил письмо от Данилевского, что он скучает в Париже, и решился ехать разделять его скуку. Париж город хорош для того, кто именно едет для Парижа, чтобы погрузиться во всю его жизнь. Но для таких людей, как мы с тобою, – не думаю, разве нужно скинуть с каждого из нас по 8 лет. К удобствам здешним приглядишься, тем более, что их более, нежели сколько нужно; люди легки, а природы, в которой всегда находишь ресурс и утешение, когда всё приестся, – нет: итак, нет того, что бы могло привязать к нему мою жизнь. Жизнь политическая, жизнь вовсе противоположная смиренной художнической, не может понравиться таким счастливцам праздным, [ «Нас мало избранных, счастливцев праздных». («Моцарт и Сальери» Пушкина). ] как мы с тобою. Здесь всё политика, в каждом переулке и переулочке библиотека с журналами. Остановишься на улице чистить сапоги, тебе суют в руки журнал; в нужнике дают журнал. Об делах Испании больше всякий хлопочет, нежели о своих собственных. [Междоусобные войны 1833–1840 гг. и парламентские реформы 1836–1837 гг. ] Только в одну жизнь театральную я иногда вступаю: итальянская опера здесь чудная! Гризи, Тамбурини, Рубини, Лаблаш – это такая четверня, что даже странно, что они собрались вместе. На свете большею частью бывает так, что одна вещь находится в одном углу, а другая, которой бы следовало быть возле нее, в другом. Не приведи бог принести сюда Пащенка. Беда была бы нашим ушам. Он бы напевал, я думаю, ежедневно и ежеминутно. Я был не так давно в Théâtre Français, где торжествовали день рождения Мольера. Давали его пиесы «Тартюф» и «Мнимый Больной». Обе были очень хорошо играны, по крайней мере в сравнении с тем, как играются они у нас. [На петербургской русской сцене до отъезда Гоголя эти комедии не шли. [Каждый год Téâtre Français торжествует день рождения Мольера. В этом было что-то трогательное. По окончании пиесы поднялся занавес: явился бюст Мольера. Все актеры этого театра попарно под музыку подходили венчать бюст. Куча венков вознеслась на голове его. Меня обняло какое-то странное чувство. Слышит ли он, и где он слышит это? Видел в трех пиесах M-elle Mars. Ей 60 лет. [Анна Бутэ-Монвель, по сцене Марс (1773–1847). ] В одной пиесе играла она 18-летнюю девицу. Немножко смешно было сначала, но потом в других действиях, когда девица становится замужней женщиною, ей прощаешь лишние годы. Голос ее до сих пор гармонический и, зажмуривши глаза, можно вообразить живо перед собою 18-летнюю. Всё просто, живо; очищенная натура в местах патетических; слова исходят прямо из глубоко тронутой души, ничего дикого, ни одной фальшивой или искусственной ноты. На русском нашем театре далеко недостает до Mars. Актеров много, очень много хороших. На каждом театре есть два или три своих корифея. Видел наследника Тальмы [Франсуа Жозеф Тальма (1763–1826) – французский трагик. ] [Лижье]. Среднего росту, пожилых лет человек, бегает по сцене довольно свободно, как дома, не складывает рук крестом и не глядит из-за плеча. Пиес, где герой является идеалом физической силы, он, как кажется, избегает. Я его не видел, по крайней мере, никогда ни в старых трагедиях, ни в новых драмах, где герои сильно страдают и много беснуются. Играл он Людовика XI в пиесе Делавиня [ «Людовик XI» – драма Делавиня (1832). Казимир Делавинь (Delavigne) род. 1793, ум. 1843 г. ] и, кажется, вряд ли Делавиню так написать, как Ligier играл. Он был даже смешон – до такой степени хорош. Король, распоряжающийся очень коварно и плутовски и между тем дающий всему этому вид необходимости, им же самим наложенной, был очень занимателен для зрителя. В пиесах Мольера старики, дяди, опекуны и отцы играются очень хорошо, плуты-слуги тоже прекрасно. Если бы собрать с каждого из здешних театров по три первых персонажа, то можно бы таким образом обставить пиесу, как только может себе составить идею один комик или трагик. Театры все устроены прекрасно. Они не имеют великолепных наружных фасадов, но внутри всё как следует. От первого до последнего слова слышно и видно всем. Балеты становятся с такою роскошью, как в сказках; особливо костюмы необыкновенно хороши, страшною историческою точностью. Сколько прежде французы глядели мало на дух века, столько теперь приглядываются на мелочи; само собою, что при этом ускользает много крупного. Золота, атласу и бархату на сцене много. Как у нас одеваются на сцене первые танцовщицы, так здесь все до одной фигурантки. Далеко Гедеонову до Петрова дня, хотя ему и значительно помогает в украшении декораций Федор Андреевич. Тальони [Мария Тальони (1804–1884) – прима-балерина парижской оперы. ] – воздух! Бездушнее еще ничего не бывало на сцене. Впрочем, здесь около десяти есть таких танцовщиц, или солисток, перед которыми Пейсар [Лаура Пейсар – одна из лучших петербургских балерин (на сцене между 1832 и 1837 гг.)] – Пащенко. Скажи Жюлю, [Прозвище П. В. Анненкова. ] как, право, не совестно ему жить с мамзель Жорж. Ведь ей 67 лет. [Шутка. Маргарите Веммер, по сцене Жорж, было в это время 50 лет (р. 1787, ум. 1867 г.). ] Да притом видно, что она только красотой своей брала. Игра ее очень монотонна и часто напыщенна. Впрочем, говорят, что ее нужно видеть только в старых трагедиях, которых однако ж не играют вовсе на том театре, где она теперь находится. Играет она в театре Porte St. Martin, где играются только одни новые драмы и мелодрамы, и где зрители шумят больше, нежели на всех других театрах. Всякий почти раз в партере произойдет какая-нибудь комедия или даже и водевиль, если у зрителей хорош голос. Тогда актеры делаются зрителями: сначала слушают, а потом уходят со сцены, занавес опускается, музыка начинает играть и пиесу начинают снова. Народ очень любит драмы и особенно партия республиканская. Это народ сумрачный, апплодирует редко. Прочие ходят в Водевиль, среднее сословие – в театр Variéte, или в театр Палерояля (лучшие водевильные театры). Знать, как бывает всегда, корчит меломанов, и ходит в Итальянскую или в Большую оперу (на французском диалекте), где конопатят до сих пор еще «Гугенотов» и «Роберта», [Оперы Мейербера. ] ударяя в медные горшки и тазы сколько есть духу; или иногда в Opéra Comique (французскую оперу).
…Тощи ваши петербургские литературные новости. Да скажи, пожалуйста, с какой стати пишете вы все про «Ревизора»? В твоем письме и в письме Пащенка, которое вчера получил Данилевский, говорится, что «Ревизора» играют каждую неделю, театр полон и проч… и чтобы это было доведено до моего сведения. Что это за комедия? Я, право, никак не понимаю этой загадки. Во-первых, я на «Ревизора» – плевать, а во-вторых – к чему это? Если бы это была правда, то хуже на Руси мне никто бы не мог нагадить. Но, славу богу, это ложь: я вижу через каждые три дня русские газеты. [В сезон 1836–1837 г. (с весны до весны) «Ревизор» был сыгран в Петербурге 26 раз. ] Не хотите ли вы из этого сделать что-то вроде побрякушки и тешить меня ею, как ребенка? И ты!.. Стыдно тебе! – ты предполагал во мне столько мелочного честолюбия! Если и было во мне что-нибудь такое, что могло показаться легко меня знавшему тщеславием, то его уже нет. Пространства, которые разделяют меня с тобою, поглотили всё то, за что поэт слышит упреки во глубине души своей. Мне страшно вспомнить обо всех моих мараньях. Они вроде грозных обвинителей являются глазам моим. Забвенья, долгого забвенья просит душа. И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры «Ревизора», а с ними «Арабески», «Вечера» и всю прочую чепуху, и обо мне, в течение долгого времени, ни печатно, ни изустно не произносил никто ни слова – я бы благодарил судьбу. Одна только слава по смерти (для которой, увы! не сделал я, до сих пор, ничего) знакома душе неподдельного поэта. А современная слава не стоит копейки.
…Кстати о литературных новостях. Они, однако ж, не тощи. Где выберется у нас полугодие, в течение которого явились бы разом две такие вещи, каковы «Полководец» и «Капитанская Дочь». [ «Полководец» (стих. Пушкина) – в третьем, а «Капитанская дочка» – в четвертом томе «Современника» за 1836 г. ] Видана ли была где-нибудь такая прелесть! Я рад, что «Капитанская Дочь» произвела всеобщий эффект.
…Извести меня, что это такое «Литературные Прибавления», которые издает Краевский [Анд. Ал-др. Краевский (1810–1889) – издатель «Литературных Прибавлений» к «Русскому Инвалиду», а с 1839 г. – «Отечественных Записок». ] и о которых пишет Пащенко? и отчего мое бедное имя туда заехало? или ему суждено валяться, как векселю несостоявшегося банкрота, от которого хотя не ждут никакой пользы, но не раздирают его потому только, что когда-то он стоил денег. Впрочем мне это неприятно, и только в нашем литературном мире могут случаться такие самоуправства. Я не желал бы, очень не желал, чтобы мое имя упоминалось в печати…








