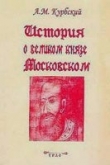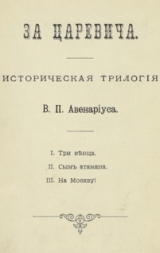
Текст книги "Сын атамана"
Автор книги: Василий Авенариус
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
– Яким! Погоди еще, послушай... – в отчаяньи крикнул Гришук вслед уходящему.
Но тот уже не слышал, или не хотел слышать, и пропал в темноте ночи.
Глава тринадцатая
"ПУГУ! ПУГУ!"
Утреннее солнце сияло уже на небе, а наши три путника ни разу еще не сходили с коней. Пока заря не рассеяла сумрака безлунной ночи, движение их немало замедлялось пересекавшими степь извилистыми балками и выбалками, речками и речонками. Но и теперь им приходилось ехать только мелкою рысью, а то и шажком, так как недавно лишь сросшаяся ключица Гришука не выносила сильных толчков. Настроение же мальчика, несмотря на бессонную ночь и разлуку со стариком-дядькой, с первыми лучами дня разом переменилось. Как будто робея сам заговаривать с Курбским, он обращался с разными вопросами к Даниле и заливался звонким смехом над его, по большей части, шутливыми ответами. Так, спросил он запорожца, отчего у него одна только правая шпора.
– А на что мне другая? – отвечал Данило. – Как пришпорю коня в правый бок, так левый все равно бежит рядом.
– А нагайка у тебя для чего? – продолжал, смеясь, допытывать Грищук.
– Нагайка-то? Чтобы конь мой не думал, что не одни птицы по воздуху летают.
И в доказательство он нагайкой заставил своего коня сделать такой воздушный прыжок, что сам едва не вылетел из седла.
А солнце поднималось все выше и выше; становилось жарко.
– Хоть бы водицы испить! – вздохнул Гришук.
– А что, Данило, – сказал Курбский, – погони, верно уже не будет? Можно бы сделать и привал.
– Можно и должно! – согласился Данило. – В животе у меня самого словно на колесах ездят. Пропустили мы, жалко, два, а то три зимовника. Но вот никак опять один.
В самом деле, в отдалении, над зеленым ковром степи показалась небольшая землянка. Данило вонзил единственную шпору в бок заморенного коня, подскакал к окружавшему землянку плетню и издал условный запорожский клич:
– Пугу! Пугу!
[]
Обычного отклика, однако, не последовало. Запорожец повторил крик, – то же молчание.
– Хозяин, знать, в отлучности, – сказал он, оборачиваясь к подъехавшим спутникам. – Обойдемся и так: у доброго хозяина все найдется в доме.
– Но как же нам брать без спросу? – заметил Курбский, сходя с коня, меж тем как слуга снимал с седла мальчика.
– Без спросу? – усмехнулся Данило. – На то и дверь настежь оставляется, а на столе страва: кто заедет, – вари сам себе обед. Таков уж свычай запорожский.
И точно: при входе в низенькую землянку наши спутники нашли на столе пшено и малороссийское сало, а на лавке целый мешок с бураками. Пока Данило разводил на очаге огонь. Гришук сбегал с ведром к колодцу за водой, а потом стал помогать запорожцу готовить полдник. Курбский не мог надивиться той сноровке, с какой хлопчик чистил ножом бураки и месил пшено, точно то было для него совсем привычное дело. А тут он надумал еще поучать запорожца, как варить похлебку, и тот (дело дивное) беспрекословно делал по указанному.
– Тебе и книги в руки, – говорил Данило и, украдкой покосившись на Курбского, прибавил еще шепотом что-то такое, от чего Гришук смущенно рассмеялся и весь зарделся.
Та же мысль, что и накануне, шевельнулась снова в голове у Курбского, но он поспешил ее отогнать.
Полдник был неприхотливым, но голод, как известно, лучший повар: все трое ели с одинаковым аппетитом, а двое младших с неменьшим удовольствием пили ключевую колодезную воду. Не совсем доволен хозяином остался один Данило, зачем тот не озаботился также каким-нибудь более крепким пойлом.
– Ну, да Господь с ним! – сказал он. – У Богдана Карнауха ужо наверстаем.
– А кто этот Карнаух? – спросил Курбский. – Приятель твой по Сечи?
– Приятель, точно. Человек обстоятельный: дом – полная чаша.
– Так в Сечи он бывает, значит, только наездом?
– И наездом не бывает. Женатый казак – отрезанный ломоть. Как обзавелся своим хуторком, так и засел как Адам в раю, никаким калачом его оттоль не выманишь.
Недаром Данило назвал жилье своего приятеля раем: когда они часа через два добрались туда, Курбский невольно задержал коня и залюбовался. Живописно раскинувшись на пологом скате балки, хуторок утопал в плодовом саду; сквозь свежую зелень кое-где лишь на солнце ярко белели вымазанные известью стены, а над соломенной крышей чернели деревянные дымари с разными крышками.
– Пугу! Пугу! – раздался снова оклик Данилы.
– Пугу? Пугу? – донесся вопросительно в ответ из глубины сада густой мужской голос.
– Казак с лугу.
Тут у изгороди вынырнула стройная фигура краснощекой, чернобровой дивчины, но, завидев позади Данилы двух молодых спутников его, пугливая красотка крикнула только: "Батька просят!" и юркнула обратно в гущину сада.
– Галя! Ей же ей, Галя! – удивился Данило и, в знак одобрения, щелкнул языком. – Эк ведь пышно распустилась, что твой цветочек!
– За одно погляденье гривны не жаль, – подхватил Гришук. – Что это – дочка Карнауха?
– Дочка. Аль краса девичья и тебе по сердцу ударила?
– Как не ударить! – весело рассмеялся мальчик. – Очи сокольи, брови собольи!
– Все ведь подметил! Хочешь, сосватаю?
– Сосватай! Посаженным отцом позову.
Между тем Галя подняла уже на ноги весь дом, и встречать гостей вышел сам Карнаух.
Жилось ему в своем "раю" и то, должно быть, очень сытно. Он был еще дороднее Данилы; жирный кадык так и выпирал у него из расстегнутого ворота, а богатырски выпуклая грудь, как можно было разглядеть под распахнутой рубахой, вся обросла черными, как смоль, волосами – такими же, какие вылезали у него из ноздрей и ушей, чернели на жирных пальцах. Эта обильная растительность и медлительная неповоротливость движений придавали ему вид дикаря-увальня, а то и медведя.
Когда Данило назвал ему князя Курбского и объяснил причину их поездки в Запорожье, Карнаух не высказал на своем ленивом лице никакого впечатления, а промолвил с зевком и щурясь от солнца:
– Счастье же ваше.
– А что? – спросил Курбский.
– Что днем одним не опоздали: завтра войсковая рада* как раз в сборе.
______________________
* Рада – казачий совет, от польского слова "radzie" (согласовывать) или от русского "рядить".
– Завтра! Да ведь она сбирается, кажись, только для выборов к новому году?
– Верно; но ведь без головы Сечи быть полгода тоже не приходится.
– Так батька мой помер?! – вскричал Гришук.
Карнаух не спеша повернул голову на своей толстой шее, чтобы оглядеть мальчика, которого, казалось, еще и не заметил. Испуганный вид хорошенького хлопчика тронул, должно быть, и заплывшее жиром сердце толстяка, и он спросил уже не без некоторого участия:
– А кто твой батька?
– Батька мой – Самойло Кошка.
– Э – э! Помереть он не помер, но впал в некое онемение, а "до булавы треба головы".
– И ведь какой казак-то был! – воскликнул Данило. – Татарки, бывало, именем его ребят своих стращают: "Цыц, вы, чертенята! Самойло Кошка придет, с собой унесет!" Да что же мы тут заболтались? Проси-ка, братику, гостей в светлицу.
– Прошу, – сказал хозяин и сам пошел вперед.
Глава четырнадцатая
ХЛОПЧИК ИЛИ ДИВЧИНА?
Хата Богдана Карнауха, как у большинства тогдашних малороссов, была разделена на две половины: одна, предназначенная для жилья самих хозяев, состояла из "пекарни" (кухни) с "комнатою" (спальней), другая – для гостей – из "светлицы", точно так же с "комнатою".
По стенам светлицы тянулись деревянные лавки со спинками, покрытые цветными ковриками. На потолочных брусьях, украшенных узорчатой резьбой, имелись надписи из Священного Писания. Но гордость хозяина составляли, без сомнения, стены: на двух из них были развешаны пищали, "аркебузы" (немецкие ружья с фитилем), пистоли и "сагайдаки" (татарские луки), сабли, шашки и кинжалы, чешуйчатые кольчуги и шитые золотом конские уборы; по двум другим стенам, на резных дубовых полках, красовалась всевозможная драгоценная посуда, золотая, серебряная и хрустальная.
– И все-то, куда ни глянь, с великой нужей с бою взято! с неподдельным восторгом, не без тайной, пожалуй, зависти говорил Данило, указывая Курбскому на отдельные трофеи своего приятеля, – что у немчуры ливонской отбито, что у шляхты польской, что у погани басурманской... Ну-ка, Богдане, развязывай язык: ты лучше меня упомнишь. Князь Михайло – тоже ратный человек.
Тема и для степенного Карнауха была слишком заманчивая: начал он свои пояснения будто нехотя, выматывая из себя слова, но сам понемногу увлекся боевыми воспоминаниями. Курбский, по званию своему, хотя и был "ратным" человеком, но в настоящей битве ему никогда еще быть не доводилось, и чем далее бывалый вояка повествовал о том, кого он при такой-то оказии пристрелил или изрубил, какой хутор или замок разгромил или дотла сжег, тем тяжелее становилось на душе Курбского, тем более омрачались его светлые черты. Карнаух не мог не заметить происшедшей перемены, но объяснил себе ее иначе.
– А свое оружие, княже, ты забыл все у каменников? – с видимым уже состраданием спросил он.
– Забыл... В Сечи у кого-нибудь, авось, новое раздобуду.
– Почто в Сечи? Сам я в ратное поле навряд еще соберусь; сыновей своих у меня тоже нет: так и быть, бери себе тут, что облюбовалось.
Чтобы не стеснять гостя в выборе, он деликатно отошел к открытому окошку и зычно гаркнул:
– Жинка! Скоро ль там у тебя?
– Скоро, Богдане, дай убраться... – отозвался откуда-то оторопелый женский голос.
– Бери, бери! – говорил меж тем Данило Курбскому, видя его нерешительность. – Всякое даяние благо.
– Не могу я, право, – отвечал ему шепотом Курбский, – сколько одним ведь человеком крови пролито, сколько ближних обездолено!..
– "Ближних!" Еретиков-немцев да ляхов, собак-татарвы да турчан? Да ты сам, Михайло Андреевич, скажи, православный аль нет? Бери говорю! Он тебя, чай не прочь бы и в зятья взять. Да как бы не так, шалишь!
– Не бери, не бери! – вмешался тут молчавший до сих пор Гришук.
– "Не бери?" – вскинулся хозяин, подошедший к ним опять в это самое время от окошка. – Ты-то, щенок, чего тявкаешь? Аль нет у меня тут про вас ничего хорошего?
– Все хорошо безмерно! – поспешил Данило предупредить неуместный отказ своего господина. – И мне то за редкость, а ему на диво. Как же нам без оружия в Сечь показаться? Возьмем-ка для тебя, Михайло Андреевич, эту штуку, да вон эту и эту... А себе я возьму эту да эту...
– Губа-то у тебя не дура! – проворчал Карнаух, как бы сожалея о своем порыве великодушия. – Ну, да сказал раз, так пятиться не стану. А теперечки пожалуйте в сад.
В саду под тенистым навесом был накрыт уже стол, на котором вслед за тем появились также многие из драгоценных кубков, глечиков, чаш и чар с полок светлицы. Вокруг навеса сушились на веревках пучки разных весенних трав и кореньев, из которых со временем должны были быть настоены целебные домашние средства, а перед самым навесом была разведена грядка цветов. Солнечный воздух кругом был напоен их благоуханием, к которому примешивался еще вкусный запах жареного лука, тянувшийся из окон пекарни. Шедший отдельно от других Гришук наклонился к грядке, сорвал себе цветок ромашки и с какой-то, словно женской, ухваткой стал обрывать белые лепестки, беззвучно шевеля губами; но уловив тут пристальный взгляд Курбского, весь вспыхнул и бросил цветок.
Курбскому, впрочем, было уже не до мальчика, потому что в это время в калитке показалась хозяйка, а за ней дочка. Обе разрядились для гостей, как говорится, в пух и прах. Карнаухиха свой будний "очипок" (чепчик), свою полинялую плахту и поношеную запаску заменила дорогим головным убором – бобровым "корабликом" с бархатными кистями и парчовым кунтушом с золотыми галунами. Галя же в своей пунцовой "кирсетке", в светло-голубом девичьем кунтуше с широким на груди вырезом для пышной белой сорочки, расшитой золотым шнуром, и в монисте из бурмицких зерен и жемчуга, сама алая, как маков цвет, и с чинно потупленным взором под черною бровью, – была писанной картинкой, – ну, глаз не отвести!
– Не чинитесь, люди добрые! – пригласила хозяйка, и все разместились вокруг стола.
Обед состоял из нескольких перемен, и каждая запивалась либо брагой, либо медом.
– А не угодно ли пожевать нашего домашнего пряничка? – предложила красавица Галя Курбскому, озаряя его своими звездистыми очами.
– Что пряничек! – сказал отец. – Поднесла бы ты ему нашей домашней настоечки.
Дочка послушно встала и взяла со средины стола большой золотой кубок. Поскрипывая новыми козловыми черевичками, она обошла стол к Курбскому, сперва сама пригубила кубок, а потом с низким поклоном попотчевала гостя.
– Что с тобой, соколику? – участливо спросила Гришука Карнаухиха, заметив как тот вдруг изменился в лице. – Аль с дальней дороги притомился?
– Да как не притомиться, – вступился Данило, – ведь всю ноченьку, поди, с коня не сходил.
Хозяйка захлопоталась и увела мальчика в дом.
– Да и тебе, мосьпане, не соснуть ли? – предложил Курбскому хозяин. – Угоститься, а потом поваляться – разлюбезное дело.
Курбский не отказался: с дороги и с сытного обеда его сильно также клонило ко сну.
Проспал он, видно, довольно долго: когда он, освежив себе лицо водой, поставленной тут же в кувшине, подошел с полотенцем в руках к окошку, тени в саду совсем, оказалось, уже передвинулись.
Вдруг руки его с полотенцем невольно опустились, и он прислушался; из глубины сада долетели к нему звуки молодого голоса и сдержанные всхлипы.
– Ну, не плачь же, моя доночко, моя ясочко! У меня есть уже свой на примете, и ни на кого я его не променяю.
Чей это голос? Никак Галины. Но кого она утешает? Так ведь и есть!
Из увитой хмелем беседки вышла на дорожку Галя, ведя за руку Гришука. Курбский быстро отступил назад от окна. Тут в комнату к нему вошел Данило.
– Встаешь, Михайло Андреевич? Пора, пора! Пожалуй, что засветло и в Сечь уже не поспеем.
Курбский его не слушал.
– Скажи-ка, Данило, – промолвил он задумчиво, – кому на Малой Руси говорят: "моя доночко, моя ясочко?"
– Как кому, княже? Кого обласкать хотят.
– Это-то я знаю. Но дивчине или и хлопцу?
– Вестимо, что... Да кто кому говорил так?
– Говорила так сейчас вот в саду хозяйская дочка Гришуку...
– Не Гришук ли хозяйской дочке? Голос у него такой же тонкий, бабий.
– Нет, нет, Гришук о чем-то горько плакал, а та его утешала.
Запорожец презрительно усмехнулся.
– Да он и есть баба: то и знай хнычет!
– Послушай, Данило, – еще серьезнее заговорил Курбский. – Вспомнилось мне теперь, что Яким тебе на прощанье сказал тебе что-то за великую тайну... Может, клятву с тебя взял?..
– А кабы с тебя клятву взяли, – прервал Данило, – так ты бы сейчас, небось, по всему свету растрезвонил?
– Понятно, нет.
– А коли понятно, так чего ж ты меня пытаешь? Но Яким мне ничего по тайности не сказывал, никакой тайны не брал.
– Так ли, полно? Кому лучше знать, как не тебе, Данило, что женщинам впуск в Сечь строго заказан...
– И что преступившему такой наказ от петли не уйти? Как не знать! Да что мне жизнь моя, что ли, постыла? Чудак ты, право, Михайло Андреевич! Уж не сон ли тебе какой приснился? Настоечка была куда добрая.
– Ничего мне не приснилось...
– А не приснилось, так пойдем вместе к Гришу-ку, – продолжал запорожец тем же насмешливым тоном, – спросим самого: хлопчик он али дивчина?
– Еще что выдумал!
– При всех так и спросим: при хозяевах, при Гале. То то смеху будет!
И он закатился во все горло.
– Перестань дурачиться, Данило! – сказал, не то рассердившись, не то смутившись, Курбский.
– Так и сам дурака не валяй, прости. Собирайся-ка поскорее. Право же, в пути еще заночуем, не поспеем на раду.
Глава пятнадцатая
ЛОЖЬ – НА ТАРАКАНЬИХ НОЖКАХ
Название свое Запорожская Сечь получила по месту своего нахождения: на Низу Днепра – "за порогами".
По пути туда к нашим путникам примыкали все новые небольшие партии запорожцев, живших на вольностях запорожских, вне Сечи, и оповещенных о чрезвычайной раде.
И вот, в последних уже лучах заходящего солнца, замелькал меж дерев высокий, сажен шесть вышины, земляной вал с бойницами и внушительно выглядывавшими из них "арматами" (пушками), а над валом деревянная башня также с бойницей и арматой. Под самой башней в валу был вход в Сечь – "пролаз" шириною не более аршина.
Приставленный к пролазу старый караульный казак, по имени Иван Чемодур, знал, оказалось, в лицо всех вновь прибывших членов сечевого "товариства" и приветствовал каждого его прозвищем. Каких-каких прозвищ не услышал тут Курбский! Были тут Кисель и Куроед, Трегубый и Куронос, Лихопой и Быдло.
Когда очередь дошла до самого Курбского, он заявил, что он такой-то и имеет особую грамоту к войску запорожскому.
– Могу сейчас показать, – прибавил он.
– Опосля пану Мандрыке покажешь, – отозвался Чемодур. – Нас Господь не умудрил наукой.
– А Мандрыка все еще войсковым писарем состоит? – спросил Данило.
– Кому же и состоять, как не ему? Такого доку поискать! Каждый год выбирают.
– И подначальных строчил этих: писарей да под-писарей, канцеляристов да подканцеляристов, я чай, еще целый полк себе понабрал?
– Хошь и не полк, а отрядец будет. При боку пана судьи для караула и послуг всего на все 10 человек, у пана есаула – 7, у него же три десятка – без малого, поди, столько ж, сколько у самого кошевого атамана! А этот хлопчик, верно, при твоей особе? – указал караульный Курбскому на Гришука.
– Нет, это сынок самого Самойлы Кошки, – отвечал Курбский. – Нас просили доставить его к родителю...
– Гм, так... Да примет ли его еще родитель? Никого, вишь, до себя не пускает. Потерпи малость: ужо, как меня сменят, так сам вас до пана писаря сведу.
Сумерки на Малой Руси наступают, как известно, тотчас по закате солнца. Когда Чемодура сменил другой караульный, совсем почти стемнело. Но по мерцавшим из окон огням можно было судить об общем расположении куреней вокруг сечевой площади. Кошевой курень, вместе с сечевой церковью, стоял отдельно за каменной оградой во внутреннем "коше"*.
______________________
* Кошами назывались войлочные шалаши степных пастухов и скотарей поставленные на двух колесах для более удобного перемещения в степи. В переносном же смысле под кошем разумелся войсковой стан запорожцев, столица их – сама Сечь Запорожская. Отсюда и название кошевого атамана, начальника войска.
В этом курене в отличие от остальных была отведена особая большая камера для войсковой канцелярии, куда Чемодур теперь и ввел Курбского с его двумя спутниками.
Войсковая "старшина" (старшее начальство запорожского войска) состояла из четырех лиц: кошевого атамана – главы и официального представителя войска; войскового судьи, ведавшего всеми гражданскими и уголовными делами, войсковым скарбом и "арматою" (артиллерией) и командовавшего в Сечи в отсутствие кошевого; войскового писаря – генерального секретаря и войскового есаула – обер-полицеймейстера войска.
Несмотря на поздний час, канцелярия оказалась все-таки в полном сборе. Начальник ее, пан писарь Мандрыка, невысокого роста, худенький человек, с быстрыми, острыми глазами, заложив руки за спину, ходил взад и вперед между столами и диктовал что-то, – должно быть, какой-нибудь общий по войску приказ; а подначальная ему писарская команда взапуски скрипела перьями. Увидев входящих, он остановился посреди комнаты, на ходу оглядел их вопросительно, не отнимая рук от спины. Когда же тут он узнал от Курбского, что имеет перед собой уполномоченного московского царевича, то, в сознании, видно, своей власти, не подверженной случайностям выборов, с вежливым поклоном, но без всякого раболепства, попросил его садиться, а затем тотчас приступил к делу:
– У твоей милости есть и цидула к войску запорожскому.
– Есть универсал за царскою печатью, – отвечал Курбский и, выпоров кинжалом из подкладки своей собольей шапки зашитый там документ, подал его начальнику войсковой канцелярии.
Тот внимательно перечел документ дважды. Осмотрел печать и промолвил:
– Печать-то царская, но приложивший оную подписался в универсале не царем, а царевичем.
Курбский покраснел за своего царевича.
– Да будь он уже царем, так и не беспокоил бы теперь войска!
– Та-а-ак, – протянул писарь, складывая документ. – Ну. Дай ему Бог. – А то универсал в порядке. О царевиче Димитрие Ивановиче мы уже наслышаны от старосты истерского Михаилы Ратомского.
– Но посланец его не был выслушан?
– Нет: о ту пору кошевой атаман наш тяжко занемог. Твоей же милости более посчастливилось: на завтра назначены новые выборы войскового старшины.
– Но, может статься, их теперь даже и не потребуется.
– Это почему?
– А потому, вишь, – не утерпел тут вмешаться Данило, – что мы вот доставили сюда пану атаману любимого сыночка: как увидит, так, может, опомнится опять, оправится.
Мандрыка оглядел говорящего свысока через плечо и сухо заметил:
– Тебя-то, забубённая голова, отколе принесло?
– А я при князе... Да и сам по себе тоже хотел к вам опять гостем побывать.
– Гость гостю рознь: иного хоть брось, – процедил сквозь зубы пан писарь и перевел глаза на Гришука. – Так ты, стало, родной сын его вельможности пана атамана?
Гришук не выдержал его пронизывающего взора и, смутившись, пролепетал только:
– Родной...
– Знамо, родной! – подтвердил Данило. – Сам я панича на руках качал.
Гришук вскинул удивленный взгляд на зарапортовавшегося в своем усердии защитника. Взгляд этот не ускользнул от писаря.
– Ты, значит, и в дядьках у панича состоял? – спросил он.
– В дядьках, само собой...
– И чего ты путаешь, Данило? Для чего все это? – заметил Курбский. – Старика-дядьку его, изволишь видеть, мы дорогой утеряли, – обратился он к писарю и в немногих словах рассказал о первой встрече своей с Гришуком в Самарской пустыни и о том, что после того было.
– Твоей милости я верю, – сказал Мандрыка, на которого, как и на всякого другого, прямодушие молодого князя произвело неотразимое действие. – Но вот этому гусю лапчатому я вот столечко веры не дам!
Данило обиженно ударил себя кулаком в грудь.
– Да что я не запорожец, что ли, чтобы мне вовсе не верить! Не всякое же лыко в строку...
– То-то вот, что ты лыком шит. Ложь – на тараканьих ножках: того гляди, обломятся. А теперь, делать нечего, пойду спрошу пана атамана: угодно ли ему еще видеть сынка.
С этими словами Мандрыка повернулся к выходу. Гришук с умоляющим видом загородил ему дорогу.
– Чего тебе?
– Возьми меня с собой!
– Да, может, батька твой тебя и не признает.
– Признает, признает! Пусти меня к нему только одного...
– Поспеешь.
И пане писарь уже вышел вон.
– Владычица многомилостивая! – прошептал мальчик, у которого из побледневшего лица исчезла последняя кровинка.
Курбский сказал ему несколько одобрительных слов, но он, точно в оцепенении, не сводил глаз с двери.
И вот дверь опять растворилась. Еще с порога начальник канцелярии кликнул одного из своей команды, чтобы сбегал за пушкарем; затем схватил Гришука за ухо, да так больно, что бедняжка запищал.
– Да что он сделал, – спросил Курбский.
– Что сделал? – повторил Мандрыка, отталкивая от себя мальчика с такой силой, что тот чуть не свалился с ног. – Назвался, вишь, сыном Самойлы Кошки, а у того вовек и сына-то небывало!
– Он много лет меня не видел, и болезнь ему память отшибла, – продолжал стоять на своем Гришук, взглядывая при этом на Курбского полными слез глазами. – А что он мне родной батька, клянусь вот перед ликом Христа Спасителя и всех Святых! – прибавил он, осеняясь крестом перед освещенными лампадами киотом в переднем углу.
– И я клянусь тоже! – сказал Данило с таким же крестным поклоном.
Теперь у Курбского не осталось уже сомнения, что они оба лгали: Самойло Кошка был, действительно, отцом Гришука, но он-то сам, Гришук, был отцу не сыном, а дочкой! Да как об этом заявить? Сами они молчат, а тут их жизнь на волоске.
Искушенный в житейских лукавствах войсковой писарь со своей стороны не придал, казалось, торжественной клятве обоих особенной веры.
– По совести ли дали вы вашу клятву, али нет, – сказал он, – об этом судить не мне: новый старшина разберется с вами. А дотоле, други милые, посидите в войсковой яме... Где ж это пушкарь-то?
– Здесь, пане писарь! – отозвался входящий в это самое время запыхавшийся пушкарь.
– Где это ты, братику, опять застрял? В шинке, верно?
– Виноват, пане...
– То-то "виноват!" Убери-ка вот к себе в пушкарню этих двух молодцов. (Пан писарь указал на Данилу и Гришука). Да смотри: ты головой ответишь, коли они у тебя убегут.
– Не убегут, ваша милость: к пушке прикую.
– Михайло Андреевич! Радетель! Будь нам заступником... – взмолился к Курбскому Данило, когда пушкарь на всякий случай связал ему веревкой руки.
Гришук не промолвил уже ни слова, с безнадежной покорностью протянул также пушкарю свои руки, и, только выходя из дверей, еще раз оглянулся на молодого князя, но так, что у того сердце в груди перевернулось.
– Но их в пушкарне истязать же не станут? – спросил Курбский пана писаря.
– Поколе нет, хоша маленько вреда бы и не было. А как выйдет декрет о законном истязании – так прошу не прогневаться! За ложную клятву по головке у нас не гладят.
– Но к чему их могут осудить?
Мандрыка пожал плечами, и губы его искривились недоброй усмешкой.
– Кому на колу торчать, того не пожалуют двумя столбами с перекладиной! – отвечал он, очень довольный, по-видимому, своим острословием; но тотчас, приняв опять серьезную мину, переменил разговор. – Твоя княжеская милость тоже, я чай, с долгого пути притомился? Для знатных гостей у нас здесь, при кошевом курене, есть особое панское жилье. Пожалуй-ка за мною.
Глава шестнадцатая
ПРОГУЛКА ПО СЕЧИ
Проведя "знатного" гостя в "панское" жилье, пан писарь озаботился, чтобы ему подали туда и ужин; после чего пожелал ему доброй ночи и удалился, оставив ему для послуги одного из своих молодиков, Савку Коваля (молодиками назывались в Сечи молоденькие казаки, записанные, в качестве служителей, к какому-либо куреню, чтобы приготовиться к казачьему званию).
От разговорчивого молодика Курбский услышал, что поутру до рады будет еще торжественная служба в войсковой церкви.
– Прикажешь разбудить тебя к самой службе? – спросил Коваль.
– Пораньше, пожалуйста, если б я сам не проснулся. Занятно было бы мне перед тем еще и Сечь вашу осмотреть.
– И крамный базар тоже?
– А это что такое?
– Да это, вишь, "крамницы" (лавки) с "крамом" (товаром). У всякого куреня там своя крамница для собственного обихода.
– А вольных торговых лавок у вас разве нет?
– Как не быть: есть у нас там и приезжие гости (купцы) и жиды-шинкари, есть пришлый народ всякого ремесла и мастерства; там же состоят при них и базарные атаманы, и войсковой контаржей, что хранит меры и весы. Больше твоей милости нынче ничего не потребуется?
– Ничего. Спасибо, голубчик. Можешь идти.
Давно ушел молодик, а Курбский все не мог заснуть, все ворочался на постели: неопределенная участь, ожидавшая Данилу и Гришука (или как там его зовут, если он, в самом деле, дивчина), не давала ему покою.
"Поутру первым делом загляну к ним в пушкарню, спрошу напрямик: что можно для них сделать?" На этом решении Курбский наконец заснул.
Проснулся он от того, что кто-то сильно тормошил его за плечо. Он открыл глаза и увидел перед собой Савку Коваля.
– Твоя милость хотел еще до церковной службы оглядеться в Сечи и на крамном базаре...
– Да, да! – опомнился разом Курбский, и быстро приподнялся.
Четверть часа спустя, они вместе выходили из дверей.
Во внутреннем коше, как уже упомянуто, находилась, кроме кошевого куреня с пристройками, еще и соборная сечевая церковь. Около колокольни молодой вожатый обратил внимание Курбского на высокий столб с железными кольцами.
– Знаешь ты, княже, что это за столб?
– Это – коновязь, – отвечал Курбский. Молодик рассмеялся, но тотчас сделался тем серьезнее.
– Не коней тут привязывают, а воров и убийц.
– Так это позорный столб!
– Позорный столб, да... Не дай Бог кому стоять у него! – понижая голос, продолжал Коваль. – Привяжут тебя, раба Божьего, прочтут решение при всем товаристве, накормят, напоят: "ешь, пей, не хочу", а там всякий казак подойдет, выпьет тоже чашку горилки, а либо меду, возьмет кий, да как хватит тебя со всего маху: "Вот тебе, вражий сын, чтобы вперед не крал, не убивал!"
"А что, как и Данилу, и Гришука ожидает то же?" – подумал Курбский, и при одной мысли об этом у него мурашки по спине пробежали.
– Где у вас тут пушкарня? – спросил он.
– А сейчас тут, на сечевой площади.
Они вышли из внутреннего коша на сечевую площадь, которая, особого дня ради, была вся усыпана песком. Курени, числом 38, были расположены на площади широким кругом. Это были огромные избы, совершенно одинакового вида. Позади каждого куреня стояли принадлежавшие к ним скарбницы (амбары для "скарба" казаков), а также небольшие жилья для тех членов куреня, которые прибыли из зимовников только на раду и для которых не оказывалось мест в самом курене. Далее же во все стороны виднелся высокий вал, отовсюду замыкавший Сечь.
– А вот и пушкарня, – указал Коваль на стоявшее в ряду куреней каменное здание с решетчатыми окнами.
Курбский направился прямо к пушкарне. У входа на голой земле преудобно расселся вооруженный запорожец, поджав под себя по-турецки ноги и попыхивая люльку. На приветствие Курбского с добрым утром, запорожец оглядел его представительную особу не без некоторого любопытства снизу вверх, потом сверху вниз, но не тронулся с места, не вынул даже изо рта люльки, а кивнул только головой.
– Ты что же тут, любезный, стережешь, видно? – продолжал Курбский.
– Эге, – был утвердительный ответ.
– Вечор вот сдали сюда двух моих людей. Мне бы их повидать.
– Без пана писаря не токмо я, а и сам пушкарь тебя к ним не впустит.
Этого-то и опасался Курбский. Обратиться к самому Мандрыке значило – возбудить в нем новые подозрения.
– Кликнуть тебе пушкаря, что ль? – нехотя предложил запорожец, которому, видимо, очень уж трудно было расстаться со своим насиженным местом.
– Не нужно, сиди, – сказал Курбский. – А что, каково им там.
– Спроси волка: каково ему на цепи? Данилка и то, как волк, зубами лязгает.
– А хлопчик?
– Хлопчик крушит себя, слезами заливается, не ест, не пьет.
– Но кормить их все же не забыли?
– Зачем забыть: хлеба и воды нам не жаль. А дойдет дело до киев, так не так еще накормим! На весь век насытим! – усмехнулся запорожец.
– Ну, что же, княже, – спросил Коваль, – пойдем дальше?
– Пойдем, – сказал Курбский, подавляя вздох: волей-неволей ведь приходилось бездействовать!
Из открытых окон куреней доносился к ним оживленный говор обитателей. Проходя мимо, Курбский заглядывал в окна, а молоденький вожатый на словах пояснял то, чего на ходу нельзя было разглядеть.
Так узнал Курбский, что каждый курень состоит из двух равных половин: сеней и жилья. Середину сеней занимала "кабыця" (очаг) длиною до двух сажен. Над кабыцей с потолочной перекладины висели, на железных цепях, громадные "казаны" (котлы) для варки пищи. Хозяйничавшие здесь кухари были из тех же казаков, но звание их почиталось несколько выше звания простого казака, – отчасти также и потому, что кухарь был в тоже время и куренным казначеем.