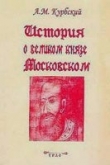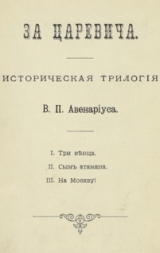
Текст книги "Сын атамана"
Автор книги: Василий Авенариус
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
– Может, ты и прав... По всему, что слышно, именующий себя царевичем Димитрием ведет себя как подлинный сын царский...
– Да он и есть сын царский! – воскликнул Курбский. – Я сколько вот времени был при нем, слышал, почитай, каждое его слово: он всегда тот же...
– Тебе, сыне мой, виднее, – глубоко вздохнул отец Серапион. – Как бы то ни было, тот, кто сидит ныне на престоле московском, как сказывают, покушался на жизнь царевича Димитрия, и спасся от его убийц царевич или нет, а Годунову на престоле уже не место. Чинить помеху тебе я не стану. Твори волю пославшего тебя, как велит тебе Бог и твоя собственная совесть!
– Спасибо, отче, великое спасибо! И в коне мне ты теперь не откажешь?
– Конь-то у нас для тебя вряд ли подходящий найдется... Но скажи-ка: бывал ли ты уже когда на Запорожье?
– Не довелось.
– И наших порогов днепровских, стало, еще не видел? Надо бы тебе их посмотреть! И был бы у меня для тебя добрый попутчик. Одолжил бы ты меня немало...
– Да я, отче, все рад для тебя сделать. Кто этот попутчик?
– Отрок один... Поутру ужо вас ознакомлю. Закалякались мы с тобой; очи у тебя, соколик, вишь, сами собой слипаются! – со снисходительной отеческой усмешкой прибавил настоятель, вставая. – Ложись-ка сейчас, и да ниспошлет тебе Господь под нашей мирной кровлей мирных сновидений!
Глава пятая
ПОПУТЧИК
Проснулся Курбский поздним утром от стука растворяемой двери. Перед ним стоял его стремянной, Данило Дударь. Юноша быстро приподнялся с ложа и оглянулся на решетчатое оконце: сквозь его слюдяные стекла высоко стоящее солнце рисовало на белом некрашеном полу толстые полосы решеток и мелкий свинцовый переплет.
– Да я никак проспал заутреню?
– Эвона! – рассмеялся в ответ запорожец. – Сейчас, того гляди, к обедне затрезвонят.
– Так как же ты, Данило, не разбудил меня?
– Отец-настоятель не приказывал: пускай-де выспится – долгий путь впереди.
– А что бедный Вихрь мой?
– Да что, ваша милость: ногу ему еще пуще вздуло. Показал я его здешнему лекарю – тот только головой помотал: "Быть ему, мол, весь век хромым". Ну да святые отцы его тут упокоят. А вот не разберу я, что у отца Серапиона на уме? Выходя от заутрени, поманил меня пальцем, стал пытать: езжал ли я когда вниз днепровскими порогами? "Не токмо езжал, – говорю, – а несчетно раз своеручно душегубку скрозь Пекло проводил". – "Добре", – говорит, кивнул и оставил меня стоять. Порогами вниз, что ли пустить нас хочет?
– Верно, что так. И мне вечор про то намекал: о каком-то попутчике-отроке говорил.
– Овва! Третью неделю уже, слышь, врачуется во здешнем шпитале сынок Самойлы Кошки.
– Как! Кошевого атамана запорожского про которого ты мне рассказывал?
– Эге. К отцу в Сечь со стариком-дядькой собрался, да дорогой беда с ним приключилась: упал с коня да плечо себе повредил. Верхом-то ехать ему теперича, знать, и неспособно.
Когда Курбский, умывшись и одевшись, в сопровождении Данилы, вышел из своей кельи в полутемный крытый переход и повернул в сторону переднего крыльца, оттуда донесся вдруг такой хватающий за душу болезненный вопль, что молодой князь вздрогнул и невольно остановился.
– Что это такое? – спросил он.
– А кликуша, – ответил запорожец. – Отец Сера-пион до обедни, вишь, с богомольцами беседу ведет, всякому в утешение доброе слово скажет; ну, и бесов изгоняет.
Пронзительный вопль повторился.
– Иди один, Данило... Я покамест туда не пойду, – сказал Курбский и, взяв в противоположную сторону, рядом переходов выбрался на открытый воздух, как оказалось в монастырский огород.
Среди груш и яблонь тянулись гряды с разными овощами, пышными подсолнечниками и пунцовым маком; воздух кругом был напоен духом трав, гудел пчелиным жужжаньем. А вот под деревьями показался мальчик лет тринадцати с подвязанной правой рукой, судя по наряду, – из зажиточных казаков, и с ним старичок-служитель.
"Сынок Самойлы Кошки!" – сообразил Курбский и пошел им навстречу.
Теперь его заметили, и миловидное, почти женственное, смуглое лицо мальчика залило румянцем. Но, словно устыдясь своего смущения, он окинул Курбского гордым, чуть не враждебным взглядом.
Курбский улыбнулся и, пожелав обоим доброго утра, обратился к дядьке с вопросом скоро ли обедня.
– Да вот отцу-настоятелю только бы кликушу утихомирить, – отозвался старик, внимательно оглядывая также молодого князя с головы до ног. – Как накрыл епитрахилью, – тотчас перестала биться. Я нарочно увел оттоль Гришука... то бишь, Григория Самойловича, потому кликушество, как злая зараза, особливо к слабосильным прилипчиво; а паныч мой не совсем еще оправился от болезни.
– Какая ж то болезнь, Яким! – счел нужным оправдаться в глазах Курбского Гришук, снова краснея, – плечо свихнул маленько...
– Не свихнул, паничку, а ключицу переломил! – с горячностью прервал его Яким и, очень довольный, казалось, найти нового слушателя для своей не раз уже, конечно, повторенной истории о постигшем его панича злоключении, продолжал, – едем, это, мы лесочком, ничего не чая. Меня, старика, от зноя, знать, и распарило, укачало; сижу себе в седле, носом рыбу ловлю. Вдруг панич мой:
"Глянь-ка, Яким, что за чудо? Не клад ли какой?"
Гляжу: в прогалинке, середь травы да цветов, лежит словно бы большущее железное колесо, на солнце как жар горит. Крий, Мати Божа! То змий лютый, желтобрюхий, колесом свернулся, на солнышке греется; а он, младенец несмышленый, за золото червонное его принял!
"Назад, паничу! То желтобрюх!"
И, куда! Упирается конь у него, фыркает, а он его еще нагайкой. Конь на дыбы да копытом хвать в середку колеса! Развернулся змей, зашипел, коню ноги обвил. Ну, конь, как ошалелый, в бок, и молодчик мой из седла. Первым делом я, знамо, к коню, чтобы от змея вызволить, голову чудищу одним махом отсек. Ан птенчик мой, глядь, в траве лежит недвижен, бездыханен...
[]
– Головой о корень древесный ударился... – застенчиво пояснил со своей стороны панич.
– И головушкой, и плечиком.
По алым губам мальчика пробежала плутоватая улыбка.
– Только голова покрепче плеча оказалась, – сказал он, – уцелела!
– Шути, шути! – укорил дядька. – И висок-то себе до крови раскроил, а плечо и совсем, поди, попортилось.
– Как спросят в Сечи, так могу хоть рассказать, что вместе с тобой в бою побывали! – не унимался Гришук, указывая на правую руку дядьки.
Что Яким побывал в бою, свидетельствовал глубокий шрам, пересекавший ему лоб и бровь; на изъян же в правой руке его Курбский обратил внимание только теперь; из рукава старика торчал обрубок кисти руки без пальцев.
– Но как ты, любезный, саблей владеешь? – спросил Курбский. – Аль левой рукой?
– Левой, – словно нехотя ответил дядька, пряча свою поврежденную руку, и перевел речь снова на своего питомца. – Благо, хошь не так далеко было до обители. Благодарение Богу да отцу лекарю, плечико у него теперь заживает, а все ж на коне до Сечи ехать поопасился: растрясет. Ехать же надоть бы, ни дня не измешкав.
– Родитель твой там, слышно, крепко занемог? – участливо отнесся Курбский к молоденькому сыну атамана. – С чего это с ним приключилось?
Веселое только что лицо Гришука разом опечалилось, и на длинных ресницах его блеснули слезы. Он хотел ответить; но углы рта у него задергало, и он закусил нижнюю губу, чтобы не расплакаться.
– Светик ты мой, соколик мой, ну, полно, полно! Не малыш ведь, слава Богу! – ласково забрюзжал на него дядька, а затем ответил за него на вопросы Курбского. – Да изволишь видеть... Который год уж батька его ушел от семейки своей в Сечь – не потому, чтобы... нет, жили они с жинкой ладно и совестно, – да старого казака все, знаешь, в Сечь тянет, что волка в лес. Ну, а на поход противу турчины, как потонул старшой Скалозуб, другого, окромя пана Самойлы, на место его не нашлось...
– И должен был он отречься от семьи родной, чтобы попасть во в старшие?
– Да как же ему было отказаться, коли его выбрали? – вступился тут за своего батьку Гришук. – Откажись он, так погубил бы с собой, может, все войско...
– Но сердца в груди не замолчишь! – подхватил старик дядька. – Пали до пана Самойлы слухи, что жинка у него скончалася, а была она у него добрая, смиренная, по хозяйству заботливая; и затужил он, затосковал так, что на поди! заговариваться начал. Как сведали мы о том в Белгороде, так и собрались вот с паничем в Сечь проведать родителя: из четверых птенцов единственный ведь остался! Увидав сынка, как знать, может, в себя опять придет, утешится.
– Дело доброе, святое дело, – сказал Курбский. – Я сам тоже в Сечь путь держу. Упредил меня вечор настоятель, что есть мне юный попутчик...
– Так, так! – с живостью поддакнул Яким. – Ведь ты, прости, князь Курбский?
– Курбский.
– Сказывал он нонече и нам про тебя. С тобой он нас охотно порогами пускает. Яви такую милость, чтобы птенчику моему, грешным делом, какого дурна не учинилось. Вот и к обедне заблаговестили, – прервал сам себя старик. – Отстоишь с нами тоже?
Глава шестая
ЗА ОБЕДНЕЙ И ЗА ТРАПЕЗОЙ
Деревянный, не особенно обширный храм, несмотря на будничный день, был наполнен прихожими богомольцами. Служил обедню сам игумен, отец Серапион. Если он своей замечательной личностью и в обыденной жизни производил уже на всякого сильное впечатление, то здесь, окруженный всею монастырской братией, среди церковного благолепия, перед высоким, раззолоченным иконостасом, при мерцании сотен восковых свечей и лампад, в клубящихся облаках голубого дыма кадильниц, он являлся центром общего благочестивого настроения, как бы исходившего от него и невидимыми волнами разливавшегося на всех присутствующих, в том числе и на Курбского. С давно не испытанным умилением слушал он и стройный хор певчих на клиросе, и чтение святого Евангелия голосистым протодьяконом; особенно же тронула его за душу проповедь самого настоятеля, сказавшего плавно и пышно напутственное слово "в пути сущим", разумея, очевидно, и его, Курбского, с его будущим малолетним попутчиком.
– Глянь-ка, Михайло Андреевич, направо, вон в угол, – расслышал он тут за спиной своей шепот Данилы, – вздулись ведь оба, что тесто на опаре!
Он повернул голову по указанному направлению и увидел двух коленопреклоненных: один был пожилой мужчина необычайной толщины, с испитым лицом, в монашеской рясе, другой – совсем еще юноша, но с такими же одутловатыми щеками и заплывшими глазами, в запорожской свитке. Первый неустанно и равномерно клал поклон за поклоном, тогда как второй, точно в столбняке, с тупой неподвижностью мрачно уставился в каменный пол перед собой.
– Монах-от – здешний чашник, – пояснил запорожец, – за непомерное "чревоугодие и вкушение пьянственного пития" епитимию отбывает, а молодчик – родным батькой своим из Сечи на отрезвление прислан.
Когда отошла обедня, и отец-настоятель вышел из алтаря, вся толпа богомольцев хлынула ему навстречу – принять благословение. Но он опять сделал молчаливый знак рукой и направился к двум покаянникам в правом притворе. Курбский вместе с народом двинулся туда же.
– Ну, что, сыне мой? – спросил отец Серапион чашника строго, но не возвышая голоса. – Скорбишь ли?
– Скорблю и стенаю... – был глухой ответ. – И вспомнить страшно, сколь был бесстыж и невоздержан!
– А впредь остережешься?
– Остерегусь, святый отче!
– Клянешься в том?
– Клянусь Господом моим...
– Сам Сын Божий рече: "Радость бывает на небеси о едином грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведных, не требующих покаяния". Редкого гостя ради слагаю с тебя ныне же вину твою. Иди и не греши.
Чашник со слезами благодарности припал к руке своего духовного начальника.
– А меня что же? – вызывающе прохрипел стоявший еще рядом на коленях юный сын Запорожья.
– Рано! – коротко отрезал игумен, окидывая его из своего единственного глаза палящим взглядом, и круто отвернулся.
– Чернецы окаянные! – злобно пробормотал тот ему вслед, не смея, однако, подняться с полу.
К счастью дерзновенного, отец Серапион его уже не слышал. Богомольцы, тесня друг перед другом, ловили на ходу благословляющую руку отца-настоятеля, целовали край его одежды. Направляясь к выходным дверям, он звучным басом затянул канон. Примкнувшие к нему монахи разом подхватили торжественную песнь и вереницей попарно потянулись за своим главою на церковную паперть, а оттуда, с тем же пением, мостками, переложенными через весь двор, к обительской трапезе.
Курбский, сторонясь толкотни, несколько поотстал. Тут около него очутился молоденький белец и попросил его от имени отца-настоятеля следовать за ним.
– И ты, добродию, пожалуй тоже, – проронил белец кому-то позади Курбского.
Оказалось, что слова эти относились к Гришуку Кошке, который, точно боясь уже потерять своего покровителя-попутчика, увязался за ним, как дитя за нянькой.
Боковой дверкой они следом за бельцом прошли в красный угол келарни. Около незанятого еще сидения настоятеля стояла кандия (медная чаша, заменяющая колокол в келарне) и возвышался аналой с Евангелием, а на стене над аналоем ярко горела золотыми окладами икон освещенная божница.
Вошедший тут главным входом с остальной братией отец Серапион, увидев своих двух молодых гостей, пригласил их молчаливым жестом занять почетные места по правую и по левую руку от себя и вполголоса ласково промолвил:
– Ознакомились?
После чего, оборотясь к инокам и сложив персты, погрузился в мысленную молитву. Примеру его последовали и старцы-монахи, и юнцы-послушники, и пришлые миряне, занявшие кругом места за расставленными вдоль келарни тремя рядами деревянных столов с переметными скамьями. Минуты две протекли так, среди общего богомыслия, среди мертвой тишины.
Но вот отец игумен осенился крестом и ударил в кандию. Как по мановению волшебного жезла, трапеза мгновенно ожила: все разместились по своим местам, служки бросились со всех ног в "стряпущую" за "яствой", а с аналоя зазвучал нараспев протяжно-дробно и бесстрастно тенор очередного начетчика, читавшего из Четьи-Миней в назидание трапезующих житие Алексея, Человека Божия.
Никогда еще не случалось Курбскому столовать среди монастырской братии, и потому глаза его невольно разбегались по сторонам. Перед каждым столующим заранее было положено по здоровому ломтю хлеба и по деревянной ложке; через несколько человек были расставлены большие ендовы-купели с квасом и плавающим на поверхности ковшом, которым каждый желающий мог черпать себе прохладительный напиток.
Тут из стряпущей показались снова служки, нагруженные дымящимися мисками. Бесшумно, но расторопно разносили и расставляли они по столам миски. Келарь и только что прощенный чашник также неслышно шныряли взад и вперед между столами, наблюдая, чтобы никто не остался обойденным пищей и питием. А так как питие всех присутствующих, за исключением Курбского и Гришука, заключалось в одном квасе, и вмещавшие его объемистые сосуды не были еще опорожнены, то чашник, желая угодить смилостивившемуся над ним начальнику, то и дело вертелся около и поставил перед ним и его молодыми гостями целую дюжину больших и малых ендов и глечиков. Раз позволил он себе сам шепотом предложить Курбскому испробовать наливок своего изделия: по-ляниковой и вишневой; но Курбский, помня еще снотворное действие, крепкой монастырской варенухи, с благодарностью отказался.
– Так отведай хошь, сделай такую милость, игристого имбирного меда! – не отставал любезный "питий мастер" и налил, как Курбскому, так кстати и Гришуку по полной чаре.
Пришлось Курбскому отведать игристого напитка, который, в самом деле, оказался преотменным. Гришук только пригубил чару, а затем запивал еду одним малиновым квасом.
Не могли они, впрочем, пожаловаться и на невнимание келаря: монашествующей братии, в том числе и самому отцу-настоятелю, подавались, постного дня ради, одни простые растительные блюда, пришлым богомольцам – после рассольника – щука да кисель; перед молодым князем и сынком кошевого атамана сменялись на блестящих оловянных тарелках одна другою снеди хоть и не мясные, но рыбные, преотборные и прелакомые, как-то: кулебяка, уха стерляжья, лещ жареный, начиненный гречневой кашей и грибами, оладьи с сотовым медом; для заключения же трапезы отварные в меду грецкие орехи, яблоки и разное сухоядение: медовые пряники, винные ягоды, волошские и миндальные орехи.
Столованье шло благоговейно и чинно. Разговаривать во время трапезы было строго воспрещено, и лишь только кто-либо из мирян начинал покашливать и шептаться с соседями, сидевшие тут же монахи призывали его к порядку. Отовсюду доносилось только чавканье и причмокиванье сотни ртов, и тем явственнее звучал от одного конца обширной келарни до другого однообразно-заунывный тенор начетчика, покрываемый по временам лишь звонким гулом кандии, когда настоятель подавал знак служкам к новой перемене.
Само собой разумеется, что Курбский остерегался нарушить общее молчание хотя бы одним словом; но, посматривая кругом, он не раз улавливал прикованный к нему взор Гришука, который всякий раз, как пойманный врасплох, краснел и потуплялся. Смущение мальчика забавляло Курбского, но, вместе с тем, все более и более располагало в его пользу: как железо тянется к магниту, так и магнит к железу.
Но вот начетчик зааминил: настоятель, а за ним разом и все присутствующие поднялись со своих мест и, повернулись к божнице, Богу кресты положили.
– Ступай-ка за мной, – проронил отец Серапион Курбскому и, предшествуя, двинулся из келарни, величаво наклоняя свою львиную голову направо и налево в ответ братии и мирянам, которые провожали его глубоким поклоном, касаясь перстами пола.
Глава седьмая
КТО БЫЛ ДЯДЬКА ГРИШУКА
– Так ты, сыне, не одумался? – начал отец Серапион, когда они с молодым господином остались одни. – Знаю, знаю! – прервал он, когда тот стал было объяснять опять неотложность своей миссии. – Отговаривать тебя, вижу, было бы втуне. А снабден ли ты королевским универсалом?
– Королевским – нет, – ответил Курбский, – но имею грамоту от царевича.
– Гм... Лучше бы от самого короля Сигизмунда. Ну, да делать нечего; и так, чаю, признают тебя в Сечи. А где она у тебя спрятана, грамота-то?
– В шапку зашита.
– Правильно. Мало ль что дорогой может приключиться! А в шапке искать никому невдомек! И с попутчиком уже столковался?
– Давеча договорились с ним и его прислужником.
– С прислужником... ох, уж этот мне прислужник!
– А что, отче, разве он ненадежен? Настоятель немного помолчал, видимо, колеблясь, посвящать ли молодого гостя в свои сомнения; потом, решившись, заговорил:
– И власы на главах наших изочтены суть! Но береженого и Бог бережет. Скажи-ка: разглядел ли ты его хорошенько?
– Якима? Как же! У него еще совсем особые приметы: на лбу шрам, а правая рука изувечена: пальцы обрублены.
– И он ее не прятал!
– И то ведь, будто прятал!
– А ведомо ли тебе, отчего?
– Отчего, отче? Не в честном бою, что ли, срубили ему пальцы, и совесть берет?
– Догадлив ты, сыне! Каков ни есть человек, а совести не заглушить. Изволишь видеть: тому лет двадцать, коли не боле, стали у нас тут по Днепру гайдамаки пошаливать, разграбили не один зимовник, угнали целый табун войсковой. Ну, и поднялось тут на них все товариство запорожское, перехватало всю молодецкую шайку, да и расправилось по-свойски... Но одного молодца все же проглядели. Случись тут нашему вратарю занемочь, а был я в те поры еще простым иноком, и выпала мне очередь заступить болеющего. Ночь же выдалась осенняя, бурная: ветер так и воет, дождь – как из ведра. Сижу я в своей сторожке, как вдруг – чу! словно в било бьют? Только слабо таково, еле слышно. Али ветром било качнуло? Пойти, посмотреть! Засветил фонарь, запахнулся рясой, пошел.
"Эй, кто там?"
Из-за врат же в ответ мне только стон тяжкий. Посветил фонарем, глядь, – человек распростертый да весь кровью обагренный. Сила с нами крестная!
"Кто такой? – вопрошаю, – да отколь?" А его дождем так и хлещет, от дождя да ветра насквозь продрог: зуб на зуб не попадает.
"Смилуйся! – лепечет, – смерть моя пришла..." "Да что, – говорю, – с тобой?"
"Гонятся за мной... как собаку убьют..." – молвил и очи завел, обеспамятовал.
Коли гонятся за ним, убить хотят, – стало, недаром: преступник! Но несть человека без греха, токмо один Бог. Сам Христос поучал нас: "Аще кто отвержется Мене пред человеки, отвержуся и Аз пред Отцом Моим Небесным". А был я в те поры еще на двадцать лет моложе, был зело мягкосерден и – пожалел горемыку! Поднял с земли, но куда с ним? Отцу лекарю сдать, вся братия проведает...
Настоятель глубоко перевел дух.
– И ты отнес его к себе в келью? – досказал Курбский.
– Отнес, да; обмыл ему раны, перевязал тряпицами (благо в шпитале обучился); а там пошел прямо к отцу игумену, разбудил и в ноги повалился:
"Так и так, мол, отче, каюсь: призрел, кажись, татя-душегуба, на душу грех взял".
Осерчал на меня немало игумен, за неблаговременное сердоболие епитимию наложил, а сам все же не отвергся бедняги; воспретил мне кому-либо в обители о содеянном сказывать, велел безмешкотно по всем переходам, где проносил я своего гайдамака, следы крови смыть с полу, да ходить за страждущим у себя в келье, как за родным братом. Выходил я его ровно через шесть недель, а там взял с него игумен клятву смертную – гайдамачество навеки бросить, и выпустили мы раба Божья глухою же ночью тихомолком за врата монастырские на все четыре стороны. С тех пор о нем ни слуху, ни духу не было с лишком двадцать лет. "Не ушел, думаю, – от плахи, алибо от петли!" Вдруг, недели три тому, пожаловал он к нам с сынком Самойлы Кошки. Не сонное ли то видение? Да шрам и срубленные пальцы выдали молодца, хоть уж и не молодец он, а согбенный старец.
– Так вот кто этот Яким! – воскликнул Курбский. – А он тебе, отче, разве не сказался?
– Спервоначалу нет. Но как стал я его выпытывать с глазу на глаз, как, мол, попал он в дядьки к своему паничу, поведал он мне все начистоту. Напросился он-де слугою в дом к ним в Белгороде еще тогда, когда панича его и на свете не было. Опосля же на своих руках мальчугу вынянчил, как родное детище досель холит и любит. Рад бы я ему веру дать, да чужая душа потемки; бирюка как не корми, а он все в лес глядит. Так будь же ты, сыне милый, щитом малому Григорию. Обещаешь ли всемерно и ежечасно пещись о нем?
– Обещаюсь, отче.
– Храни же вас обоих Господь и Его чудотворцы! Скорбно мне пускать и тебя, и его, скорбно тем паче, что намедни к нам сюда слухи дошли, будто бы на Низу около Пекла каменники опять проявились. Мало ли что праздные языки болтают! А все же надо опаску держать. Ну, а теперь снаряжайся, коли засветло вам еще в Сечи быть. Донеси вас Бог, Никола в путь!
Глава восьмая
ПО ДНЕПРОВСКИМ ПОРОГАМ
– Ну, вот и Днепр; а где же, Данило, твои хваленные пороги, где?
Так говорил шаловливо Гришук, подсаживаясь в лодке-дубе к запорожцу, усевшемуся уже у руля. Окружающая водяная поверхность по всей своей шири, в самом деле, едва колыхалась, отражая, как в зеркале, и зеленые берега, и голубое небо с молочно-белыми облаками.
– Ишь, загорелось! – добродушно усмехнулся в ответ Данило. – От самого Киева до сих мест – до земель запорожских, батюшка Днепр наш течет плавно, чинно; а как хлебнет тут хмельной браги – Самары запорожской, так старая кровь, поди, заиграет в жилах; почнет он метаться из стороны в сторону как шальной, запрыгает по лавам, забурлит, зарычит, что бешенный зверь, – держись только.
– А что такое "лавы", Данило?
– Лавы-то?.. А это, вишь, милый мой, поперек реки такие уступы скалистые, гряды каменные от гор, что тянутся к нам издалеча – из Галичины. Как их, бишь?.. Карпаты, что ли.
– А товарищ твой, братику, куда девался? – спрашивал между тем старик Яким одного из двух гребцов, нанятых до Сечи. – Долго ли нам его дожидаться?
– За хлебушком пошел... Черт старый! – огрызнулся тот на него сквозь зубы, искоса поглядывая в ту сторону, где скрылся его товарищ за береговыми камышами.
В это время, сажен на сто ниже по реке, выплыла из заводи лодочка-каюк с двумя гребцами.
– Что это, рыбаки, видно? – спросил Курбский, поместившийся на боковой скамейке насупротив Якима.
Гребец сделал вид, что не слышит.
– Что глухаря корчишь? – заметил ему Яким. – Тебя, чай, его милость спрашивает: кто такие будут.
– Кто будут? – нехотя повторил тот. – Знать, рыбаки...
– Рыбаки-то рыбаки, да за какой рыбицей? Не за Двуногой ли? Вон как на весла налегли и назад в камыши, словно бы от кого хоронятся. А, приятелю! наконец-то. Где это ты запропал? – обратился ворчун-дядька к подбежавшему второму гребцу.
Этот не счел даже нужным отвечать. Отпихнув сильным толчком лодку от берега, он вскочил в нее и схватился за весло. Несколько дружных взмахов веслами – и наших пловцов вынесло на середину реки. Гребцы не прилагали почти никаких усилий, а лодку несло быстрым теченьем, как на полных парусах, навстречу какому-то смутному, гулливому шуму.
– Что, сынку, слышишь? – отнесся Данило к Гришуку. – Это первый порог наш – Кодак – голос подает... С версту еще туда ведь, а каково поет-то?
По мере приближения шум все усиливался, перед самым же порогом стал так оглушителен, что своего собственного слова, произнесенного обыкновенным голосом, нельзя было расслышать.
– Держись крепче, паничу, да и ты, княже! – крикнул Данило.
Не спуская глаз с фарватера перед собой, он уверенно правил рулем, а свободной рукой снял с головы шапку и набожно перекрестился. Примеру его последовали все сидевшие в лодке; все разом примолкли, а лица у всех стали необычайно серьезны, как перед чем-то роковым, неизбежным.
Вдруг лодку захватило будто сверхъестественной силой. Среди пенистых брызг и ошеломляющего плеска и гула ее несет неудержимо вниз с уступа на уступ. Бессчетные каменные груды мгновенно то вырастают над волнами, то исчезают под ними и толкают, подбрасывают лодку так, что надо всеми силами держаться за борт, чтобы не быть выброшенным.
Минута – и они уже в плесе под порогом, и плывут по-прежнему мирно, спокойно.
– Ну что, небось, жутко было? – с улыбкой спросил Данило Гришука.
– Как не жутко!.. – должен был признаться мальчик, на побледневших щеках которого снова выступил румянец. – Сердце так и захолонуло... А много их счетом?
– Порогов-то? Девять.
– Девять! Помилуй Бог! И далеко до следующего?
– Верст семь будет: отдышаться поспеешь. И батюшке Днепру тоже надо дух перевести, не все же бесноваться. Да это что – вниз по течению плыть!
– Так разве и вверх плывут?
– Не то что плывут, а тягой идут. Как шли мы это походом в инфляндскую землю, так чайки свои канатами через все пороги вверх тянули, а чайка-то каждая, шутка сказать, человек на пятьдесят-шесть-десят.
Наблюдательный панич, набравшись опять смелости, не отставал с расспросами, и болтливый по природе запорожец охотно удовлетворял его любознательность. Старик Яким же и Курбский, сидевшие посередине лодки друг против друга, оба молчали, погруженные в раздумье.
– Яким и всегда-то больше молчит, – тихонько заметил Гришук Даниле. – Но что с твоим князем, скажи? По родным, что ли, взгрустнулося?
– Есть ли у него еще где родные – сказать тебе не умею. Но что у него есть зазноба сердечная, краля писаная, – это верно. Диво ль, что молодцу по суженой взгрустнется!
Смуглые щеки миловидного мальчика залило огненным румянцем, черные брови его сумрачно сдвинулись.
– Но на руке его нет колечка, – отрывисто пролепетал он, – значит, он с нею еще не сосватан?
– Эх, ты, глупыш, глупыш милесенький! Меняйся кольцами, не меняйся, – от суженой, как от смерти, не отчураешься, не спрячешься.
– Так он бежал от нее? Где она теперь, да из каких? Боярышня тоже московская?
– Ишь ты, прыткий какой вопросами, что горохом, засыпал. Много будешь знать – состаришься.
– Ну, скажи, пожалуй, Данилушка, скажи!
– Спроси его сам: авось, скажет.
– Чтобы я его спросил? Что еще выдумал!
– Да и спрашивать не к чему: что в сердце глубоко от себя самого хоронишь, о том никому не промолвишься, особенно мальчуге, у коего и молоко на губах не обсохло.
Безбородый молокосос обиженно надул губы, но в это время лодку подхватило опять стремительным потоком и втянуло во второй порог, Сурский. Этот падает всего двумя "лавами", поэтому Гришук не успел даже ахнуть, как порог был уже за спиною.
– И вот уж не жутко! – захрабрился он.
– Покуда-то что!.. – пробормотал запорожец с озабоченным видом. – Дал бы Бог только миновать Ненасытец...
– А тот разве очень уж ненасытен?
– И-и! Сколько душ христианских на нем сгибло, – и не перечесть. По всему берегу могила у могилы. Зовут его тоже Дидом, затем, что он всем порогам дед, только дед куда лютый. Как попадешь к нему в Пекло, так пиши пропало: "Попавсь у Пекло, буде тоби и холодно, и тепло".
– И сейчас вот он и будет, этот Ненасытец?
– Нет, теперь пойдут еще два других порога: Лоханский и Звонецкий; а там уж он сам – пятый. Смеяться тогда забудешь!
Мальчику и то было уже не до смеху: их помчало Лоханским порогом. Только когда они с двухаршинной высоты благополучно соскользнули опять на спокойный плес, он перевел дух. Здесь Данило обратил его внимание на две огромные каменные глыбы:
– Вот и камни-Богатыри. Сошлись здесь однажды на смертный бой два богатыря: турка и русский. Да чем даром кровь им лить, порешили меж собой на том, что кто камень через реку перебросит, тому и владеть всей речною округой. Размахнулся турка с левого берега на правый, да неладно: не докинул. Размахнулся русский с правого берега – как раз на левый угодил. Так-то вот с тех пор и лежат те камни-Богатыри: русский на сухом берегу, а турецкий в воде. Только турку и видели!
От Лоханского порога до Звонецкого целых семь верст.
Перед Звонцем подвижная картина бушующей воды оживлялась еще бесчисленными крячками, низко перепархивающими с камня на камень и мелькавшими на солнце своими белыми крылышками. Впечатлительный мальчик забыл уже о Ненасытце и крикнул Курбскому, перекрикивая шум воды:
– Смотри-ка, княже, смотри, сколько крячек! Вот бы выпалить в середку!
– Одной пулей? – улыбнулся в ответ Курбский. Гришук покраснел.
– А что ж, и одной пулей можно уложить их десяток!
– Попытайся.
И Курбский подал ему свое немецкое ружье.
– А ты думаешь, я не умею стрелять? – вскинулся мальчик, еще более вспыхнув, и принял ружье.
В это самое время с ближайшей гранитной глыбы поднялась на воздух громадная птица.
– Орел, орел! – заликовал Гришук и взвел курок. Данило схватил мальчика за руку и насильно отнял у него ружье.
– Упаси Бог! Нешто можно на порогах трогать царя птиц?
Борьбы между ними почти не было; но лодка была уже выведена из равновесия, наскочила на подводную скалу и, подброшенная следующею волной, поднялась дыбом. Опытные гребцы, точно предвидя подобный случай, разом оттолкнулись веслами. Хотя нос лодки благодаря этому опять и опустился, но сама она уклонилась уже в сторону от узкого фарватера и с треском села на подводный камень.