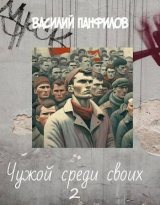
Текст книги "Чужой среди своих 2 (СИ)"
Автор книги: Василий Панфилов
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
Глава 3
Решение за семь вздохов
Отец пришёл, когда уже начало темнеть, и багровое солнце, полускрытое перистыми облаками, закатывалось за горизонт.
– Ну, вот… – только и сказал он, останавливаясь в воротах, – отпустили.
У мамы, возящейся в летней кухне, задрожала нижняя губа, а глаза налились слезами, и она медленно, будто не веря, пошла к нему. На поросшую травой дорожку упало полотенце, но мама этого не заметила, как не заметила и того, что тапочек соскочил с её левой ноги.
– Пришёл… – прерывисто выдохнула она, трогая ладонью щёку супруга и счастливо улыбаясь, – живой…
Отец, не отвечая ничего, улыбнулся устало и очень нежно, и, поймав ладонь супруги, поцеловал её.
– Живой, – хрипловато сказал он, и снова поцеловал её ладонь.
Мама начала что-то прерывисто говорить на идише, а отец, не отвечая, обнял её крепко-крепко, и они замерли так на несколько секунд.
– Отпустили, – выдыхаю, ощущая, как с плеч падает невероятный груз ответственности, который я, за неимением взрослого мужчины в семье, взвалил на себя. Подойдя, я обнял родителей, и мы долго так стояли…
– Ну, всё… – мягко сказал отец, неловко отстраняясь, – хватит.
– Да, ты же голодный! – всплеснула руками мать, – Я мигом! Ой…
Она только сейчас заметила, что стоит в одном тапочке и поджала ногу, исколотую травой и камешками. Отец, сказав ей что-то негромко, отчего та зарделась, поднял тапочек, и, встав на одно колено, одел на ногу супруге.
Не сразу встав, он поднял голову наверх, улыбаясь, и это было так хорошо и неловко, что я отвернулся…
За воротами, метрах в двадцати, хорошо видимый на фоне заходящего солнца, пялится на нас какой-то мужик неопределённого возраста, в калошах на босу ногу, пузырящихся на коленях спортивных штанах и пиджаке не по росту. Заметив, что я смотрю на него, мужик демонстративно отхаркался и начал сворачивать козью ножку.
Усмехнувшись кривовато, я, обойдя родителей, прикрыл ворота, ощущая это так, будто закрыл театральный занавес. Мельком выглянув в щель, увидел, как единственный зритель удаляется прочь независимой походкой человека, вкусно выпившего после тяжёлой работы.
– Представляю завтрашние рецензии, – бормочу себе под нос, в самом деле представляя их, и почему-то сперва в виде постов в «Телеграмме», а потом уже – коротких, но полноценных статей с броскими заголовками на мониторе компьютера. Фыркнув, радуюсь собственному красочному воображению, полагая его, в числе прочих, одним из симптомов улучшившейся работы мозга.
К селянину же я испытываю не презрение, а жалость, как к человеку, с рождения ограждённого множеством запретов и заборов. Железный Занавес, это ведь совсем не фигура речи! К сожалению…
Не только невозможность выезда из страны, но и глушение радиостанций, запрет целых разделов музыки, живописи и даже науки[i] на государственном уровне, сковывает, ограничивает гражданина СССР, даже если он сам не вполне осознаёт эти ограничения. А для жителей деревень и прочих «лишенцев», с отсутствием паспортов[ii], куда как более тотальным контролем всего и вся, эти ограничения, в том числе и культурные, можно возводить в куб!
… но правда и то, что жалость моя с оттенком брезгливости, и пожалуй, опаски.
Когда смотришь на всё это не с позиции независимого социолога или этнографа, а изнутри, можно сколько угодно видеть причинно-следственные связи и понимать, что человек становится скотиной не от хорошей жизни, но скотиной-то он от этого быть не перестаёт!
И сейчас эта скотина, полагая себя вправе, а своё мнение единственно верным, и даже не предполагая, что могут существовать другие взгляды на жизнь, и что эти взгляды, чёрт подери, имеют право на существование, влезла в нашу жизнь!
Вот так вот – в калошах на босу ногу, с цигаркой, налипшей на нижнюю губу, перегаром и щетиной, хватая за ворот рубахи и брызжа в лицо слюной и оскорблениями. Да и… не факт, что всё закончилось!
Отец ест медленно, устало, через силу, и, наверное, не вполне чувствуя вкус. Время от времени, переставая жевать, он о чём-то задумывается, и, держа перед собой ложку, с которой обратно в тарелку стекает суп, сидит молча.
Наконец, доев без особой охоты, он взял кружку с чаем и вышел на крыльцо, накинув на широкие плечи лёгкую куртку. Я, уже давно поев, налил себе чаю, вроде как за компанию, и тоже вышел на улицу, прислонившись к плохо ошкуренному бревну, поддерживающему заметно обветшавший навес над крыльцом.
Родители сидят молча, плечом к плечу, и тишину нарушает лишь стрёкот насекомых, да изредка – негромкое сёрбанье, когда отец отхлёбывает кипенно-горячий чай. Здесь, у крыльца, нет ни единой лампочки, а потому комары и разная мошкара не слишком досаждают, сбившись поодаль, у освещённого окошка горницы.
Ночная прохлада слегка холодит спину, но не настолько, чтобы возвращаться в дом за рубахой, да и горячий чай неплохо согревает изнутри.
– Обычная беседа, – безэмоционально сказал отец и сделал глоток, – даже извинились – дескать, эксцесс исполнителя, перестарались.
– КГБ? – спросила мама и покачала головой, не слишком веря в возможность ошибки, но не развивая тему.
– Это надолго, – обронил отец, – они как акулы, стоит им почуять кровь, они будут кружить рядом, и если надо – годами.
Киваю задумчиво, хотя родители и не могут видеть этого, и, слегка уйдя в себя, пытаюсь мысленно упорядочить свои знания о спецслужбах. Никогда почти не интересовался специально, но иногда, где-нибудь на ЮТубе, мелькало что-нибудь этакое, или кто-нибудь из знакомых кидал ссылку на интересный материал.
К сожалению, информация эта, не будучи необходимой здесь и сейчас, и будучи невостребованной, архивировалась где-то в дальних уголках мозга. Я, разумеется, имею некоторое понимание, и могу, как мне кажется, составить достаточно достоверное представление о спецслужбах, но вот детали, за ненадобностью, не запоминал никогда. Зачем, если есть интернет и всегда можно уточнить? Кто бы знал…
Вздохнув, кошусь на негромко разговаривающих родителей, и не без труда давлю поднимающуюся досаду на всю эту ситуацию с попаданством, и на самого себя. Не сразу, но мне удаётся успокоиться, и я продолжаю копаться в воспоминаниях, пытаясь среди кучи эмоционально окрашенной информации и страшилок, найти что-то, что может быть полезным здесь и сейчас. Хоть как-то!
Современных мне спецслужб, давно прогнивших, со ставшим притчей во языцех отрицательным отбором и непотизмом, я опасался, как, наверное, любой вменяемый человек, но нисколько не уважал. Даже если оставить в стороне человеческие качества, рассматривая только и исключительно профессионализм, то ничего, кроме скепсиса, и пожалуй, брезгливости, такие спецслужбы не вызывают. Они опасны только как часть системы, как часть государственного Молоха, своей надсудностью и надзаконностью.
Но впрочем, недооценивать возможности Государственного Аппарата, пусть даже проржавевшего и рассыпающегося на ходу, нельзя. Да и люди… какие ни есть, а чему-то обученные, что-то умеющие, набравшиеся какого ни есть, а опыта.
Здесь же… сложно судить, но отношение к КГБ, как к чему-то невообразимо могущественному, довлеющему над всей территорией Восточного Блока, если и оправдано, то лишь отчасти. Так-то оно так… но КПД, если верить позднейшим мемуарам, у этой махины низкое, и если уж приводить аналогии с механизмами, то это, пожалуй, паровой трактор конца девятнадцатого века.
Нечто очень массивное, тяжёлое, изрыгающее в воздух клубы чёрного дыма, воняющее и лязгающее всеми сочленениями. Впечатление, особенно на человека неподготовленного, эта махина производит, да и работу свою в общем-то выполняет, и становиться на пути этого механизма не стоит… Да я, собственно, и не хочу.
Навеянные моим виденьем парового монстра, в голову полезли разного рода исторические экскурсы, всё больше почему-то про Революцию и первые годы Советской Власти, а чуть погодя – становление ВЧК-ОГПУ, чистки рядов и тому подобное.
Когда, ещё в двадцатые годы, в СССР начали сколачивать собственные спецслужбы, делали это, по понятным причинам, на скорую руку, из того, что было под рукой. Профессиональные революционеры и уголовники, перешедшие на сторону Советской Власти, составили костяк, фундамент спецслужб[iii]. Ещё, кажется, было какое-то количество «сознательных» рабочих, чтобы это ни значило, ну и так – всякой твари по паре.
Хм… или вернее будет сказать, что из деталей разобранных механизмов собрали кое-как работающую машинерию? Давно устаревшую, попёрдывающую угольным паром, и с чудовищно низким КПД, но механики-самоучки, махнув на всё рукой, удовлетворились тем, что их изделие каким-то чудом не разваливается на части, а усовершенствование, как водится, было оставлен на потом.
Получившая Химера кое-как работала, но наилучшую производительность она показывала не в обеспечении безопасности страны, а в репрессиях против собственных граждан, и – собственных создателей! Чавкая и давясь, захлёбываясь кровью и страхом, она перемалывала жизни и судьбы, двигаясь вперёд под звуки выстрелов и бравурных маршей.
Потом, разумеется, были чистки, репрессии и война, и наверное, обновлённое МГБ, а позже и КГБ, стало иным, но вот кардинально ли? В своей основе, это всё та же Химера, нежизнеспособная в нормальных условиях…
– Да и люди там всё те же, – произношу я вслух, пытаясь поймать ускользающую мысль, но, покосившись на родителей, замолкаю.
Руководство КГБ, по большому счёту, выходцы из тех времён – не самые лучшие, не самые образованные, не самые умные…
… а просто – выжившие! Это люди, пережившие Большую Чистку, колебавшиеся вместе с Линией Партии, и поднаторевшие более всего не в оперативной работе, а в очень специфических аппаратных играх.
Бюрократы, верные прежде всего не идее Социализма, а системе НКВД, в которой они выросли. Люди, для которых важнее кастовость и идеология, и только потом – профессионализм.
Позже, даже я это знаю, они были разбавлены «комсомольцами» Шелепина[iv], но сейчас, если верить газетам, читая между строк, начался закат его карьеры. Зная, куда и как смотреть, понять не сложно…
– Н-да… получается, что на место сталинских волкодавов пришли бюрократы, – констатирую я, машинально расчёсывая место укуса под локтем.
– Хотя какого чёрта? – озадачиваюсь, отгоняя комаров, – С какого это дьявола они – волкодавы⁉ А… «В августе сорок четвёртого»[v] в голове вылезло, точно! Но сколько, на самом деле, реальных оперативников в Органах? Один процент? Два? А остальные – не волкодавы, не оперативники, а палачи!
– В лучшем, хм… – покосившись на родителей, я замолк, хотя говорил едва ли не шёпотом.
' – В лучшем случае они – бюрократы, поставившие репрессии на поток, по принципу «Лес рубят, щепки летят», и даже если они лично никого не пытали, то назвать их профессионалами можно только с натяжкой'
В голову пришла странная мысль, что, наверное, работники прокуратуры или милиции, как следователи и оперативники, дадут сто очков форы сотрудникам КГБ! Они, в массе своей, руководствуются Законом и Процессуальным Кодексом… в отличии от…
Поворачивая эту мысль так и этак, я не нахожу в ней каких-то противоречий. Действительно, КГБ, как бы оно ни называлось, всегда стояло и стоит НАД Законом.
Наверное, какие-то внутренние нормативные акты ограничивают их работу, но в целом, действия сотрудников так или иначе нарушают Закон. В этом сила спецслужб, и в этом же – их слабость.
Чувствуя, что мне нужно проговорить это вслух, я встал…
… ну и заодно, чтоб два раза не ходить, вон он, туалет. Главное – не провалиться…
– На смену старой… хм, гвардии, – рассуждаю я, расстёгивая штаны и прицеливаясь, – пришли сперва бюрократы из ВЛКСМ, а теперь, получается, вместе с Шелепиным их выдавливают из органов, меняя… А собственно, на кого⁈
– Впрочем, не важно… – застёгиваю ширинку, и, прикрыв за собой дверцу, иду к умывальнику, – Выходит так, что у них там сейчас период Междуцарствия, а значит, можно надеяться на некоторую пробуксовку…
… и все свои соображения, сжав в несколько предложений, я озвучиваю родителям.
–… а ещё, слышал в Посёлке такую байку от дяди Миши, – продолжаю, напрягая память и актёрские способности, – что раньше, ещё до войны, если человек, заметив какие-то нехорошие признаки со стороны органов, просто переезжал, его как бы теряли из виду.
– Понятно, – тут же поправляюсь я, – если дела мало-мальски серьёзные, то фигурантов искали хоть на краю света, а вот ради мелких пескариков напрягать весь аппарат не имело, да наверное, и не имеет смысла.
Отец, выслушав меня, замер и некоторое время сидел молча, и кажется даже, не дыша. Затем он медленно кивнул, быстро, и как-то по-новому, глянул на меня.
– Не знаю, как сейчас… – пожимаю плечами, действительно, имея очень мало понимания, но зато знакомый с таким понятием, как «мозговой штурм» и привыкший на квизах накидывать в команду любую информацию, какая может оказаться хоть сколько-нибудь близкой к теме.
– Я тоже, – чуть усмехнувшись, негромко отозвался отец, и совсем тихо добавил:
– Вырос…
Несмотря время к полуночи, сна у нас ни в одном глазу, и спать никто не идёт. Какой уж тут, к чёрту, сон…
Озябнув, я вернулся в дом за рубашкой, оставив родителей тихо разговаривать на крыльце.
Давно заброшенный, с нечастыми и неаккуратными постояльцами, дом пахнет сырость, мышами, трухой и всем тем нежилым, что невозможно описать словами, но что явственно понимается, стоит только зайти внутрь и вдохнуть неизменно затхлый воздух. Открыты окна или закрыты – неважно, в брошенном доме воздух будто пропитан плесенью и трухой, легким запахом гниения.
Тронув зачем-то пальцем отсыревшую, осыпающуюся побелку со стен, я снял рубашку со спинки кровати и накинул её на плечи. Глянув на старую икону, оставленную в красном углу, на керосиновую лампу девятнадцатого века, на угольный утюг, усмехнулся невольно и пробежал глазами по старым вещам, оставленными хозяевами без всякой жалости.
Полвека спустя все эти иконы и утюги, оставленные в сарае прялки и колыбель, доставшиеся от прадедов кованые топоры и прочий скарб назовут антиквариатом…
– А сколько это будет стоить, даже подумать страшно, – пробормотал я, выкидывая из головы виденья того, как я катаюсь по деревням и собираю брошенное имущество, а потом – жду…
– Бр-р… – я помотал головой, – ужас! Вот что жадность-то с людьми делает… Ведь готов был, пусть даже несколько секунд, ждать возможности разбогатеть под старость лет!
–… вот оно что, – услышал я ещё из комнат, негромкий голос отца, – распустил я вас? Да-а… однако! Я и внимания не обратил – думал, оделась ты как-то не так, или Мишка с соседкой недостаточно вежливо поздоровался, а оно вот так? Дела…
Я вышел наконец во двор, и, подтащив поближе низенькую лавочку, уселся напротив родителей.
– А ты, значит, один против толпы? – отец внимательно смотрит на меня, – Не испугался?
– Сперва да, – мне почему-то неловко, – в самом начале. А потом, когда тот, с багровой мордой, маму в лицо пятернёй, я озверел, да так…
Пожимаю плечами, не желая продолжать, и отец не стал настаивать. Так только… закаменел на какое-то время, да полыхнуло беспомощностью, какая бывает и у сильных мужчин.
Он закурил, молча глядя в сторону, а мама гладила руку супруга и что-то шептала то на идише, то на русском. Сильно не сразу, две папиросы спустя, она отшептала его, и отец, усмехнувшись горько и поведя плечами, отживел, перестав походить на собственный бетонный памятник.
– Да уж… – ещё раз усмехнулся он, туша папиросу о дно старой, ещё лендлизовской консервной банки, найденной нами на кухне, – дела!
Неспешно, очень въедливо, отец начал ворошить события, останавливаясь иногда на деталях, которые мне казались откровенно второстепенными. Время от времени он поднимал руку, останавливая меня и обдумывая услышанное, а иногда отматывал разговор на несколько минут назад, снова и снова проговаривая одно и то же.
Довольно-таки раздражающая манера… и хотя я понимаю, что отец, с его опытом войны, лагерей, ссылок и общения с представителями соответствующих органов, понимает эту ситуацию много глубже, чем я могу представить, но менее раздражающей она от этого не становилась!
– Потерпи, ладно? – будто услышав, попросил меня отец, – Я потом, если захочешь, объясню всё.
Угукнув, киваю, и, обхватив колени руками, снова и снова рассказываю одно и то же, или же, напрягая память, пытаюсь вспомнить какую-нибудь деталь, малозначительную для меня в тот момент. Получается… да так себе, через раз в лучшем случае, но отец не сдаётся, собирая из этих кусочков информации какое-то подобие паззла.
– Та-ак… – подытоживает отец, вставая и потягиваясь с хрустом, – а поставлю я чайник!
Ничего не говоря, он прошёл в летнюю кухню, и несколько минут спустя мы в полном молчании пили чай, и тишина нарушалась лишь треском цикад и ором каких-то ночных птах. Да чуть погодя, где-то на другом конце деревни, послышался звук работающей техники, но и он вскоре замолк.
Допив чай, отец вытряхнув заварку к забору и некоторое время сидел, ссутулившись и напряжённо о чём-то размышляя. Наконец, с явной неохотой встав, он сообщил нам:
– На станцию пойду, о транспорте договорюсь. Да, и телеграмму…
Пояснять он ничего не стал, да в общем-то, и не нужно… Менее чем через минуту фигура отца затерялась в ночи, и я, медленно закрыв калитку, вернулся в дом. Ждать…
* * *
– Не гавкай, псина… – шёпотом говорю я и присаживаюсь на корточки, – Не гавкай, псина бестолковая… кому говорю! Ну, ну… всё, признала?
– Да-да-да… – не вставая, чешу лохматую холку, попутно вытаскивая репьи, а потом, когда разнеженная, непривычная к ласке, собаченция плюхнулась на спину, наглаживаю живот, – хороший собакен, хороший…
– Ну всё, всё… – встав, последний раз треплю псину по холке и озираюсь по сторонам. Деревенская улица освещена только тускло мерцающими звёздами и тонким полумесяцем, наполовину скрытым облаками. Фонари в деревне есть, но все они в центре, ближе к сельсовету, или как он там называется… А здесь – только месяц, звёзды, да где-то, в десятке домов позади, кто-то из сельчан забыл выключить лампочку перед крыльцом.
Никаких гуляний молодёжи под гармошку и без, как это показывается в фильмах, нет, если не считать за таковое ночной собачий перебрёх.
– Да-да… всё, иди… – наклонившись, рукой пихаю собаченцию по направлению к родным воротам, и иду дальше уже без опаски. Это места знакомые, нахоженные, с наглаженными собаками, которые успели меня обгавкать, а потом и обнюхать, днём раньше.
Сейчас если и гавкает кто-то, то это ленивый, служебный гавк – дескать, дом на охране, бдю! Если полезу через забор, тогда да, гавканье станет возмущённым, с нотками скандала, а так… Пустобрёхов в деревне не любят, и если не сами хозяева прибьют, так помогут соседи.
– Ага… чуть не прошёл, – сориентировавшись, останавливаюсь и чутко всматриваюсь в темноту. Сердце бухает… и некоторое время я медлю, стоит ли? Но потом, закусив губу, всё-таки решаюсь, и, оглянувшись ещё раз, лезу через забор – с той стороны, где стоит заброшенный дом.
Я уже во дворе… Присев на корточки, опять жду неведомо чего, но «Дамы в вечернем туалете» не наблюдается, да и соседские собаки, по-видимому, избегают двор старой ведьмы, прекрасно чувствуя людей.
Сперва, вроде как для тренировки, выцарапываю каббалистические знаки на стене сарая, не слишком стараясь, и тут же затирая свежие царапины пальцем, предварительно поплевав на него.
– В глаза так сразу не бросится, – бормочу себе под нос, гвоздём выцарапывая какое-то подобие масонского циркуля, – а потом, со временем…
Царапаю знаки, весьма живо представляя себе реакцию старой ведьмы.
– Колдовал жидёнок? Ну-ну… Я, правда, не знаю ни хрена, что всё это значит, но ты, старая сука, сама придумаешь… и сама себя накрутишь! В КГБ нас на опыты? Ну-ну… а сама в дурку не хочешь?
Опаска прошла, да и время сильно уже за полночь, так что, пусть и с большой оглядкой, от сараев я дошёл до дома и времянки. Нацарапывая (весьма криво) на сыплющейся побелке какое-то подобие пирамиды с кружочком наверху, призванным изображать чьё-то там око, поглядываю на дверь.
Нацарапанные знаки тем временем наливаются Силой, которую я не вижу, но чувствую, как чувствую и то, что ночь эта особенная, колдовская…
– Ихес-тухес[vi]… – скрутив по-особому пальцу, тычу в сторону двери нашей бывшей домохозяйки, и так, для верности, девять раз. Усмехнувшись злорадно, покидаю наконец негостеприимный двор, и, прыгнув с забора, лечу над дорогой, в трёх или четырёх метрах над землёй, как и положено втакую ночь потомственному ведьмаку из уважаемого раввинского рода!
Непередаваемое ощущение полёта… куда там аэродинамической трубе или прыжку с парашютом! Я лечу и лечу, а ночь, ещё совсем недавно тусклая, расцветает сумрачными красками, подсвечивая деревню и дома, а особенно – колдовские места…
… и, уже с сожалением осознав, что это всего лишь сон, я всеми силами стараюсь его продлить, продлить это ощущение полёта и запомнить, как в моём сне выглядит ночная деревня, подсвеченная колдовскими огнями!
– Жаль, – шепчу я, проснувшись, и снова, в который уже раз, досадую от того, что не умею рисовать…
Сон потихонечку уходит прочь, и, проводив его сожалеющим вздохом, встаю с табуретки, на которой я заснул, и тянусь всем телом. Всё болит… со вчерашнего ещё, я тогда, кажется, вообще всё себе потянул!
За окном уже начало светлеть, и, выключив в горнице свет, я приоткрыл дверь во двор, где на крыльце, зябко кутаясь в отцову куртку, дремлет мама. Поколебавшись, не стал её тревожить, и обойдя осторожно, прошёл сперва в туалет, а потом долго плескался в рукомойнике, пытаясь окончательно проснуться.
Там же, во дворе, размялся, чувствуя себя, как после неудачного спарринга, и кряхтя то и дело, как старый дед с запущенным радикулитом. После, с некоторым сомнением, перебарывая лень и невыветрившуюся усталость, проделал пальчиковую гимнастику, и через несколько минут, можно сказать, почти проснулся.
На летней кухне, стараясь не шуметь, пошарил по кастрюлям и чугункам, и найдя отварную картошку в мундире, быстро почистил её, порезал – с запасом, крупными кусками, кинул на сковородку, не жалея подсолнечного масла.
– Духовитое, – морща нос, разжигаю печку и передразниваю бабку, продавшую нам бутыль, – То-то и оно, что духовитое. Хочешь, не хочешь… а другого нет! А, ладно…
Повздыхав о масле без запаха, свежих помидорах посреди зимы и прочих достижениях прогресса, порезал лук, и уже привычно заправил маслом и луком старую квашеную капусту, которая ещё чуть, и станет уже не просто старой, а испорченной. А так… ничего, за неимением чего-то другого.
Когда картошка уже была почти готова, порезал туда остатки чуть заветрившейся колбасы, а на другой сковороде на скорую руку обжарил зачерствевший хлеб, присыпав его с уже готовой стороны, перцем и солью.
– А, чайник ещё… – спохватился я, и, сняв сковороду с картошкой, водрузил на её место чайник, более чем наполовину полный.
– Ма-м… – подойдя, трогаю её за плечо.
– А⁈ Миша? – всполошилась она, – А, утро уже… Ты голодный, наверное? Сейчас…
– Я уже картошку обжарил, – перебиваю её, – Давай, умойся, посети кабинет задумчивости, и за стол!
– Мог бы и разбудить, – вздохнула она, – что я, не женщина…
Закатываю на это глаза, ничего не отвечая. Вот же… глупость, но даже у мамы это в подкорке сидит, хотя казалось бы…
Едва я поставил сковородку на стол, а мама, вытирая руки, уселась, на улице проехал грузовик, остановившись возле нашего дома.
– Встали уже? – поинтересовался отец, заходя во двор, – Ну, хорошо…
Отставляю в сторону заветный дрын, смущённо пожимая плечами при виде чуть развеселившегося отца. Ну да, ну да…
– О, картоха? – заинтересовался водитель грузовика, безо всякого стеснения прошедший в калитку вслед за отцом.
– Да, только с печи, – дружелюбно киваю я, – Поешьте вместе с нами?
– С превеликим удовольствием! – отзывается тот, как ждал, а мама почти незаметно кивает мне – дескать, всё правильно сделал, сынок!
Наворачивая картошку и хрустя попеременно то зажаренным хлебом, то капустой, водитель, молодой круглолицый парень с носом-картофелиной, простоватый и очень смешливый, травит шофёрские байки.
– А вы откуда? – спохватывается он, – Ага, ага…
Наконец, картошка подъедена, чай выпит, а утро, всё ещё немного зябкое, окончательно вступило в свои права. С помощью Дениса мы быстро закинули вещи в кузов, и отец, убедившись, что мы устроились достаточно удобно, заскочил в кабину к водителю.
Дёрнувшись пару раз, грузовик завёлся, и мы покатили по просыпающейся деревне под ленивый брёх собак. Я сижу на перевёрнутом ведре, придерживаясь рукой за кузов, и, зевая отчаянно, гляжу по сторонам со смешанными чувствами.
На повороте мы притормозили, и водитель пару раз прогудел, прося уйти с дороги стоящий на ней трактор. Тракторист, немолодой мужчина с напряжённым и злым лицом, лишь матерно отмахнулся рукой и продолжил слушать выговор начальника.
– Да сдвинься ты на обочину! – не выдержал наш водитель, чуть ли не по пояс высунувшись из окна, – Дай проехать, чёрт полосатый!
«Чёрт полосатый» лишь дёрнул щекой, зато начальник, делавший ему выговор, обернулся, оказавшись тем самым одноруким. Раздражение на его лице сменилось усмешкой, и, приподняв шляпу, он издевательски раскланялся с нами.
Через несколько секунд трактор сдвинулся на обочину, пропуская грузовик, и мы поехали прочь, покидая русскую деревню.
– Ну, бывайте… – ещё раз кивнув нам, шоферюга заскочил в кабину, и, высунув из неё голову, начал выруливать со двора, азартно переругиваясь со сторожем. Выехав, он притормозил, не глуша фырчащий двигатель, и приоткрыв дверцу, высунулся наружу чуть не на половину, развёл руки на ширину плеч и проорал, перекрикивая шум двигателя:
– Вот такие! Не караси, а свиньи, даже сало капает! Будешь у нас, Аркадьич…
Сзади требовательно прогудели, и водитель, оглянувшись, чертыхнулся и залез-таки в кабину. Ещё один взмах мозолистой пятерни, и он уехал, а мы – остались.
– Пока как-то так… – протянул отец, оглядываясь по сторонам и вздыхая. Мама, чувствуя его настроение, шагнула к нему, по пути сгребая меня в охапку… Я охотно уткнулся носом в её плечо, не испытывая особого желания обозревать внутренний двор «Дома Колхозника».
– Вы, что ли, Савеловы будете? – сворачивая на ходу цигарку подошёл к нам немолодой сторож, щурясь подозрительно и как-то очень по ВОХРовски[vii].
– Савеловы и есть, – согласился отец, отпуская наши плечи и выступая чуть вперёд.
– Иван Степаныч, – отрекомендовался сторож, протягивая отцу мозолистую, нечистую пятерню с неровными обломанными ногтями, под которыми виднеется ничем не выводимая грязь.
– Иван Аркадьич, – отзеркалил отец, крепко пожимая руку, – а это супруга моя, Людмила Львовна, и сын, Михаил.
Бормочу негромко, что очень приятно, но это, похоже, не интересует нашего провожатого. Я для него – сопля зелёная, права голоса не имеющая.
– Валька! – обернувшись и всматриваясь в кучкующихся во дворе мужиков, зычно гаркнул мужик, – Валентин, ёб твою мать! Сюда, блять, живо!
Валентин, мужик явно за сорок, трусцой подбежал, на ходу снимая кепку с грязной головы, и, прижав её к груди, зачем-то слегка ссутулился и заулыбался виновато. Чуть выше среднего роста, с несколько вытянутым лицом и уныло обвисшим носом, он походит на постаревшего провинциального Пьеро, жизнь которого пошла вовсе уж наперекосяк.
– Звал, Иван Степаныч? – заискивающим тоном спросил Валентин, и, не отворачивая глаз от сторожа, ухитрился скосить на нас глаза и, приветствуя, кивнуть головой, далеко вытянув тощую шею, поросшую длинным серым волосом.
– Давай… – начал было сторож, показывая на наш багаж, но, хмыкнув, почесал подбородок, и уже другим тоном продолжил:
– В общем – задачу видишь?
– Да, Иван Степаныч! – вытянулся Валентин, – Сейчас мужиков организую! Так куда, говоришь, нести?
– Да вон в тот сарайчик, – махнул рукой сторож, доставая связку ключей.
– Сам видишь, с кем приходится… – непонятно вздохнул сторож, заводя разговор с отцом, и покрикивая время от времени на мужиков, семенящих впереди с нашей поклажей.
– Вот, здесь под присмотром, – сообщил нам сторож, запирая дверь на замок и отряхивая руки, – съезжать будете, ну или так что понадобится – ты, Иван Аркадьич, знаешь, где меня искать.
– Благодарствую, – отец чуть склонил голову, подстраиваясь под собеседника.
– А это, у вашего… – сторож показал глазами на меня, – на шее что? Боюсь и думать, Иван Аркадьич… но сам понимаешь, служба!
– Да то самое, – отозвался отец, – правильно понимаешь, Иван Степаныч, сейчас вот в больницу и пойдём.
Он в несколько предложений описал наше приключение и сторож, крякнув, свернул ещё одну цигарку и покосился на мужиков, возящихся в стороне с разгрузкой какого-то барахла с высокого борта колхозного грузовика, заехавшего во двор.
– Мужик – он такой… та ещё сволочь! – задумчиво покивал сторож, – Но всё ж таки, Аркадьич, не обессудь…
– Да всё понимаю, – в тон ему отозвался отец, – служба!
– Да! – спохватился сторож, – Сейчас койки ваши покажу!
Идя по двору с уверенностью ледокола, он то и дело оборачивается к отцу, рассказывая тому, какая же эта сволочь, русский мужик. Наличие вокруг этих самых мужиков сторожа ничуть не смущает, как и тот факт, что и сам он (что ненароком всплыло в разговоре) происхождения самого что ни на есть крестьянского.
' – Это пиздец…' – вертится у меня в голове, а голова верится по сторонам, и я сам не знаю, к чему эти слова относятся больше – к словам сторожа, или к тому, что окружает нас.
«Дом Колхозника» окружён высокими, грязно-серыми бетонными стенами, на которых остро не хватает витков колючей проволоки, чтобы сделать картину завершённой. Сам дом, большое и какое-то несуразное, приземистое здание, покрытое многими слоями несвежей штукатурки, обвалившейся кое-где геологическими пластами, смотрит на нас маленькими подслеповатыми окошками, забранными решётками, выкрашенными краской-серебрянкой. Он каким-то удивительным образом гармонирует со сторожем-ВОХРовцем, и кажется, да и наверное, является, осколком эпохи коллективизации, ГУЛАГа и первых пятилеток.
Во дворе, где местами есть потрескавшийся асфальт, везде стоят прицепы, редкие грузовики и трактора, и, совсем для меня неожиданно – телеги. В сторонке, в самом углу, виднеются лошади, слышится фырканье и доносится не слишком густой, но явственный навозный дух.
Впрочем, дух здесь такой, что нотки навоза добавляют к этой атмосфере не слишком многое. Всё здесь, кажется, пропиталось запахами лошадиного и человеческого пота, прелых овощей, застарелой мочи и прочих, столь же неаппетитных запахов.








