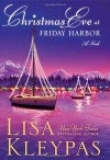Текст книги "Записки капитана флота"
Автор книги: Василий Головнин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
На сей ответ градоначальник спросил нас: «Есть ли в Европе закон, по которому в подобных случаях можно было бы брать чужое?» – «Именно закона письменного, – сказали мы, – на это нет, но если человек, умирающий с голоду, найдет оставленное хозяевами жилище и возьмет нужную ему пищу, положа притом на месте плату, далеко превосходящую ценой взятое, то никакой европейский закон не обвинит его». – «Но у нас другое, – возразили японцы, – по нашим законам должно умереть с голоду, не смея тронуть одного зерна пшена без согласия хозяина».
Надобно здесь заметить, к чести японцев, что все вопросы они нам предлагали тихо, скромно и с большой ласковостью, беспрестанно улыбаясь приятным образом, и, по-видимому, старались сделать, чтобы вопросы их отнюдь не походили на следственное дело, но на обыкновенный разговор между знакомыми или друзьями.
5 сентября в последний раз мы были у градоначальника. До полудня японцы делали нам вторично разные из прежних вопросов и расспрашивали весьма обстоятельно о семи человеках, спасшихся с их судна, разбитого на Камчатском берегу. Мы им сказали о месте и времени, где и когда судно разбилось, сколько людей и как спасено, и что они находились при нашем отбытии в Нижнекамчатске. Господин Мур их там видел, но он не хотел об этом сказать японцам, опасаясь, что они замучат его вопросами, которых мы так боялись, что всеми мерами старались не давать им повода нас о чем-либо расспрашивать. После полудня мы долго сидели на дворе, пили чай и курили табак. В это время переводчик Кумаджеро беспрестанно к нам выбегал и спрашивал разные русские слова, которые записав, опять уходил.
Наконец, ввели нас в залу. Тогда один из чиновников, старик лет семидесяти, бывший еще при Лаксмане употреблен к составлению русского лексикона, развернул перед нами пребольшой лист бумаги, весь исписанный японскими характерами, и начал оный читать, по своему обычаю, нараспев. Из первых десяти или двадцати слов мы ничего разобрать не могли, но после поняли, что он воображает, будто читает по-русски: слова «россияне», «корабля», «вашу государя», «Хвостос» (Хвостов), «огонь», «Карафта» (Сахалин) и проч. показали нам, что он потщился сделать перевод на русский язык нашего дела. Мы не могли удержаться от смеха и сказали японцам, что тут мы ничего не понимаем, кроме небольшого числа рассеянных в разных строках слов. Тогда все бывшие с нами японцы, да и сам господин семидесятилетний переводчик начали смеяться от всего сердца и более уже нас не беспокоили сей бумагой. Потом градоначальник, распрощавшись с нами, отпустил нас из замка.
Японцы стали с нами обходиться еще ласковее, а особливо караульные; они даже иногда позволяли господину Муру выходить из своей каморки, греться у огня в коридоре (в исходе августа по утрам и вечерам начало становиться довольно холодно; господин Мур был нездоров и жаловался на холод, почему японцы велели всякое утро и вечер держать огонь в коридоре против его каморки на небольшом подвижном очаге) и подходить к моей решетке, где мы могли с ним разговаривать потихоньку о том, о чем не смели говорить громко, опасаясь, нет ли между караульными из тех японцев, которые были в России, знающих русский язык.
Но содержания нашего столом они не улучшали, несмотря на то что мы часто упрекали их в варварских поступках против иностранцев. Однажды господин Мур, толкуя с Кумаджеро по-японски, хотел сказать, что они нас содержат, как собак, а он понял, что японцы как собаки нас содержат, и сказал господину Муру, что он на него за это не сердится, но советует ему впредь быть осторожнее, ибо если другие услышат такие его замечания, то ему может быть худо.

Между тем мы пребывали в ужасной неизвестности, как японское правительство примет наши ответы и объяснения и что с нами будет. Мы только видели, что жестокая судьба решилась нас гнать, и сверх стечения земных происшествий, соединившихся на нашу гибель, даже и самые знамения небесные явлением своим хотели нас погубить.
В сие время нашего заключения видна была комета, мы желали знать, имеют ли японцы понятие о сих телах небесных, и спросили их о том. Из ответов их мы могли только уразуметь, что им известно непостоянное пребывание в небе сих звезд и что они редко являются. После хотелось нам узнать, не почитают ли их японцы, подобно некоторым другим азиатским народам, предвестницами народных несчастий, и если так, то это может быть для нас полезно. Вероятно, что японцы сочтут сию комету возвещением наказания небесного за их несправедливый и жестокий против нас поступок. А когда мы их спросили, не почитают ли они светила сего каким-нибудь предвозвещением, тогда они, к величайшему нашему огорчению, сказали, что в тот год (1807), когда русские суда сделали на них нападение, такая же точно звезда видна была в небе, и теперь при нашем прибытии видимо подобное явление.
13 сентября первый по градоначальнике чиновник объявил нам, что по причине наступающей холодной погоды он имеет повеление выдать нам теплое платье из числа того, которое оставил наш шлюп для нас в Кунашире, и спрашивал, что нам надобно. Потом тотчас по назначению моему выдал он мне форменную шинель, фризовые фуфайку и нижнее платье, шапку, рубашку, чулки и платок, а после и всем моим товарищам выдано было, чего они требовали.
Я прежде упоминал, что японцы согласились матросов держать с нами по очереди, почему 31 августа еще Васильева перевели к господину Муру, а Шкаева посадили одного. 23-го же сентября Макарова, содержавшегося со мною, сменили Шкаевым. От него узнал я две новости: первая, что японцы ошибкою дали Симонову большой складной нож, и вот каким образом: он имел у себя в кармане в фуфайке матросский ножик, привязанный к петле фуфайки на ремне, что матросы обыкновенно делают, дабы не потерять ножа, когда лазят на мачты; фуфайка его лежала в шлюпке, когда нас захватили, и ныне при раздаче платья отдана ему без осмотра, хотя ремень был весь на виду. Нам крайне удивительно показалось, каким образом любопытные и осторожные японцы пропустили это без замечания и не сняли ремня, а особливо когда мы видели, что они осторожность свою в рассуждении нас столь далеко простирали, что не давали нам ножниц для обрезывания ногтей, и мы должны были просовывать руки сквозь решетку, где караульные обрезали нам ногти; даже иголок не вверяли нам, но работникам приказывали чинить наше платье. Ножу сему я чрезвычайно обрадовался в надежде, что со временем он может быть нам полезен, и при первом случае дал Симонову знать, чтобы он берег его как глаз, а если японцы спросят, зачем ремень был у фуфайки, то сказал бы, что шляпа привязывается к нему, дабы ветром не унесло ее.
Другая же Шкаева новость состояла в том, что караульные разговаривали что-то о нашем отправлении в Матсмай и что прежние наши носилки принесены уже на двор. Весть сию на другой же день поутру подтвердили сами японские чиновники, объявив нам формально, чтоб мы готовились в дорогу. Вечером дали каждому из нас по одному бумажному лакированному плащу, по соломенной шляпе с круглыми полями, по одной паре японских чулок и по паре соломенных лапотков, какие японцы в дороге носят.
26 сентября вечером нас известили, что в следующее утро, если дождя не будет, мы должны отправиться в путь, и с рассветом 27-го числа начали сбираться. Поутру приходили к нам разные городские чиновники прощаться, все делали это церемониально: подойдя к каморке каждого из нас, приказывали переводчику сказать нам учтивым образом, что такие-то чиновники пришли нарочно с нами проститься, что они желают нам здоровья, благополучного пути и счастливого окончания нашему делу.
Между тем нам по поясу повязывали веревки и выводили на двор, где ставили рядом, определяя к каждому из нас по солдату для караула и по работнику держать веревку. Сии приготовления худо соответствовали учтивости, с какою японцы с нами прощались. В другом случае можно было бы принять прощание их за насмешку, но нельзя было думать, чтобы все чиновники города согласились шутить над нами. И действительно, все они к нам приходили, кроме самого градоначальника, притом мы уже начали привыкать к странностям сего народа. Около половины дня мы отправились в путь. Вели нас точно таким же порядком, как и прежде, с той только разностью, что сверх носилок были еще при нас верховые лошади, на которых вместо седел были положены наши одеяла и спальные халаты.
От тюрьмы сажен на сто по улице стоял в строю военный отряд пехоты, мимо которого мы проходили. День был очень теплый и ясный, почему зрителей собралось великое множество; из них многие провожали нас версты три. Конвой наш состоял из одного чиновника, начальствовавшего оным, двенадцати или шестнадцати человек солдат, двух непременных работников и великого числа переменных на станциях людей, которые несли наши носилки, вели лошадей и проч., а сверх того были при нас переводчик Кумаджеро и лекарь Того.
Пробыв пятьдесят дней в заключении, мы лучше согласились идти пешком, нежели ехать, а садились на лошадей тогда только, когда уставали. При сем случае японцы, свернув веревку, закладывали ее к нам за пояс и оставляли нас, но это делали они только в поле, а проезжая селениями, всегда держали за конец оной, так точно, как и в то время, когда мы шли пешком.
От самого Хакодаде мы шли подле берега около всей гавани, а поравнявшись с мысом полуострова, на коем стоит город, поднялись на гору, где была батарея, которая, по-видимому, поставлена с намерением защищать вход в залив, хотя и нимало не соответствовала сей цели как по чрезвычайной вышине горы, где она стоит, так и по большой ширине пролива, составляющего вход.
Японцы провели нас чрез сию батарею и тем немало причинили нам беспокойства и горести. Батарея сия состояла из невысокого земляного бруствера, за которым стояли в барбет три или четыре небольшие медные пушки на двух колесных станках, которые, однако же, сделаны совсем не так, как наши лафеты, а внизу на небольшой площадке лежала на перекладинах восемнадцати– или двадцатичетырехфунтовая чугунная пушка, по-видимому, европейского литья. Надобно думать, что ею так и действуют японцы с перекладин, ибо орудие такой тяжести при первом выстреле изломает станок, сделанный по их образцу.
«Вот, – говорили мы друг другу, – они и укреплений своих от нас не скрывают? что же это иначе значит, как не то, что они никогда не намерены нас выпустить, следовательно, уверены, что мы во всю жизнь нашу не будем в состоянии употребить ко вреду японцев сведений наших об их укреплениях». Вспоминая притом о всех обстоятельствах, открывшихся в Хакодаде, мы не находили другого средства к своему спасению, кроме побега, и начали помышлять, как бы произвести в действие наше намерение, но скоро увидели невозможность такого предприятия, ибо ночью сделать сего было нельзя, потому что хотя японцы позволяли нам на ночь совсем снимать с себя веревки, но почти целая половина из них по ночам не спала, и несколько человек находились беспрестанно в нашей комнате, а днем должно было силой отбиваться, чего также нельзя было исполнить по причине множества людей, всегда нас окружавших, и по неимению у нас, кроме одного складного ножа, какого-либо оружия.
Дорожное наше содержание ныне было такое же, как и на пути к Хакодаде, и кормили нас также по три раза в день. В сей части острова селения чаще и многолюднее. Все здешние жители беспрестанно занимаются рыбной ловлей и собиранием морской капусты, а сверх того имеют еще пространные огороды, особливо сеют великое количество редьки (целые поля засеяны ею). Японцы редьку варят в похлебке – как богатые, так и бедные люди. Словом сказать, редька у японцев точно в таком же употреблении, как у нас капуста, а сверх того они солят ее и подают к кушаньям вместо соли кусочка по два, которые с рыбой или со всем тем, что хотят посолить, прикусывают понемногу.
С 29 на 30 сентября мы имели последний наш ночлег в селении на половину дня ходу от Матсмая. Сей ночлег примечателен для нас по следующим обстоятельствам: переводчик Кумаджеро советовал нам в Матсмае отвечать на вопросы, которые там будут нам предлагаемы, совершенно сходно с прежними нашими ответами, говоря, что если хотя в малости мы будем показывать разное, то по японским законам нас должно обвинить. Во-вторых, раздал он каждому из нас по нескольку очень хорошего табаку и бумаги[44]44
У японцев нет в употреблении носовых платков, они сморкают и плюют в писчую бумагу, которую для сего всегда носят с собою в книжке или за рукавами. Богатые люди употребляют лучший сорт бумаги, а бедные похуже. Нам в Хакодаде давали очень дурную бумагу, а в сем случае дали из лучшего сорта.
[Закрыть] и сказал нам, что делает сие для того, дабы начальники в Матсмае, приметив, что у нас нет сих вещей, не отнесли этого к упущению сопровождавших нас, и что в таком случае им сделан будет выговор. И, наконец, советовал нам не верить лекарю, уверявшему нас, что в Матсмае мы будем жить в хорошем доме и все вместе. Слова сии почти то же значили, как если бы он прямо сказал, что для нас там тюрьма приготовлена, но что значило внимание его к нам в рассуждении табаку и бумаги, мы понять не могли.
30 сентября вскоре после полудня остановились мы в одном селении верстах в трех от Матсмая, где встретили нас несколько солдат и множество народа. Мы пробыли тут с полчаса, в которое время конвойные наши надели на себя хорошее свое платье и потом повели нас в город точно с такою же церемониею, как вводили в Хакодаде; только зрителей по причине многолюдства города было несравненно более. Городом мы шли вдоль морского берега версты четыре или пять, потом вышли на большую площадь, окруженную множеством народа, стоявшего за веревками, нарочно вокруг площади протянутыми. С площади поднялись на довольно высокую гору, к самому валу замка, а пройдя вдоль оного на небольшое расстояние, поворотили во двор, обнесенный совершенно новой высокой стеной. Тут встретил нас отряд солдат в военной одежде. С сего двора маленькими дверьми вошли мы за другую стену, выше первой, а тут вдруг увидели перед глазами почти темный сарай, в который нас тотчас ввели и поместили нас, троих офицеров, в одну каморку, подобную клетке, а матросов и Алексея – в другую.

Глава 4
Свидание с губернатором, вопросы его, снисхождения, им нам оказанные, и содержание наше. – Ласковые и утешительные его речи и обнадеживание ходатайствовать о нашей свободе. – Описание и перевод на японский язык нашего дела. – Трудности, при переводе встретившиеся. – Перемены, сделанные в месте нашего заключения и в нашем содержании, к лучшему.
День был прекрасный, светлый, а у нас темнота уже наступала, ибо лучи солнечные к нам не проницали. Обозревая наше жилище, мы думали, что сегодня в последний раз в жизни наслаждались зрением солнца. Тюрьма наша, окружавшие двор заборы, караульные дома, словом сказать, все было совершенно новое, лишь только оконченное, так что еще не успели очистить щепок. Здание же это было большое, сделанное из прекрасного леса, и, конечно, недешево стоило японскому правительству, следовательно, рассуждали мы, японцы не стали бы употреблять времени, трудов и издержек напрасно, если бы они намерены были скоро нас освободить. Для помещения нашего на год или на два могли бы они сыскать место, но расположение и прочность жилища нашего показывают уже, что нам определено до самой смерти не выходить из него. Мысли сии беспрестанно терзали дух наш, мы долго пребывали в глубоком молчании, поглядывая друг на друга и воображая себя обитателями того света.
Наконец работник принес нам ужин, состоявший из сарацинской каши, небольшого кусочка рыбы и горсти бобов с патокой. Подавая сию пищу сквозь решетку, он не приметил меня, лежавшего в углу, и сказал: «Где третья человека?» Господин Мур тотчас спросил его, где он научился говорить по-русски. «В Камчатке», – отвечал работник. На это господин Мур сказал ему, что он и сам был в Камчатке, а японец, поняв господина Мура, что он видел его в Камчатке, очень тому обрадовался и тотчас сообщил переводчику сию новость. Мы же сказывали еще прежде им несколько раз, что при нас в Камчатке не было японцев, кроме семерых, спасенных прошлой весной с разбитого их судна, которые находятся в Нижнекамчатске и которых мы не видали. Почему, когда мы стали переводчику объяснять ошибку работника, он сказал нам в ответ: «Лукавый, лукавый!», и ушел. А мы остались с новым горем, возродив в японцах подозрение, что были в Камчатке, когда их люди там находились, но не хотим того им открыть. Нам желательно только было знать, из тех ли японцев был этот человек, которых Хвостов увозил, или из тех, которые претерпели в Камчатке кораблекрушение и после ушли.
Вот для любопытных описание нашей тюрьмы: надобно вообразить четырехугольный деревянный сарай длиною шагов двадцать пять, шириною в пятнадцать, а в вышину сажени в две; с трех сторон у сего сарая глухие стены, в которых нет ни малейшего отверстия, а с полуденной – вместо стены решетка из толстых брусьев дюйма четыре в квадрате и в таком же расстоянии брус от бруса; в сей решетке сделаны дверь и еще маленькая калитка; та и другая всегда на замке. Посредине сарая стояли две клетки, из таких же брусьев сделанные; они отделялись от стен и одна от другой коридорами; одна из клеток была в длину и в ширину по шесть шагов, вышиною же футов десять, а другая при той же ширине и вышине имела восемь шагов длины. Первая из них назначена была для нас троих, а последняя для матросов и Алексея. Вход в них сделан столь низок, что мы принуждены были вползать; дверцы состояли из толстых брусьев и запирались толстым железным запором; над дверцами находилась небольшая дыра, сквозь которую нам подавали пищу.
При задних стенах клеток были небольшие чуланчики также из толстых брусьев с небольшими отверстиями на полу в ящики для естественных нужд. Смежные же стены клеток были обиты досками, дабы мы матросов, а они нас видеть не могли; для той же причины и между чуланчиками стоял щит. Подле же решетки сарая с наружной стороны была приделана караульня, в которой беспрестанно сидели по два солдата императорских войск; они могли сквозь решетки все видеть, что мы делали, и глаз с нас не спускали. Весь сарай в расстоянии от оного шагов на шесть или восемь окружен был высокой стеной с деревянными шпицами; для выхода из сего двора служили небольшие ворота прямо против дверей сарая; вокруг же первой стены находилась другая, поменее; оная окружала пространный двор, в котором подле ворот большой стены на одной стороне был караульный дом, а на другой кухня и комната для работников.

Наружный караул содержали солдаты князя Сангарского, они к нам доступа не имели и даже внутрь первой стены не смели входить, а только ходили кругом для осмотра каждые полчаса; ночью же носили они с собой огонь и били часы двумя дощечками, а императорские солдаты каждые полчаса входили к нам в сарай и, обходя коридорами кругом наших клеток, осматривали нас сквозь решетки. Все сие здание было поставлено между крутым и глубоким оврагом, в котором текла речка, и валом замка, от коего отделялось оно не очень широкой дорогой. Ночью тюрьма наша казалась еще ужаснее, ибо огня у нас не было, а горел только ночник из рыбьего жира в караульне, и то в бумажном фонаре, от коего чрезвычайно слабый свет едва мог освещать сквозь решетку некоторые места огромного сего сарая; прочие же части его находились в непроницаемой темноте. Стук, происходивший среди глубокой ночной темноты от замков и запоров каждые полчаса, когда караульные отпирали и запирали двери в тюрьму при входе и выходе их для осмотра нас, увеличивал еще ужас и не позволял нам ни на минуту заснуть, ибо и без того уже мы не могли наслаждаться покойным сном, который беспрестанно был прерываем душевными мучениями и встревоженным воображением.
1 октября дали нам знать, что на другой день поведут нас к буньио (т. е. к губернатору), что и случилось поутру 2 октября. Вели нас точно таким же порядком, как в Хакодаде, с той токмо разностью, что здесь не работники, но солдаты императорской службы держали концы наших веревок. Дорога к полуденным воротам замка или крепости, в которые нас вводили, лежала между самым валом и оврагом, на краю коего стоял замок расстоянием от тюрьмы нашей до ворот на четверть версты, и была несколько грязна, почему японцы во всю длину устлали ее досками и вели нас по ним, а от дождя держали над нами зонтики. В крепости привели нас на большой двор, усыпанный мелкими каменьями, и посадили в длинную беседку на лавку всех рядом. Тут мы дожидались около часа. Напоследок отворились ворота на другой двор, куда нас и повели. Подойдя к воротам на третий двор, конвойные наши солдаты сняли с себя сабли, кинжалы и башмаки (или, лучше сказать, соломенные подошвы, ибо японцы не носят ни сапог, ни башмаков, а плетут из соломы или из травы подошвы, которые будут описаны подробно в своем месте) и оставили у ворот, а нам велели снять сапоги.
Тогда отворили ворота, повели нас по весьма чистым соломенным матам к огромному деревянному зданию и поставили перед большой залой, у которой на двор все ширмы, составляющие по образу японского строения стены, были раздвинуты. Нас троих поставили впереди на возвышенном месте рядом, матросы рядом же стояли за нами ступенькою пониже, а на левой стороне у них посадили Алексея. Работник наш, знавший несколько русских слов[45]45
При нас были определены два работника, по мнению японцев, разумевшие русский язык, этот назывался Гейнсте, а другой Фок-Массе.
[Закрыть], сел у нас на правой стороне; это было место переводчика, а переводчик Кумаджеро сидел на левой стороне. Работник сей и прежде толковал нам, что он будет переводить при разговоре между буньиосом и нами, но мы сомневались и не верили, чтобы он, ничего не разумея, осмелился взять на себя сию должность, а теперь, к крайнему нашему удивлению, увидели, что он взялся не за свое дело.
Зал был огромной величины, стены в оном состояли из ширм, те, которые стояли в наружной галерее, были бумажные, а другие – деревянные, раззолочены и расписаны японской живописью, на них были изображены ландшафты, разные звери и птицы. Но главное украшение зала сего заключалось в чрезвычайной резьбе и красоте дерева разных родов, из коего были сделаны двери, рамы и прочее; пол же весь устлан был прекрасно отработанными матами.
По обеим сторонам зала в длину оного сидели, по японскому обычаю – на коленах, чиновники по пяти человек на каждой стороне. У всех были за поясом кинжалы, а большие сабли лежали подле левого боку только у троих, которые сидели выше; одеты же они все были в обыкновенные свои халаты. Подождав с четверть часа, в которое время японцы между собою разговаривали, шутили и смеялись, вдруг из-за ширм услышали мы шорох идущих людей. Тогда один из чиновников тотчас сказал: «Ши…» – и в ту же секунду последовало глубокое молчание.
Сначала вошел японец, просто одетый, который у самого входа, присев на колена, положил руки ладонями на пол и наклонил голову; за ним вошел буньиос в простом черном халате, у которого на рукавах, как и у всех японцев, вышит его герб; за поясом имел он кинжал, а саблю нес за ним один из пяти человек (считая и того, который шел впереди) его свиты, держа оную за конец эфесом вверх и в платке, так, что голыми руками до нее не касался.
Буньиос по входе тотчас сел на пол так же, как другие сидели, лицом прямо к нам, а в рассуждении своих чиновников в таком положении, как у нас президент сидит в рассуждении членов. Все чиновники свиты его сели рядом за ним, шагах в трех от него; тот, который нес саблю, положил оную подле буньиоса на левой стороне. Лишь только он уселся, то все японцы вдруг изъявили ему свое почтение, положа руки ладонями на пол, наклонились так, что лбом почти касались пола, и пробыли в таком положении несколько секунд, а он им отвечал довольно низким поклоном, при котором положил руки ладонями на свои колена. Мы сделали ему наш европейский поклон, и он в ответ кивнул нам головой, беспрестанно улыбаясь и стараясь показать хорошее свое к нам расположение.
Потом, вынув у себя из-за пазухи лист бумаги и смотря в оный, называл каждого из нас чином и именем, на что мы отвечали ему поклоном, причем и он кланялся. Таким образом перекликав нас, стал он говорить работнику Гейнсту, который слушал его, положа руки на пол и лбом коснувшись пола, а по окончании его речи Гейнсте встал на ноги и начал говорить мне так, что мы ничего не могли понять, что он хотел сказать; слова его были: «Ты человек, я человек, другой человек, говори, какой человек». Мы стали ему объяснять и уговаривать, чтобы он не обманывал своих начальников и признался им, что не может переводить, а иначе, если он не откажется, то ему со временем дурно будет. Он слушал нас с большим вниманием, и как мы кончили, тогда он стал переводить буньиосу, приняв прежнее покорное положение, а что он говорил, то японцы записывали (здесь не было секретарей, как в Хакодаде, но ответы наши записывали двое из членов: один из них сидел на правой стороне, а другой – на левой), и потом опять чрез него же другой вопрос нам последовал.
Тогда уже дерзость и бесстыдство сего наглого бездельника вывели нас из терпения; мы видели, что он их обманывает, и сказали прямо, что не хотим отвечать, дабы обманщик сей не погубил нас, выдумывая от себя ответы на те вопросы, которые нам делают. Но Гейнсте, не понимая, что мы говорили, нимало не приходил в замешательство, отвечал за нас, а японцы ответы его записывали и снова нас спрашивали. Мы обращались к Алексею и Кумаджеро и требовали, чтобы они объяснили буньиосу наши мысли, но они не смели говорить. Наконец мы решились замолчать и ни слова не говорить, а между тем буньиос, говоря Гейнсту, употребил слово «отец», которое мы знали; видно, он хотел велеть ему спросить нас, как звали наших отцов. Гейнсте вынул из-за пазухи тетрадь собранных им русских слов, начал в ней рыться и признался, что он этого слова не знает и приискать не может; тогда буньиос и все чиновники, увидев, что он не знал такого обыкновенного слова, стали громко смеяться и, прогнав его с сего места, велели опять Кумаджеро и Алексею переводить, а ему приказали сесть на другой стороне и слушать, что мы будем говорить.
Вопросы их начались тем же, чем и в Хакодаде: спрашивали наши имена, отечество, фамилии, чины, живы ли у нас отцы и матери, как их звали, есть ли братья, сестры, жены, дети и прочее. Только здесь расспрашивали нас с большею подробностью, например: когда мы говорили, что у нас есть братья, то спрашивали, как их зовут, сколько им лет, в каком они звании и так далее, и все наши ответы записывали. Вопросы же предлагал всегда сам буньиос, а прочие чиновники в присутствии его ничего у нас не спрашивали. Потом сделал он несколько вопросов касательно возвращения Резанова из Японии и о причинах нашего к ним прихода, о чем нас прежде еще в Хакодаде спрашивали; между тем буньиос не упустил также спросить нас между делом и о разных посторонних вещах. Всех такого рода вопросов его не было средств удержать в памяти, однако же некоторые я мог припомнить. Он нас спрашивал, каким образом русские хоронят умерших и какие знаки ставят над могилами; есть ли разность в погребении между богатыми и бедными людьми. Когда мы упомянули, что тела богатых людей сопровождают много священников, тогда буньиос сказал нам, что и у японцев то же самое бывает. Наконец после множества разных вопросов спросил он, не имеем ли мы какой-нибудь к нему просьбы, и если хотим о чем-либо его просить, то чтобы теперь ему объявили.
«Мы не понимаем, – отвечали мы, – что значит этот вопрос и что господин губернатор разумеет под ним, ибо он и сам без нашей просьбы может видеть, в чем должна она состоять, когда мы обманом взяты и теперь содержимся в самом жестоком заключении». На это он отвечал, чтоб мы подали к нему просьбу, где желаем жить: в Матсмае, в столичном их городе Эддо или в другой какой-либо части Японии, или хотим возвратиться в Россию. «У нас два только желания, – отвечали мы. – Первое состоит в том, чтобы возвратиться в свое отечество, а если это невозможно, то желаем умереть, более же мы ни о чем не хотим просить японцев». Тогда он говорил с великим чувством очень длинную речь, которую все присутствовавшие слушали со знаками глубочайшего внимания, и на лицах их, казалось, было изображено сожаление; видно было, что они речью сей весьма тронулись.
Но когда наш Алексей, приняв ее от переводчика на курильском языке (конечно, уже не в том виде), начал нам переводить, то признался, что ему говорено так много и так хорошо, что он и половины не умеет таким образом пересказать, но постарается изъяснить нам только главное содержание речи, к чему все наше дело клонится и чему мы, конечно, порадуемся. «Генерал {так наш Алексей величал буньиоса, ибо в том краю сим названием именуют камчатского областного начальника: должность сию с 1799 года по 1812 год отправляли генерал-майоры} говорит, – продолжал Алексей, – что японцы такие же люди, как и другие, и что у них также есть сердце, как и у других, а потому мы не должны их бояться и тужить; они дело наше рассмотрят, и если увидят, что мы их не обманываем и о своевольных поступках Хвостова говорим правду, то японцы нас отпустят в Россию, наделят пшеном, сагою и другими съестными припасами, а также одарят разными вещами.
Но между тем будут они стараться, чтоб мы ни в чем не имели нужды и были здоровы, почему и просят нас, чтоб мы не печалились много и берегли себя, а если в чем имеем нужду, как то в платье или в какой особенной пище, то чтобы не стыдясь просили». Мы поблагодарили буньиоса за его утешение и обещание оказать нам справедливость; тогда он ушел. Перед отходом своим он поклонился чиновникам, и они ему точно таким же образом, как и прежде; и коль скоро он начал вставать, то оруженосец его свиты, взяв саблю его по-прежнему в платке за конец и подняв оную эфесом вверх, понес за ним. А по выходе его из зала и нам велено было возвратиться в нашу темницу, куда отвели нас прежним порядком.

Невзирая на необыкновенное и несчастное стечение разных происшествий и обстоятельств, клонившихся к возбуждению в японцах против нас подозрения и ненависти, речь губернатора очень много нас успокоила. Мы думали, что людям, если дьявол в них не вселился, невозможно так искусно притворяться и принять на себя не токмо в словах, но даже в чертах лица, в глазах и в голосе личину искренности и сострадания, какую японцы принимали, когда утешали и обнадеживали нас. Но, с другой стороны, быв взяты в плен коварством и обманом, мы уже имели перед глазами ужасный опыт, над самими нами совершившийся, который подтверждал то, что прежде удавалось нам читать или слышать о восточных народах, а особливо о японцах. От сего иногда мучило нас сомнение, что японцы – народ тонкий и хитрый, конечно, должны знать пользу, могущую для них произойти от нашего между ними пребывания, если им удастся исподволь приучить нас сносить горькую нашу участь и, привыкнув к ней, водвориться в Японии. А потому, думали мы, не утешают ли они нас с намерением, чтоб мы в отчаянии не покусились на жизнь свою и тем не лишили их вдруг способа употребить в свою пользу наши сведения и познания в делах и науках европейских; и в надежде, что время и привычка могут примирить нас с нашим состоянием, они нас утешают пустыми обнадеживаниями.