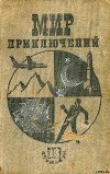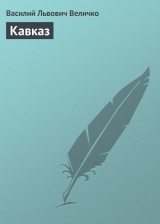
Текст книги "Кавказ"
Автор книги: Василий Величко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Изложенное необходимо иметь в виду при оценке ярких событий последнего времени, наглядно свидетельствующих о том, что в армянской церкви преобладает политический элемент и что в армянских бесчинствах виновно не одно только духовенство, так как они являются делом организации , охватывающей все слои народа, под верховным руководством Эчмиадзина.
Напомню вкратце главнейшие из преждевременных вспышек давно подготовлявшегося армянского мятежа. 13 августа 1903 года, в 7 часов вечера в г. Александрополе убит на улице кинжалом православный протоиерей Василов, на которого армянский революционный комитет негодовал за обращение трех армянских селений в православие. По весьма распространенному на Кавказ обычаю, убийца скрылся бесследно. Незадолго до того наемные убийцы турецких армян закололи кинжалами на одной из станций эриванской железной дороги жителя селения Шагриар эчмиадзинского уезда, Степана Дрампова, подозревавшегося в том, что он выдал двух главных организаторов сбора денег на армянские национальные цели; подозрение неосновательное, ибо действительно главные организаторы дела не то что ходят, а катаются на свободе в дорогих экипажах, пользуются поддержкой среди кавказской и столичной бюрократии, носят почетные звания и для контролирующей власти покуда недосягаемы.
Роль именно турецких армян, достойных питомцев турецкой «школы» и по происхождению полу-курдов, резко выдвигается как в указанных, так и во множестве других преступлений; по сведениям прокурорского надзора, как сообщает эриванский корреспондент «Нового Времени» г. Григорьев, 80% всех совершаемых армянами преступлений совершаются именно турецкими армянами, пополняющими обширный контингент наемных убийц и являющимися предлогом для сбора более или менее принудительных пожертвований на пресловутые «национальные цели».
О единичных убийствах и случаях наглого вымогательства денег, сведения далеко не всегда попадают в печать, так как замешанными оказываются (как, например, в джамгаровском деле) «интеллигентные» сыновья армян весьма зажиточных и обладающих связями в разных учреждениях края. Несомненно однако, что над всем Закавказьем тяготеет гнетущая атмосфера политического шантажа , и это чувствует каждый мало-мальски внимательный обыватель[21]21
Сам покойный В. Л. Величко подвергался и во время редактирования им газеты «Кавказ», и потом до последних дней своей жизни, самым разнообразным проявлениям этого шантажа начиная с анонимных писем, то угрожающих, то истерически-ругательных, и кончая изумительными по своему разнообразию попытками иных шантажных воздействий. – Изд.
[Закрыть].
Долго таившийся социально-политический недуг принял за последнее время столь рельефные формы, что даже кавказской печати мудрено было о них умолчать. Произошло это по поводу Высочайшего повеления 12 июня 1903 года о передаче армянских церковных имуществ в ведение гражданских властей. Выше была подробно выяснена глубокая целесообразность этой правительственной меры, встретившей сильную оппозицию в некоторых из наших влиятельных сфер. Здесь достаточно вкратце повторить, что это мера не противорелигиозная, не противоцерковная, а именно наоборот, так как она является одним из необходимых целебных средств для армянской церкви, помогая этой последней выполнять свою высокую христианскую задачу без отклонения в сторону политических авантюр и непохвальных гешефтов. Это прекрасно понимают те немногие разрозненные и робкие истинные армянские патриоты, которым политический террор теперь зажимает рот. Это поймет и армянская народная масса, когда мало-мальски освободится от гипноза своих самозваных вожаков.
Противники этой меры напрасно полагали, что она, сама по себе , могла вызвать неудовольствие армянской народной массы. Конечно, немалую роль здесь играет степень умелости властей, ее осуществляющих; надо дать понять народу, что средства армянской церкви остаются неприкосновенными и лишь ограждаются от употребления на цели, не имеющие ничего общего с религией. Несомненно, что политические вожаки армян силились доказать народной кассе именно противное и преуспели в своем стремлении лишь потому, что противорусская организация армянского населения сильно подвинулась вперед. Последовавшие затем беспорядки, о которых подробнее будет сказано ниже, явились весьма ценным реактивом , показателем того, что готовилось, назревало и неминуемо вспыхнуло бы при более неблагоприятных для русского дела обстоятельствах. Можно только радоваться тому, что неизбежное случилось преждевременно, и армянская политическая интрига открыла свои карты прежде, чем успела достигнуть более внушительных размеров.
Наглядные признаки тайной армянской организации проявлялись и независимо от таких внешних и случайных поводов, как указанная мера; это доказывается и упомянутыми выше политическими убийствами и другими характерными фактами. Так, например, в Артвинском округе захвачена шайка армян, которой предводительствовал студент Штутгартского политехникума Абрамян; у этих патриотов найдено знамя с надписью «Смерть или свобода», ружья, динамит, разрывные бомбы и т.д.; члены шайки до того проживали в разных городах Закавказья. Шайка направлялась якобы в Турцию, но вряд ли можно сомневаться в том, что она была склонна «поработать» и в русских пределах. К тому же, она далеко не единичное явление: 29 августа 1903 г. в Карсе, в глухом переулке, близ казарм Кубинского полка, в квартире некоего Таноева, американский подданный армянин Джон Нахикьян занимался снаряжением ручных гранат; очевидно, этот патриот и его сподвижники готовились не воевать с курдами, а протестовать посредством динамита и иных взрывчатых веществ против Высочайшего повеления 12 июня. Провидение само покарало этих злодеев: произошел взрыв, от которого они погибли.
Затем из разных местностей Закавказья появляются сведения о вспышках армянского мятежа. В Эривани, Эчмиадзине и окрестных селениях поднялся шум невообразимый. Целые толпы отправлялись к католикосу, требуя, чтобы он протестовал против закона, хотя духовенство признавалось, что в этом требовании не было надобности, ибосигнал к неповиновению закону исходил от самого эчмиадзинского патриарха.
29 августа в Елизаветполе, на окраине города, возле армянской церкви, по звону колокола собралось несколько тысяч армян, которые оттеснили полицию и земскую стражу, отвечая градом камней и револьверными выстрелами на требование разойтись. Подоспевшие на место беспорядков войска вынуждены были действовать огнестрельным оружием, после чего толпа разбежалась, оставив на месте 7 убитых и 27 раненых.
Это событие нашло крайне резкий отголосок в самой столице Закавказья, где сосредоточены и главные местные правительственные учреждения и масса войск. Наглость была проявлена необычайная. По словам правительственного сообщения, 31 августа в Тифлисе после литургии в армянском соборе духовенством в церковной ограде, при двухтысячной толпе, была отслужена панихида по 7 лицам, убитым в Елизаветполе во время совершенных местными армянами беспорядков. После панихиды, священникТер-Араратов провозгласил проклятие („Новое Время" основательно спрашивает: «Кому?! ») за отобрание церковных имуществ.При этом разбрасывались революционные воззвания, толпа шумела, бросала камнями и произвела около 40 выстрелов в чинов полиции. На место беспорядков были вызваны казаки, которые и рассеяли толпу, арестовав 4 зачинщиков и в том числе священника Тер-Араратова.
2 сентября 1903 г. такой же мятеж вспыхнул в Карсе по поводу приема в казенное управление имуществ армянских церквей Сурп-Нишан и Святой Богородицы. Опять-таки по колокольному звону , как описывает «Кавказ», сбежалась большая толпа армян и расположилась вокруг церкви Сурп-Нишан, а также на крышах и внутри соседних домов. На требование полиции и полицейской стражи разойтись толпа ответила градом камней и выстрелами и оттеснила их. Вскоре к церкви прибыли резерв стражи с начальником округа и две сотни Ейского казачьего полка. Все увеличивавшаяся толпа встретила и их камнями и выстрелами. Так как требование разойтись не было исполнено, то стража вынуждена была сделать несколько одиночных выстрелов, после чего ею, совместно с казаками, площадь и дома были очищены от толпы. Войскам пришлось также разгонять толпу армян и от церкви Святой Богородицы, причем арестовано 77 армян, в том числе два священника.
Еще более организованное и ожесточенное сопротивление оказали бакинцы, очевидно, привыкшие более признавать власть своих нефтяных королей, чем русского правительства. Согласно описанию того же «Кавказа», 2 сентября в городе Баку, около 5 часов вечера, по звону колокола , в ограде местного армянского собора собралась значительная толпа армян. На предложение полиции разойтись толпа ответила градом камней и стрельбой из револьверов; стреляли даже из окон самой церкви , вследствие чего были вызваны две сотни казаков и полурота сальянского пехотного резервного полка. Войска были встречены также камнями и револьверными выстрелами, причем толпа укрылась за каменной церковной оградой и в самой церкви; вследствие этого полурота открыла огонь, и толпа, убирая убитых и раненых, скрылась в соборе, который и был оцеплен войсками. Из мятежников было арестовано 45 человек, остальные разбежались. Отобрано и найдено много оружия, причем даже в самом соборе и его алтаре оказались оставленными револьверы, патроны и стреляные гильзы.
В Шуше, издавна славившейся политическим брожением и необычайною наглостью местного армянского элемента сверху донизу, 12 сентября, во время приема церковных имуществ в ведение казны толпа армян также подняла невообразимый шум и с угрозами отправилась к квартире губернатора; войскам пришлось вступить с нею в сражение, не обошедшееся без убитых и раненых. В Шуше духовенство при этом не выдвигалось вперед. Во многих других пунктах передача церковных имуществ происходила столь же неблагополучно. Политические убийства продолжались. В Карсе 9 сентября убит наемными турецкими армянами турок Шариф Лачинбеков, подозревавшийся в нелюбви к армянам и в сообщении о них сведений турецким властям. Убийство произошло в двух шагах от губернаторской канцелярии, причем собравшаяся туда толпа армян помогла скрыться убийце, кстати, ранившему и городового. Потом все эти лавочники и приказчики отзывались полным неведением о происшедшем. Армянство стоит сплошной стеной, покрывая какие угодно ужасы, и даже хвастая некоторыми подробностями преступлений; так например, громко говорят, что за убийство протоиерея православного собора Василова, убийцы получили 25 000 рублей. Ясно, какую роль играют в таких делах армянские денежные тузы.
13 сентября, среди бела дня, в Эчмиадзине турецкими армянами, очевидно, по приказанию их повелителей, убит на базарной площади некий Потоянц, виновный в том, что был в числе понятых во время передачи церковных имуществ в казну и подписал протокол, вопреки угрозам революционного комитета. Это одно из многих политических убийств в данном районе. Население терроризовано , особенно тем, что убийцы и их повелители остаются неоткрытыми и безнаказанными. Характерно, что эмиадзинский монастырь содержит и прикармливает сотни турецких армян, людей разбойничьего вида и образа жизни.
Во всех описанных выше вспышках армянского мятежа бросается в глаза ряд характерных фактов. Во-первых, у армянской толпы, которую обыкновенно считают мирной и робкой, и которая, действительно, от природы труслива, – оказалось много оружия ; стало быть, существовали давно заготовленные склады оружия , свидетельствующие о существовании организации, готовившейся к определенным поступкам. Во-вторых, к месту беспорядков мятежные армяне были призваны колокольным звоном и пришли с оружием в руках, причем в Карсе и Баку заняли своего рода стратегические позиции; стало быть, все было заранее подготовлено. В-третьих, церковь, призывающая колокольным звоном не на молитву, а на резню, церковь, алтарь которой попран орудиями истребления, является не домом молитвы, а очагом зверства и притоном мятежа против законной власти, действующей в духовных интересах этой же самой церкви.
Наконец, 14 октября 1903 г., среди бела дня, на выезде из Тифлиса, близ Ботанического сада, на главноначальствующего гражданской частью на Кавказе генерал-адъютанта князя Голицына, возвращавшегося в экипаже с супругой из загородной прогулки, напали трое негодяев, нанесшие князю несколько кинжальных ран в голову, лицо и руку и пытавшиеся вытащить начальника края из коляски. Князь храбро отбивался палкой и парировал несколько опасных ударов. Казак Сипливенко мужественно вступил в борьбу с нападавшими, был ранен; на помощь подоспели чины земской стражи, а затем казаки. Головорезы бежали по ущелью, отстреливаясь; один из них был убит наповал, а два другие смертельно ранены и умерли в тот же день.
По полученным тогда же из Тифлиса сведениям виновники дерзкого покушения на жизнь представителя Державной власти на Кавказе оказались принадлежащими к низшим классам армянского населения. Вопрос о нравственных виновниках преступления, его мотивах и даже полной обстановке так и остался невыясненным. Часть нашей печати вдобавок проявила либо неосведомленность, либо, в лице печати еврействующей, уже прямо стремление выгораживать из этого темного дела армянскую интригу, сворачивая его всецело на кавказских разбойников. В глазах людей, знающих Кавказ, в таком толковании содержится несомненная натяжка. Впоследствии выяснилось, что убийцы не-русско-подданные армяне, принадлежащие к армянской террористической шайке. Полезно было бы узнать, какие с виду мирные армяне участвуют в ней деньгами или иным способом…
Вообще, более чем пора серьезно вникнуть в роль, которую играют в преступлениях, разбоях, мятежах и прочих язвах кавказской жизни влияние и многомиллионные состояния некоторых богачей с темным прошлым и более чем туманным настоящим. Добросовестное и проникновенное изучение этого коренного для Кавказа вопроса дало бы правительству ключ к очень многим таинственным дверям, за которыми творятся недобрые, пагубные для спокойствия края дела.
После всего сказанного не ясно ли, что закон 12 июня явился мерою более, чем необходимой , т.е. скорее запоздалой, чем преждевременной?
С этой точки зрения, каждый пропущенный год, каждый пропущенный день был чреват печальными осложнениями, потому что армянская революционная организация разрасталась вглубь и ширь. Если бы ей вовремя была поставлена преграда, то не было бы многих лишних и, в основе, жалких жертв недомыслия, революционного гипноза и слепого фанатизма. Так или иначе, жаль этих дикарей, потому что не будь они завлечены своими бездушными вожаками, – они были бы хоть не особенно полезными, но все же мирными русскими подданными.
В государственной политике, когда она имеет дело с большими народными массами, нет ничего более жестокого, как кротость или полумеры по отношению к вожакам, ведущим толпу на путь мятежа. Если бы несколько лет тому назад твердой, властной рукой был изъят из обращения десяток-другой доселе благополучных привилегированных армянских политиканов, – теперь войскам не пришлось бы стрелять. Ловить и наказывать мелких агитаторов, оставляя в стороне главных воротил – значит пытаться вычерпать реку ведрами. Всякое мало-мальски серьезное явление, грозящее бедой, надо перехватывать у самого истока: иначе выходит нецелесообразно с точки зрения государственного порядка и, в результате, жестоко по отношению к народной толпе, платящей кровью за безумие, которое в ней нарастает под впечатлением несвоевременно – мягкого отношения власти к коренным виновникам анархических явлений.
Сказанное сугубо применимо именно к восточным народам. Восток покоряется только грозной силе, справедливой, но непременно грозной. Кротость, порожденную высшими гуманными побуждениями, он считает слабостью. Особенно армянин как народный тип не понимает великодушия , потому что сам к нему решительно неспособен.
В одной из своих передовых статей «Новое Время» говорит, между прочим, по поводу неслыханной наглости мятежного священника Тер-Араратова: «Если некоторым армянским священникам улыбается роль польских ксендзов 1863 г., то разве только их невежество по части русской истории позволяет им не знать дальнейшей судьбы тех, кому Муравьев-Виленский говорил, что при доказанности вины их «не спасет даже и ряса »…
Аналогия верно подмечена: она напрашивается сама собой, с той разницей, что католические ксендзы даже во времена восстания не утратили искры Божьей и не забывали, что они христиане. Большинство же армянского духовенства почти ничего общего не имеет с настоящим христианством.
К какому выводу можно прийти по поводу вышеуказанных прискорбных событий?
Во-первых, как они ни прискорбны, – хорошо, что они произошли раньше, чем армянская революционная организация разрослась бы втихомолку до более крупных размеров.
Во-вторых, обстановка беспорядков и, в частности, наличность значительного количества оружия свидетельствует о том, что организация охватила все слои армянского племени, а не ограничивается одним лишь духовенством.
В-третьих, вопрос не исчерпан , с армянским мятежом не покончено. Мы видели только преждевременно распустившиеся цветочки, а ядовитые ягодки еще впереди. Русскому правительству следует вспомнить слова хорошо осведомленного армянофила Пьера Морана, назвавшего армян опасными подданными. Если они покуда, до удобного для них случая, будут воздерживаться от вспышек с оружием в руках, то их подпольная растлевающая деятельность неминуемо усилится. Надо беречь от них наши учебные заведения. Не подлежит сомнению, что армянские агитаторы будут стараться вовлечь нашу учащуюся молодежь в беспорядки, подобно всегда нашептывающим евреям. Логика этих агитаторов будет хромать, так как, вступаясь перед противоцерковной «либеральной» молодежью за свою церковь, они вынуждены будут напирать на светскую, политическую сторону армянской теократии, т.е. выдадут ее скрываемую ныне истинную сущность. Армянская организация, опутавшая Закавказье и свившая гнезда в обеих столицах наших, будет работать вдвое усиленнее, – растлевать одних, усыплять других и волновать третьих. А когда настанет «час», – мало ли, что может произойти! Ведь не остановились же армянские революционеры перед вооруженным захватом оттоманского банка и бросанием бомб с его крыши! И это в Турции, где коренное население не шутит!..
Конечно, все это можно и должно в значительной мере предотвратить. Для этого необходимы органические , постоянные меры в крае, нужно помешать сбитой с толку армянской интеллигенции зазнаваться. Надо немножко знания дела и твердости.
Преждевременным «показыванием карт» армянская интрига себе повредила, указав на необходимость радикального оздоровления кавказской жизни. Несомненно, что нужна была большая доза самомнения и заносчивости, чтобы совершить подобную ошибку и выдать себя; это могло произойти не иначе, как на почве долгого неуважения к русской власти и государственным законам.
Католикос привык безнаказанно не исполнять распоряжений правительства; армянские богачи, похитители казенных земель, поставщики недоброкачественных продуктов казенным учреждениям, контрабандисты и руководители темных банковских предприятий привыкли к безответственности перед административными и судебными учреждениями; армянские политиканы привыкли открыто проявлять свою наглость, под прикрытием связей в местных и столичных учреждениях; всего нисколько лет тому назад один армянский агитатор, скомпрометированный в деле похищения важного государственного документа, который он имел наглость целиком напечатать в «Times» и в армянской газете «Аравелк», издающейся в Турции, нашел влиятельных заступников и оказался почти безнаказанным[22]22
Ему просто предложили жить в Москве вместо Петербурга, куда он, впрочем, совершенно беспрепятственно весьма часто приезжает.
[Закрыть]; армянская и армянствующая печать много лет пользовалась потворством и проявляла разнузданность, пресекавшуюся неумело и притом большею частью уже после того, как был нанесен весь политический вред , который местная цензура могла и должна была предотвратить. За последние несколько десятилетий закавказская жизнь представляет собой целое море всяческой безнаказанности , т.е. в итоге политической и правовой беспринципности.
Чем раньше проявились острые результаты такого беспорядка вещей, тем лучше, и тем больше чести государственным людям, взявшим на себя почин мероприятий, которые дали столь яркий реактив.
Наглость армянских крамольников объясняется также и беспринципностью некоторых петербургских сфер вообще и, в частности, нелепым толкованием обстоятельств, при которых была проведена реформа управления армянскими церковными имуществами. Любой лавочник в Тифлисе, Эривани или Шуше без запинки рассказывает подробности прений по данному вопросу, происходивших в соответственных государственных учреждениях, причем открыто и многозначительно приводятся имена тех лиц, на моральную поддержку которых армянские крамольники считают себя вправе рассчитывать. Причины и последствия такого возмутительного факта, а также его интимную подкладку мудрено выяснять в печати, но умолчать о нем было бы непатриотично, да и негуманно по отношению к самим армянам, которые могут дорого поплатиться за свое заблуждение.
Ведь они уверены, что у них найдутся в столице влиятельные покровители, могущие достигнуть даже отмены того, что сделано по Высочайшей воле, неспособной к самопротиворечию. В таком нелепом заблуждении их укрепляют распространяемые в крае (и вероятно, вымышленные) цитаты из упомянутых прений, якобы косвенно рекомендующие противиться до последней крайности Высочайшей воле. Это уже прямо какой-то психоз зазнавшихся восточных людей, – и ясно, что лучшим лекарством против такого опасного недуга может служить только честная твердость со стороны выполнителей предначертаний Государя Императора.
Вряд ли есть повод сомневаться в наличности такой твердости у главных руководителей этого дела, столичных и кавказских. Но, помимо этого, необходимо обратить внимание на восточную психологию и на то, чтобы второстепенные местные органы, сообразуясь с этой последней, действовали по строго выработанной программе, неуклонно и систематично. Между тем, по этой части замечается некоторый изъян, нелестный для второстепенных органов кавказской администрации, непосредственно соприкасающихся с делом.
Строго говоря, упомянутая выше реформа не должна была удивить ни наши правящие сферы, ни самих армян. В 90-х годах покойный генерал-адъютант С.А. Шереметев лично говорил мне о целом ряде серьезных данных, побуждающих к ней, и лишь выражал неуверенность в достаточной чуткости и беспристрастии тогдашних петербургских влиятельных кругов. Очевидно, следы упомянутых данных должны существовать и в кавказских, и в центральных столичных учреждениях.
Сами армяне как простые, так и интеллигентные, были крайне недовольны своими церковными порядками. Между священниками и паствой происходили постоянные пререкания на почве экономической. В армянских газетах «Мшак» и «Нор-Дар», во время моего пребывания в Тифлисе, страницы пестрели резкими обличениями против лиц, духовных и светских, управлявших имуществами армянской церкви[23]23
«Мшак» 23-го января 1898 г. по поводу слуха о краже из эчмиадзинской кассы 200 000 рублей говорит, между прочим, следующее:
[Закрыть]. Этих заправил нередко печатно называли ворами без всяких смягчений, но приводя тому убийственно красноречивые фактические основания.
Вот некоторые факты, сохранившиеся в моей памяти, конечно, лишь в общих чертах. Гандзасарское и Хотаванское имения Елизаветпольской губернии, составляющие площадь около 90 000 десятин земли и управлявшиеся монахами, приносили в общей сложности доход армянской церкви менее 50 рублей в год, – не за десятину, а всего ! Находившееся под непосредственным надзором самого католикоса огромное Марцское имение в уездах Борчалинском и Казахском, с богатыми вековыми сосновыми лесами, рудами и пастбищами, размером чуть ли не до 200 000 десятин , приносило доходу от 1-ой до 3-х тысяч рублей. В пользовании этим имением, кроме армянской церкви, являлись еще соучастниками нисколько частных лиц, открыто сетовавших на хищническое обращение с этими огромными богатствами, расположенными близь станции Санаин Карской железной дороги. Столь же варварски управлялось, имение Чарекаванк, в Елизаветпольской губернии. Доходило до того, что, по словам местных представителей министерства финансов, на некоторых консисториях (напр., карабахской), накопились значительные суммы казенной недоимки, а смета Эчмиадзинского монастыря часто заканчивалась дефицитами свыше 100 000 рублей в год.
Ясно, что армянская печать была совершенно права, открыто говоря о воровстве, а также не подлежит сомнению, что этот термин очень понятен практичным армянам всех слоев общества, весьма сведущим в денежных: делах. Население не могло сочувствовать расхищению церковного достояния.
Между тем, на практике, при объявлении закона 12-го июня, эта удобная почва была мало использована местными органами, фактически осуществлявшими правительственное распоряжение. Во-первых, армянскому народу даже не объяснили надлежащим образом, в чем заключается новое мероприятие: не нашлось надежного лица, которое бы популярно, толково и убедительно изложило по-армянски сущность и основания реформ, хотя казалось бы, такое лицо должно было найтись, хотя бы среди чинов местного цензурного комитета. Во-вторых, резкое сопротивление со стороны католикоса и его клевретов придало приему армянских имуществ в казенное управление внешний вид, совершенно не соответствующий истинному смыслу этого оздоровляющего акта. Здесь необходимо отметить, что жители казахского уезда, как мне пишут из Дилижана, обратили внимание на сплошную рубку в огромных лесах Агарцинского монастыря, учиненную перед самою сдачей этого имения в казенное управление ; характерно, что Агарцинским имением заведовал сам католикос. Выходит действие… in fraudem rei publicae. Наконец, увы, приходится признать, что некоторые из второстепенных местных представителей власти, напр. в Эриванской губернии, выполняли свои обязанности по применению нового закона, – выражаясь очень мягко , – без должного к нему сочувствия. Эти люди, популярные в среде армянских политиканствующих плутократов, дорожили прежде всего своими хорошими отношениями с противорусской средой и косвенно могли подать сами повод к неправильным толкованиям меры, не имеющей ничего общего с религиозной нетерпимостью или недоброжелательством к армянскому народу, истинные интересы которого правительством дальновидно ограждаются…
Армянские агитаторы, с духовенством во главе, распространили посредством печатных прокламаций и устных «проповедей» нелепую басню, будто бы правительство желает отнять у церкви св. Григория ее собственность и насильно обратить армян в православие. То, что священник Тер-Араратов еще не понес наглядной и поучительной кары за свою неслыханную мятежную дерзость[24]24
По недавним сведениям, Тер-Араратов был „сослан"… в Кутаис (!), где благополучно волновал более воспламенительные местные элементы уверениями, что его святейшество католикос не позволит русскому правительству его тронуть.
[Закрыть], окрылило такую же дерзость армянских политиканов, к речам которых народная масса еще больше стала прислушиваться. Многие тифлисцы себя спрашивают, каким образом хотя бы прокурорский надзор, вопреки уложению о наказаниях , не обратил внимания на преступление Тер-Араратова, за которое серьезно поплатился бы обыватель любой местности России, да и всякого другого государства?! Можно с уверенностью сказать, что шансы на покушение против князя Голицына значительно уменьшились бы, если бы за упомянутыми вспышками армянской крамолы своевременно последовала строгая репрессия. На Востоке нет ничего вреднее полумер, особенно в минуты народного волнения: полумеры увеличивают наглость, предприимчивость и авторитет вожаков всякого подобного движения.
Весьма характерно, что после злодейского покушения на жизнь главноначальствущего, все общественные учреждения и племенные группы края выразили кн. Голицыну как человеку и представителю русской власти лояльные чувства посредством адресов, молебствий и т. д. Исключение составляют одни армяне , – и можно подумать, что все слои этого зазнавшегося народца солидарны с убийцами.
На деле это, конечно, не так и вопрос сводится к тому, чтобы, с одной стороны, подорвать авторитет самозваных опекунов армянского племени, а с другой – разрушить упомянутую выше басню о посягательстве на армянскую религию. И то, и другое, разумеется, достижимо, особенно, если Петербург, в лице беспринципных своих элементов, не примется парализовать работу властей, стремящихся упорядочить давно запущенные кавказские дела.
На таких беспринципных петербуржцев доселе крепко надеются армянские политиканы. Мне пишут из Тифлиса, что их надежда за последнее время растет, так как они уже дали инструкции «своим людям» для столичных салонов. Приедет сюда какой-нибудь мнимо-грузинский князь или просто посторонний путешественник и станет говорить что-нибудь, вроде нижеследующего:
– Мое дело сторона, я не армянин и армян не люблю, но помилуйте! Благодетельная в принципе реформа проведена несвоевременно , это бестактно и небезопасно, тем более что народ считает и всегда (?!) будет считать это посягательством на свою религию! И католикос ужасно огорчен! Этот добрый старик, преданный России, вынужден (!) противиться новому закону, хотя сердце его полно лояльнейшими чувствами. Лучше всего бы дать ему возможность объясниться… и т.д., и т.д.
Все народности Кавказа придают огромное значение поездкам своих представителей в Петербург, особенно когда эти поездки сопряжены с возможностью личного представления Государю Императору. Понятно, с каким усердием армянские политиканы распространяют теперь слухи о скором приезде сюда католикоса «для личных переговоров», уповая на обычную поддержку своих столичных ходатаев.
Надо желать, ради русского государственного достоинства, чтобы подобные нашептывания не достигли цели. Как выше сказано, своевременность реформы доказывается уже тем, что благодаря ей, обнаружились во всей красе давно выполнявшиеся втихомолку планы армянской интриги. Басня о посягательстве на религиозные или материальные интересы церкви св. Григория рушится сама собою, особенно после того, как армянское население увидит, что, в частности, церковь материально только выиграла и стала на путь духовного оздоровления. Для этого полезна была бы широкая гласность с одной стороны и решительная твердость – с другой.
Необходимо, конечно, также, чтобы местные органы министерства земледелия и государственных имуществ, под угрозой строгого служебного взыскания , ревностно взялись за рациональное хозяйство во вверенных им церковных армянских землях; малейшее упущение с их стороны в данном деле было бы политической ошибкой , которую армянские агитаторы ожидают с нетерпением, надеясь на содействие неверных слуг государства. С этим вопросом шутить нельзя. Роль католикоса в нем более чем ясна, но люди, стремящиеся обелять его, не прочь представлять его жертвой, а не вдохновителем движения, вызванного «несвоевременной», будто бы, правительственной мерой. С этой целью был даже разыгран в гор. Александрополь политический «спектакль» особого рода. Толпа кидала камни в вагон Мкртыча Хримяна, а священник Тер-Ованесов, поднятый толпою на руки, кривлялся и дерзко кричал своему духовному главе, что он должен либо отречься от патриаршества, либо сопротивляться русским властям. Произошло это после семидневного лихорадочного метания Мкртыча I по разным местностям эриванской епархии, где он, с одной стороны, уклонялся от принятия официального известия о новом законе , а с другой – давал своим подчиненным соответственные инструкции… Объясняться католикосу не о чем. Он уже много лет объясняет сущность своего направления достаточно красноречиво, – фактами дерзкого неповиновения правительственным распоряжениям.