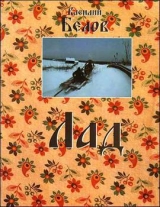
Текст книги "Лад"
Автор книги: Василий Белов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ
ИСКУССТВО НАРОДНОГО СЛОВА
Еще в недавнем прошлом, примерно до 40-х годов нашего века, в жизни русского Севера сказки, песни, причитания и т. д. были естественной необходимостью, органичной и потому неосознаваемой частью народного быта. Устное народное творчество жило совершенно независимо от своего, так сказать, научного воплощения, совершенно не интересуясь бледным своим отражением, которое мерцало в книжных текстах фольклористики и собирательства.
Фольклорное слово, несмотря на все попытки «обуздать» его и «лаской и таской», сделать управляемым, зависимым от обычного образования, слово это никогда не вмещалось в рамки книжной культуры. Оно не боялось книги, но и не доверяло ей. Помещенное в книгу, оно почти сразу хирело и блекло. (Может быть, один Борис Викторович Шергин – этот истинно самобытный талант – сумел так удачно, так непринужденно породнить устное слово с книгой.)
Могучая музыкально-речевая культура, созданная русскими, включала в себя множество жанров, множество видов самовыражения. Среди этого множества отдельные жанры вовсе не стремились к обособлению. Каждый из них был всего лишь одним из камней в монолите народной культуры, частью всей необъятной, как океан, стихии словесного творчества, неразрывного, в свою очередь, с другими видами творчества.
Что значило для народной жизни слово вообще? Такой вопрос даже несколько жутковато задавать, не только отвечать на него. Дело в том, что слово приравнивалось нашими предками к самой жизни. Слово порождало и объясняло жизнь, оно было для крестьянина хранителем памяти и залогом бесконечности будущего. Вместе с этим (и может быть, как раз поэтому) оно утешало, помогало, двигало на подвиг, заступалось, лечило, вдохновляло. И все это происходило само собой, естественно, как течение речной воды или как череда дней и смена времен года.
Покажется ли удивительным при таких условиях возникновение культаслова, существующего в деревнях и в наше время?
Умение хорошо, то есть образно, умно и тактично, говорить в какой-то степени было мерилом даже социально-общественного положения, причиной уважения и почтительности. Для мелких и злых людей такое умение являлось предметом зависти.
Слово – сказанное ли, спетое, выраженное ли в знаках руками глухонемого, а то и вообще не высказанное, лишь чувствуемое, – любое слово всегда стремилось к своему образному совершенству. Само собой, направленность – одно, достижение – другое. Далеко не каждый умел говорить так образно, как, например, ныне покойные Марья Цветкова и Раисья Пудова из колхоза «Родина» Харовского района Вологодской области. Но стремились к такой образности почти все, как почти все стремились иметь хорошую одежду и добротный красивый дом, так же, как всяк был не прочь иметь славу, например, лучшего плотника либо лучшей по всей волости плетей [127]127
Конечно, ни один период в жизни Севера не обходился и без доморощенных геростратов, другое дело, что в разное время количество их, как и общественное положение, было разным.
[Закрыть].
Соревнование – это древнее, пришедшее еще из язычества свойство общественной (общинной) жизни сказывалось, как мы уже видели, не только в труде. Оно жило и в быту, в соблюдении религиозных традиций, в нравственности, оно же довольно живо проявлялось и в сфере языка, в словесном и музыкальном творчестве.
Красивая, образная речь не может быть глупойречью. Умение хорошо говорить вовсе не равносильно говорить много, но и дремучие молчуны были отнюдь не в чести, над ними тоже подсмеивались. Намеренное молчание считалось признаком хитрости и недоброжелательности, со всеми из этого вытекающими последствиями. Так что пословица «слово – серебро, молчание – золото» годилась не во всякий момент и не в каждом месте.
РАЗГОВОР.Когда зло по-змеиному закрадывается между двумя людьми, одни перестают разговаривать,другие начинают говорить обиняками, неискренно, третьи бранятся.Следовательно, ругань, брань – это тот же диалог, только злой. Разговорпредусматривает искренность и доброту. Он возводится в нравственную обязанность. Для того чтобы эта обязанность стала приятной, разговор должен быть образным,красивым, что связано уже с искусством, эстетикой. Сидят два свояка в гостях, едят тещину кашу.
– Каша-то с маслом лучше, – говорит один.
– Неправда, без масла намного хуже, – возражает другой.
– Нет, с маслом лучше.
– Да ты что? Хуже она без масла, любого спроси.
Искусство говорить, равносильное искусству общения, начиналось с умения мыслить, поскольку мысли нормального человека всегда оформлялись в слова. Нельзя думать без слов; бессловесным может быть чувство, но не мысль. Осмысленное же чувство и становилось эмоциональным образным словом.
Мысль человека, находящегося в одиночестве, неминуемо принимала характер монолога, но уже в молитве она приобретала диалогические свойства. Монолог, молитва и диалог с каким-либо объектом природы заполняли сознание, если рядом не было никого из людей. Потребность петь самому или слушать что-то (например, шум леса и пение птиц) также связана с одиночеством. Но стоило человеку оказаться вдвоемкак разговоротодвигал в сторону все остальное.
Не зря жены уходили от молчаливых мужей.
Одинокие старики, и сейчас живущие по дальним выморочным деревням, прекрасно разговаривают с животными (с коровой, козой и т. д.). Хотя такие разговоры больше напоминают монолог, некоторые животные вполне понимают, когда их ругают и стыдят, а когда хвалят и поощряют. И по-своему выражают это понимание.
В северной деревне со времен Новгородской республики существует обычай здороваться снезнакомыми встречными, не говоря уже о знакомых и родственниках.
Не поздороваться при встрече даже с неприятным для тебя человеком было просто немыслимо, а поздоровавшись, нельзя не остановиться хотя бы на минуту и не обменяться несколькими, чаще всего шутливыми словами. Занятость или дорожная обстановка освобождала от развернутого диалога, разговора. Но не поговорить при благоприятных обстоятельствах считалось чем-то неловким, неприличным, обязывающим к последующему объяснению.
Эстетика разговора,как жанра устного творчества, выражается и в умении непринужденно завести беседу, и в искусстве слушать, и в уместности реплик, и в искренней заинтересованности. Но главное – в образности,которая подразумевает юмор и лаконизм. Добродушное подсмеивание над самим собой, отнюдь не переходящее в самооплевывание, всегда считалось признаком нравственной силы и полноценности. Люди, обладающие самоиронией, чаще всего владели и образной речью. Те же, кто не рождался с таким талантом, пользовались созданным ранее, и хотя образ в бездарных устах неминуемо превращался в штамп, это было все-таки лучше, чем ничего. Так, на вопрос: «Как дела?» – заурядным ответом было знакомое всем: «Как сажа бела». Но человек с юмором обязательно скажет что-нибудь вроде: «Да у меня-то добро, а вот у батькина сына по-всякому». Иносказания и пословицы, доброе подшучивание заменяли все остальное в разговоре между приятелями или хорошо знакомыми, как у тех свояков, которые спорили о тещиной каше.
Акиндин Фадеев из деревни Лобанихи как-то на лесном стожье ходил за водой к родничку.
– У тебя чего в котелке-то, не сметана? – спрашивает его потный сосед, который тоже косил поблизости.
Акиндин на секунду остановился:
– Да нет. Вон за водой ходил. Едва не пролил, так напугался.
– А чего?
– Да птица какая-то вылетела, нос в нос. Наверно, кулик.
И мужики снова принялись косить. В их коротеньком разговоре никто бы не услышал ничего особенного, если бы у Фадеева и его соседа не было родовых прозвищ. Акиндина звали за глаза Сметаной, его соседа – Куликом.
– Ну, что ты за человек? – слышится в коридоре совхозной столовой.
– А чего?
– Сухопай получил, а идешь в столовую.
– А не хватает дак!
– Совесть надо иметь…
В этом коротеньком разговоре, может быть, ничего бы не было особенного, если бы стыдили не донжуанистого семьянина, любителя заглянуть в чужой огород. Слово «сухопай», применяемое в такой неожиданной ситуации, многое значит для бывалого человека.
Способность образно говорить, особенно у женщин, оборачивалась причиной многих фантастических слухов. Любой заурядный случай после нескольких изустных передач обрастал живописными подробностями, приобретая сюжетную и композиционную стройность. Банальное, плоское, документально-точное и сухое известие не устраивало женщин в их разговорах.
Почти всегда в таких случаях благоприобретенный сюжет служил для выражения нравственного максимализма народной молвы.
ПРЕДАНИЕ.Образной может быть не только речь, образной может быть и сама жизнь, вернее, ее быт. Хозяйственный расчет, точность и бытовая упорядоченность в хорошей семье обязательно принимали образно-поэтическую форму. Элементы фантастики, как известно, отнюдь не чужды народной поэтике. Приметы и загадывания, реальные и фантастические, перемежались, сменяли друг друга в течение суток, недели, наконец, года.
Конечно, вовсе не обязательно твердо и бесповоротно верить в приход гостя, если из топящейся печи выпал уголь. Сорока, прилетевшая поутру к дому, тоже предвещает приход или приезд кого-то из близких. Но и самый заядлый рационалист вспомнит при этом либо дочь, ушедшую замуж, либо сына, взятого на войну. И вдруг, бывает же и так, не успели вынуть из печи пироги, как у крыльца и впрямь фыркнула лошадь, заскрипели полозья саней. Вот и не верь после этого в приметы! Однако же можно в них и не верить,но они все равно остаются в народном быту. И разве без них богаче была бы жизнь?
Пение курицы – примета страшная, предвещающая смерть в доме. Мужчины редко верили в такую примету, но все-таки брали топор и отрубали поющей курице голову. По содержанию действие это – обычный рационализм (неестественно, когда поет курица). По форме – фантастический образ, почти обряд (смертью свихнувшейся курицы подменяется возможная смерть кого-то из близких). При этом вовсе не обязательно быть человеком, искренне верящим в дурные приметы…
Бытовая поэзия, образность житейской повседневности сопровождала и отдых, и труд, и общение с людьми. Например, кто из серьезных мужиков, приехавших на ветряную мельницу, верит, что ветер можно призвать подсвистыванием? Но подсвистывают, хотя бы и в шутку. Нельзя позволять, чтобы у тебя обметали ноги, когда сидишь на лавке, по примете – не сможешь жениться. В эту милую глупость мало кто верил, и все-таки старались убирать ноги подальше. Примерами образногообычая могут служить кувыркание при первом громе, свадебные приметы, топка бани и т. д. Даже способы запрягать коня и то, как он себя ведет при этом, обнаруживают ритуальные, образно-поэтические детали.
Но из таких деталей состояла вся жизнь.
Бытовая образность не зависела от образности речевой, скорее наоборот. В таких условиях и немые и косноязычные пользовались образными богатствами и сами пополняли эти богатства. Что же сказать о тех, кто составляет большинство, кто обладает величайшим и счастливейшим даром – даром речи?
Поэтическая обкатка реальных происшествий, образное преувеличение в обрисовке повседневных случаев заметны уже в разговоре (монолог, диалог, беседа). Предание,легенда, сказание рождаются из подлинного события. Прошедшее через тысячи уст, это событие становится образом. Предание, пережившее не одно поколение, растет, словно жемчужина в раковине, теряя все скучное и случайное.
Одной из жанровых особенностей предания является свободное смешение реального и фантастического, их превосходная уживаемость в самой непосредственной близости друг от друга.
Предания, начиная с семейных, великолепно иллюстрируют географию всего государства. В каждой деревне есть какое-то свое предание, связанное, например, с «пугающими» местами, с любовными историями, с происхождением того или иного названия и т. д. Волости, а то и всему уезду, известны предания о более глобальных событиях, связанных с войной, мором или исключительными природными явлениями, такими, как предание о каменном дожде, выпавшем под Великим Устюгом. Наконец, существовали и такие предания, которые имели отношение к жизни всего государства, например о войне новгородцев с теми же устюжанами.
Новгородцы будто бы подплыли к Устюгу и потребовали «копейщины» – откупа за то, чтобы не быть взятым на копье. Устюжане не дали, и тогда новгородцы начали грабить около города. Они захватили в посадской церкви икону Одигитрию и хотели уплыть, но лодку с иконой нельзя было сдвинуть с места никакими усилиями. Тогда старый новгородец Ляпун сказал:
– Полонянин несвязанный не идет в чужую землю.
Связали икону убрусом и только тогда отчалили. По преданию, многих новгородцев в пути начало корчить, иные ослепли. Новгородский владыка повелел возвратить икону и награбленное добро, что и было сделано [128]128
Костомаров Н. И. Собр. соч. С.-Петербург, 1904, т. 7, с. 85.
[Закрыть].
Знаменитое предание о невидимом граде Китеже также можно отнести к разряду общенациональных.
Художественная сила местных преданий зачастую не менее полнокровна. Темы их очень разнообразны. Чаще всего это истории о вернойлюбви и о наказании за измену, рассказы о местных разбойниках и чужеземных захватчиках. Так, почти в каждом регионе обширного русского Севера живы предания о Смутномвремени, о шайках Лисовского, о чудесных избавлениях деревень и селений от кровожадных набегов врагов.
Весьма интересны и предания об известных личностях, например, о царе Петре, несколько раз проплывавшем по великим северным рекам – Сухоне и Двине.
Из преданий, рожденных сравнительно недавно, можно упомянуть изустные рассказы, например, о летчике Чкалове. И если Валерий Чкалов, исторически-конкретная личность, приобрел в народных устах черты легендарные, художественные, то Василий Теркин, наоборот, из литературно-художественного образа превратился в человека, реально существовавшего [129]129
Автор сам несколько раз был свидетелем разговоров о Теркине как о реально существовавшем лице.
[Закрыть]. Чем хуже одно другого? Не так уж и многие литературные герои удостоены такой чести!
Предания о мастерстве и мастеровых людях, описываемые таким прекрасным гранильщиком народного слова, как Павел Бажов, существовали и существуют повсюду, в том числе и на Севере. Плотник Нестерко, закинувший свой топор в Онего, кузнец, сковавший железные ноги искалеченному на войне родному брату, ослепшая кружевница – все это персонажи старых и новых сказаний.
БЫВАЛЬЩИНА.Такое состояние, когда человек скучает и не знает, чем ему заняться, совершенно исключалось в крестьянском быту. Тяжелый труд то и дело перемежался, сменялся легким, посильным для стариков и детей, полевые работы – домашними; чисто крестьянские занятия прослаивались промыслами. Монотонность многих трудовых действий скрашивалась песнями, играми, столбушками на беседах. Граница между трудом в его чистом виде и развлечением в таких случаях зыбка и неопределенна. Но во время настоящего отдыха от тяжелого физического труда, всегда в той или иной степени коллективного, в промежутках между работой и сном затевались и нарочитые, специальные развлечения. К числу таких развлечений можно отнести рассказывание бывальщин, бухтин, сказок.
Такое рассказывание, как и песни на супрядках, могло сопровождаться трудом: плетением корзин и лаптей, вязанием рыболовных снастей, шорничанием и т. д. Но это в том случае, если рассказчик находился дома, в обычных условиях.
За пределами дома, на дорожном ночлеге, в лесной избушке (во время рубки леса или «а сенокосной залоге), ночуя в сплавном бараке, на рыбной тоне, на богомолье, на ярмарке, в доме крестьянина, люди занимались бывалыцинами «натодельно», то есть нарочно, не сопровождая это ручным трудом.
Особенно поражали такие бывальщины детское воображение, еще не тронутое ржавчиной критического недоверия. Представим зимний вечер в теплой и дымной зимовке, где тот, кто хочет спать, спит, а тот, кто хочет слушать, слушает. Ворота открыты, любой из соседей может уйти или зайти когда вздумается. Пока есть лучина, фантазия и сюжеты, никто не расходится. Перемогая сон, затаив дыхание, дети слушают рассказы про колдунов и про ведьм, глаза смежаются, а сердце замирает от страха, голос рассказчика течет ровно и буднично, и только трещит и стреляет березовая лучина.
В другой раз, когда тебя впервые взяли в дорогу, ты просыпаешься в незнакомом месте, и в темноте слышится тот же ровный, глуховатый и будничный голос. За стеной избушки шумит лесной ветер, кто-то из слушателей храпит не в такт рассказчику. Бывальщина вплетается в твой сон, и утром ты не можешь разобрать, что приснилось, а что услышано.
В святки, набегавшись по морозу, завалишься с двумя-тремя товарищами в избушку при обширной колхозной конюшне, где висят на штырях хомуты и седелки, преет, высыхая после дневных трудов, потный войлок, топится печка и на шубе, расстеленной на деревянном топчане, сидит рассказчик. Впрочем, ты и сам в любую минуту из слушателя можешь превратиться в рассказчика, намолоть языком что хочешь, и тебя тоже будут слушать. На первый раз. А вот будут ли во второй?
Или приедешь на водяную мельницу с ночлегом. В ожидании своей очереди забудешься от усталости и от комариного звона, задремлешь, а то и уснешь намертво. И вдруг проснешься от того же ровного, слегка глуховатого голоса: «Вот, братец ты мой, я уж тебе сознаюсь, я того дни перед нимпровинился маленько, а вечером чего-то меня разгнело-разморило, ко сну вот меня клонит. Я, значит, ячменю колхозного полон кош насыпал, а на другом поставе толклось три ступы овса. Помольщик спит. Омбар запер да и пошел в избушку. Тяпушки похлебал, а меня вот гнетет, вот гнетет. Думаю, сичас встану и пойду, а сам ни рукой, ни ногой. Вдруг лошадь как даст в стену копытом. Я встать не могу, как прикован, она опять как даст, да так три раза. А я сплю, и помольщик спит. Пробудились, а заря в половину неба. Я, братец ты мой, кинулся к мельнице, думаю, от жерновов остались одне огрызки. Гляжу, а колесо стоит, вода остановлена. И лоток сухой. А в том поставе песты знай бухают. Вот как онменя проучил-то. Я его обругал, а онеще и добром ко мне…»
Бывальщина целиком зависела от характера и жизненного опыта рассказчика. Но не все бывалые люди умели талантливо рассказать то, что с ними где-то произошло. Иные же, обладая меньшим жизненным опытом, рассказывали намного лучше. Талант рассказчика нередко сочетался с талантом мастерового, были и прирожденные рассказчики, вдохновлявшиеся во время беседы. Они выдумывали сюжет на ходу, образы являлись в рассказе неожиданно для них самих. Добавляя к реальным фактам нечто свое, образное, фантазируя и сочиняя, они постепенно и сами начинали верить в то, что рассказывали. После нескольких повторений фантастический образ закреплялся, становился для импровизатора как бы реально случившимся фактом…
В отличие от преданий бывальщина жила ровно столько, сколько минут ее рассказывали, но тот или иной сюжет или ход мог всплыть по любому поводу и в любом месте. Кочующие сюжеты теряли, однако, свою прелесть. Прирожденный рассказчик сюжетно редко повторял других или сам себя, хотя образный индивидуальный язык делал чудеса даже и с самым затасканным сюжетом.
По жанрам бывальщины можно разделить на охотничьи, рыбацкие, военные, любовные, о колдунах, видениях и т. д., но такое деление было бы очень условным. В любой группе бывальщин могли оказаться элементы соседней группы и даже не одной, а нескольких, реалистические образы могли чередоваться с фантастическими, поскольку все зависело от таланта рассказчика, обстоятельств во время импровизации и от состава слушателей.
По пристрастиям, по преобладанию бытового материала не всегда можно было угадать профессиональную принадлежность рассказчика. Так, сюжет о собаке, оставленной охотником один на один с медведем, мог родиться и в среде, далекой от охоты [130]130
Смертельно раненная собака приползает домой и хватает за горло хозяина, принесшего ей миску с едой. Впервые этот сюжет услышан автором от уральского писателя Михаила Лаптева.
[Закрыть]. Большое число бывалыцин создавалось на основе видений,так называемой блазни.Поблазнило – значит показалось, померещилось, случилось нечто сверхъестественное, нездешнее. Бытовые детали таких видений бывают настолько реалистичны, точны и образны, что не верить в рассказ очень трудно. Бывали, с другой стороны, и вполне документальные, невыдуманные бывальщины, пульсирующие у самой кромки фантастического, потустороннего. Если в этом смысле вспомнить литературу, то рассказ И. С. Тургенева «Стучит» – лучший пример. Будучи сам полностью реалистом, писатель как бы оставляет возможность и фантастического толкования обстоятельств: читатель-скептик услышит в тургеневском рассказе стук обычной телеги, а читатель с фантазией – грохот дьявольской колесницы. Кстати, в большой группе народных фантастических бывальщин как раз и используется сюжет с лошадьми, то скачущими в пределы потустороннего, то угоняемыми нечистым, отбирающим вожжи у пьяных возниц и т. д.
Почти все сюжеты гоголевских «Вечеров» да и сам образ рыжего малороссийского пчеловода очень близки русскому Северо-Западу. Таких пасечников кое-где на Севере можно встретить еще и теперь. Родство гоголевских историй с северными бывальщинами удивительно. Вспомним рассказ о дочери сотника и ее мачехе. Страшная кошка с воем исчезла, когда падчерица ударила ее отцовской саблей. Мачеха появляется наутро с завязанной рукой. Тема оборотня с подобным сюжетом звучит и во многих северных бывальщинах, но вместо мачехи может быть колдун, вместо кошки – волк, а сабля может стать хлебным ножом или серпом. Интересно, что в таких рассказах вовсе не каждый раз добрые силы побеждают и торжествуют, хотя нравственная направленность всегда ясна и определенна. У мужика, который в молодости сбросил церковный колокол, начинают сохнуть руки, изменивший своей невесте парень «сгорает» от вина, спивается до смерти и т. д.
Художественная сила народных бывальщин достигает своих пределов как раз на неуловимых стыках реального и фантастического. Плясали, плясали девицы с какими-то уж очень нахальными чужаками, и вдруг один наступил девушке на ногу. Но поскольку каждая деревенская девушка знает разницу между копытом и человеческой ногой, она тут же сообразила, что это за чужаки.В других случаях ничего вроде бы сверхъестественного не происходит, например, дедушка-странник, которого пустили ночевать, накормили и напоили, в благодарность за все это увелиз дома всех тараканов. А то вдруг женщина никак не может затопить печь поутру, и выясняется, что причина тому некий ночной грех. Фривольность многих бывальщин нейтрализуется общей нравственной интонацией. Так, оказалось, что неверный муж, взявший у жены деньги на прелюбодейство, имел дело не с бобылкой-соседкой, а со своей же супружницей. Утром, хвалясь перед ним заработком, жена приговаривает: «Сено продадут, дак еще дадут».
Военный фольклор также богат короткими занимательными рассказами. Чудесные истории с часовыми, стоящими на посту, рассказы о нечистой силе, противостоящей солдатской хитрости, перемежаются здесь подлинными эпизодами и интересными случаями, которыми изобиловал фронтовой и солдатский быт.
СКАЗКА.Как любил сказку А. С. Пушкин! Его гений освобождался от младенческой дремы под сказки Арины Родионовны. Его первая юношеская поэма была создана целиком на сказочных образах. Да и дальше талант великого поэта креп и мужал не без помощи русской сказки.
Народная философия со всеми ее национальными особенностями лучше, чем где-либо, выражается в сказке, причем положения этой философии, звучавшие когда-то просто и ясно, зачастую не доходят до нас. Понятна ли, к примеру, нынешнему читателю мысль, выраженная в сказке об Иване Глиняном? Несомненно, многие сказочные истины, подобно ярчайшим краскам, записанным позднейшими иконописцами, терпеливо ждут своего второго рождения.
Своеобразие фольклорного жанра обусловлено своеобразием народного быта. Жанр умирает вместе с многовековым национальным укладом. Мастерство сказочников и рассказчиков исчезает точно так же, как профессиональное мастерство исчезает вместе с экономическим упразднением той или иной профессии.
Современная жизнь сказки почти целиком сводится к прозябанию в фольклорных текстах, она ограничена книжной культурой. Цельность даже и такого существования постоянно разрушается театром, кино и телевидением с помощью так называемых «авторских» текстов. Заимствование сказочных образов и сюжетов современными драматургами и сценаристами очень сильно смахивает на плагиат, поскольку используются готовые сюжеты, характеры и образы. Что же, выходит, каждого, кто использует в своих писаниях фольклорный материал, надо судить в уголовном порядке? Вопрос этот звучит несколько радикально. Но он заставляет слегка задуматься, задуматься хотя бы над тем, что пушкинский Балда – это одно, а Балда или Иван-дурак современного записного телевизионщика – совсем другое. Сразу вспоминается и то, что даже такие большие писатели, как Алексей Толстой, не путали литературную запись (обработку) фольклорного материала с индивидуальным творчеством.
Но оставим на совести литературных критиков вопрос о том, где плагиат, а где подлинное творчество. Посмотрим, что остается от фольклорного жанра после «свободного заимствования», после того, как режиссеры, сценаристы и писатели растащили народную сказку по экранам, телеэкранам, по сценам ТЮЗов, кукольных театров и т. д.
Как это ни удивительно, а Ивану-дураку, Емеле и другим героям народных сказок от этих заимствований в общем-то ни тепло и ни холодно, они остаются сами собой даже тогда, когда на экранах и сценах появляются тысячи фальшивых, самозваных Емель и Иванов. Лишь при появлении шукшинского Иванушки подлинный Иван удивленно вскинул брови и как бы произнес: «Этот вроде бы я». Сказал и тут же снова исчез. Где же он спрятался? Может, за библиотечными стеллажами? Вряд ли…
Что там ни говори, а первый удар по русской народной сказке нанесен не теперь. И нанес его именно библиотечный стеллаж. Дело в том, что народная сказка на экране или на сцене – это не сказка, напечатанная и прочитанная, это тоже всего лишь полсказки. Настоящая сказка живет только там, где есть триединство: рассказчика, слушателя и художественной традиции. Все эти три, так сказать, величины постоянны, и каждая одинаково необходима. И если слушатель народной сказки может быть коллективным, то на этом и кончается сходство его с радиослушателем, зрителем в театре, телезрителем. Коллективного же рассказчика (театр) да еще анонимно-условного (радио, телевидение) в жизни сказки не может быть, это вообще противоречит ее природе.
Шедевры народной поэзии, в том числе и в сказочном жанре, рождались в такой бытовой среде, которая и сама в своем устойчивом стремлении к совершенству была достаточно художественно организована. Как видим, быт северного крестьянства сохранял это свойство, несмотря на все сюрпризы истории. И лишь после войны эта художественная организованность народного быта начала исчезать, она начала исчезать вместе с исчезновением тысяч деревень и подворий, вместе с гибелью на фронтах Великой Отечественной наиболее жизнедеятельной части населения.
Во время войны в Тимонихе как-то несколько ночей ночевал Витька-нищий-мальчик лет десяти. Он был круглый сирота, но кто-то, может быть дальние родственники, внушил ему такую мысль: ночуя в чужих людях, надо рассказывать сказки. Разжиться не разживешься, а прокормиться сумеешь. Невелик был репертуар у мальчишки, всего одна сказка… Но как же он старался!
Сказочный герой, преданный родными братьями, брошенный в пропасть, попадает в тридевятое царство. Тоскуя по родине, он бродит по пустынному морскому берегу. Поднимается ужасная буря, повергнувшая на берегу могучий дуб, на котором свито гнездо улетевшей на промысел Ногай-птицы. Юноша спасает от бури малых птенцов, и в благодарность Ногай-птица соглашается вынести его из тридевятого царства. Соглашается с тем уговором, что он будет кормить ее в долгом пути. И вот они летят все выше и выше… Он бросает ей куски бычьего мяса, но пища кончается, когда уже виден край белого света. Ногай-птица, обессиленная, готова рухнуть. Он отрывает свою левую руку и бросает ей, но этого мало, и тогда он рвет по частям свое тело и кормит птицу, чтобы сохранить ей силы.
Сказка заканчивается счастливо: Ногай-птица «отхаркивает» человеческую плоть, и тело срастается, обрызганное сначала мертвой, затем живой водой.
А бывало ли так в действительности?
Витькины плечи были слишком хрупки, чтобы выдержать всю грандиозную тяжесть жанра. В Тимониху, как и в тысячи других деревень, не возвратилось с войны ни одного мужчины…
Сказочная поэзия являлась естественной необходимостью всего бытового и нравственного уклада. Творчество сказителя было необходимо среде, слушателям, всему миру. Это вовсе не значит, что эстетическая потребность в сказке удовлетворялась как попало и где попало. Сказка возникала сама собой, особенно в условиях вынужденного безделья: в дорожном ночлеге, во время ненастья, в лесном бараке, а то и в доме крестьянина. Архангельские поморы, уходя в долгое опасное плавание, нередко брали с собой натодельногосказочника, пользовавшегося всеми правами члена артели. То же самое можно
было наблюдать во многих плотницких артелях: умение сказыватьдавало негласную компенсацию одряхлевшему либо искалеченному плотнику. В зимнее время, когда не надо никуда торопиться, по вечерам слушать и рассказывать сказки собирались специально,устраивались даже своеобразные турниры сказочников. Здесь обретались популярность и слава, проступали индивидуальные свойства: пробовали силы начинающие, выявлялось косноязычие пустобрехов и никчемность вульгарщины.
Так же, как умение разговаривать, умение рассказыватьприобретало некую обязательность, хотя никто тебя не осудит, если ты не умеешь рассказывать (как осуждают за то, что не умеешь сделать топорище, и слегка подсмеиваются, если ты дремучий молчун), никто не станет насмешничать. Но все равно лучше было уметь рассказывать, чем не уметь.
Нищие и убогие, чтобы хлебный кус не вставал в горле, рассказывали особенно много, хотя никто не отказывал им в милостыне и без этого.
Некоторые сказки объединяют в себе свойства и бухтин и бывальщин. Нежелание следовать канону приводит рассказчика к смешению сказочных сюжетов с сюжетами бухтин, преданий, бывалыцин, всевозможных интересных происшествий. Вот как начинается «Сказка про охоту», записанная в Никольском районе Вологодской области. «Я человек, как небогатый, продать было нечего, обдумал себе план, где приобрести денег на подать. Согласил товарищей идти в лес верст за сто с лишком, в сузем, в Ветлужский уезд, ловить птиц и зверей… Время было осеннее, в октябре, так числа семнадцатого».
Полная бытовая достоверность и документальные подробности в сочетании с невероятными событиями вызывают особый эмоциональный эффект. Слушатель не знает, что ему делать: то ли дивиться, то ли смеяться. Подобный фольклор не поддается никакой ученой классификации.








