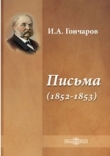Текст книги "Ночь на 28-е сентября"
Автор книги: Василий Вонлярлярский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
– Ah! Dieu des dieux! C'est inimaginable![58]58
Господи боже мой! Это невообразимо! (фр.)
[Закрыть] – проговорила с гримасою Антонина так громко, что Купер повернул голову в нашу сторону, – если бы ты знал, Купер, если б ты мог представить себе!..
– Что такое? – спросил Купер с беспокойством.
– Нет, plus tard, plus tard![59]59
Потом, потом (фр.).
[Закрыть]
Но Купер встал уже, подошел к Антонине и, после долгих увещаний с одной стороны и жеманств – с другой, братец и сестрица вышли в другую комнату и несколько минут спустя возвратились обратно с улыбками на устах.
– Не может быть! – говорил Купер.
– Mais je t'assure, – повторила Антонина, – mais je te dis que oui![60]60
Но я тебя уверяю... но я говорю тебе, что да! (фр.)
[Закрыть]
Взгляды их устремлялись на меня, но я выдержала роль свою до конца. Надобно тебе сказать, что мне в голову пришла такая оригинальная мысль, которую оправдать может одна только пословица, что от высокого до смешного один шаг. Я замыслила внушить ревность Купера предпочтением Авдея Афанасьячи и, поссорив их, вооружить друг против друга. О пользе, которую надеялась извлечь из этой ссоры, умолчу пока; в успехе же предприятия сомневаться нельзя, потому что Купер начинает уже искоса поглядывать на гостя и обращать в смех его действительно странные выходки. Я внутренне торжествовала. Авдей Афанасьич прибыл к нам надолго, кажется; собак его, как я узнала, поместили в одном из новых строений близ Днепра; он же сам расположился, по собственному желанию, в бане – забавная идея!
Надобно быть мною, ma chиre, чтоб от самого утра до четырех часов, то есть до обеда, не отставать ни на шаг от Авдея Афанасьича, водить его по саду, смотреть каждую из собак его порознь, превозносить охотников, одетых в светло-зеленые костюмы, обшитые желтою тесьмою, лошадей страшно уродливых, и согласиться быть его дамою на первой охоте, в которой папa позволит мне участвовать. Разумеется, мы этого позволения не дождались бы никогда, но все равно. Купер, привилегированный Купер верил всему и, несмотря на высокий и выспренний ум свой, совершенно вдался в обман. За обедом я поместила Авдея Афанасьича возле себя; поэт занял место по другую сторону; Антонина, наблюдавшая за мною, несколько раз принималась хохотать очень ненатурально, но глаза ее метали пламя, и чувствительная сестра Купера шла его же стезею. Как мне было весело, тем более что в комедии, по-видимому, участвовал сам папб; вниманию его к гостю не было границы: он наливал ему вино, упрашивал повторять блюда и делал с Авдеем Афанасьичем то, чего никогда и ни с кем не делал.
По выходе из-за стола я сама предложила гостю руку, и все общество вышло на балкон. Мы сели; Купер подошел ко мне сзади.
– Вы сегодня в самом счастливом расположении духа? – сказал он вполголоса.
– Да, мне очень весело, – отвечала я громко.
– Этою веселостью обязаны мы, если не ошибаюсь, Авдею Афанасьичу?
– Может быть.
– Я не узнаю вас, кузина.
– Право?
– Прекрасный пол ваш соединяет в себе иногда так много противоречий...
– Вы думаете?
– Но укажите мне средство сомневаться, смотря на вас, кузина! Что за блеск в глазах ваших? они дышат пламенем.
– Вы находите?
– Не я один.
– Кто ж еще?
– Многие... все.
– Да?
– Но когда подумаешь о двигателе?...
– Чего?
– Веселья вашего, кузина!
– То что же?
– Невольно вспомнишь о чарах, о магических средствах, употреблявшихся в фабюлезные времена сатирами для привлечения нимф.
– А сатир этот?...
– Кто же, как не Авдей Афанасьич!
– Следовательно, нимфа – я, mon cousin. Благодарю за сравнение, но протестую: родственник наш нимало не похож на сатира, и магические способы привлечения, полагаю, ему не нужны.
– Ему, чтоб нравиться? – спросил Купер с улыбкою глубочайшего презрения.
– Конечно, ему, mon cousin.
– Нет, послушайте, кузина, или вы меня дурачите, или глаза мои созданы исключительно для духовного мира, в котором родственнику нашему, как вы называете его, назначена уже, конечно, незавидная доля.
– В мире духовном – может быть, – отвечала я с видом оскорбленного самолюбия, – но на прозаической земле...
– Что же кузина? докончите.
– Зачем? Мнения могут быть различны, и друг ваш...
– Какой друг?
– Друг ваш, Авдей Афанасьич.
– Он? мой друг?
– Так по крайней мере называли вы его вчера.
– Par dйrision![61]61
В насмешку! (фр.)
[Закрыть]
– Не знаю, par derision или нет; но Авдей Афанасьич хотя и не поэт, а все-таки имеет полное право рассчитывать на частицу земного счастия.
– Быть любимым, например?
– Не страстно, но по-земному.
– И порядочною женщиною?
– Конечно, порядочною.
– Невозможно! – воскликнул Купер.
– Вы себе противоречите, mon cousin.
– Чем же, графиня?
– Не вы ли говорили мне о страсти, внушенной родственником вашим какой-то прелестной девушке?...
– Дочери мещанки, – перебил Купер.
– Все равно; если дочь мещанки в то же время внушила страсть Старославскому, то она девушка не совсем обыкновенная; а, предпочитая Авдея Афанасьича, не доказала ли она тем, что Авдей Афанасьич предпочтительнее Старославского?
– Я не говорил, что дочь мещанки внушила страсть Старославскому.
– Но не он ли увез ее?
– Он мог увезти без всякой страсти, по капризу.
– Не верю.
– Даже не по капризу, а по другим причинам.
– Я этих причин не допускаю, – отвечала я с настойчивостью, которая начинала выводить из терпения поэта, – поступок Старославского может быть извинен только любовью к этой девушке.
– Как, графиня, вы сравниваете Старославского с этим полипом?
– Нет, потому что тот, кого вы называете полипом, предпочтен Старославскому.
– Вами предпочтен?
– Я не сказала этого, но...
– Вы говорите, но... достаточно, очень достаточно!
И покрасневший до ушей Купер снова бросился к Антонине, и новое совещание совершилось в темных аллеях сада.
Надобно заметить, что об успехах своих не имел Авдей Афанасьич ни малейшего понятия. Не обращая внимания на гнев Купера, на иронию Антонины, гость закурил, с моего позволения, огромную белую с цветочками трубку и принялся препрозаически дремать, прислонясь к колонне на одной из нижних ступеней крыльца. «И этот человек прибыл издалека в Скорлупское с местью в сердце!» – подумала я. Или я очень неопытна в системе Лафатера, или Купер поэт в полном смысле этого слова. Чувствуя еще некоторую слабость, я оставила задремавшего Авдея Афанасьича и родствеников своих и отправилась в свою комнату. Был час восьмой вечера, когда, лежа на диване, я заметила, что гардины окон моих приходят в движение; на дворе было тихо, и движение это не испугало, но удивило меня до крайности. «Неужели Купер?» – подумала я. Правда, поэт способен на все, выходящее из общего порядка; но предо мною между гардинами явился не поэт, а Жозеф.
– Que me voulez-vous?[62]62
Что вам угодно? (фр.)
[Закрыть] – спросила я с удивлением.
– Excusez, ma chatelaine, mais je viens vous prйvenir, que dans une heure la lutte commence.[63]63
Извините, хозяйка, я пришел предупредить вас, что через час начнется борьба (фр.).
[Закрыть]
– Quelle lutte?[64]64
Какая борьба? (фр.)
[Закрыть]
– Mais la lutte du savant avec le monstre,[65]65
Борьба ученого с чудовищем (фр).
[Закрыть] – отвечал, смеясь, Жозеф и растолковал мне, что через час остановят Днепр и завтрашний день на место реки появится море.
Выслушав француза, я набросила на плечи мантилью и побежала к отцу; он встретил меня в зале, в сообществе всех гостей, и подтвердил слова Жозефа, приглашая нас присутствовать при окончательной борьбе с страшным соперником – Днепром.
Купер, конечно, назло мне подал руку Антонине, но я, как бы не замечая этого, подошла к Авдею Афанасьичу. Гость сделал глисаду, снял картуз, не догадываясь, в чем дело; но я без церемонии протянула ему руку, и мы открыли шествие. На пути повстречались нам толпы крестьян, вооруженных лопатами, вилами, топорами и длинными палками. Все они присоединились к нам и составили собою бесчисленный арьергард.
Оба берега Днепра равно усеяны были народом; в том же месте, где между двух длинных земляных насыпей поставлен был так называемый сруб, или нечто вроде деревянного строения, машинист ожидал нас с толпою избранных им, то есть самых надежных и ловких людей. Сильно забилось мое сердце при виде всех этих приготовлений. Я не понимала еще хорошенько, как приступят к приостановлению реки, но мне сделалось страшно за людей, которые казались так ничтожными в сравнении с этою массою воды, катящейся хотя медленно, но грозно и величественно. Папa хотя и улыбался, но был бледнее обыкновенного; наружность машиниста равно не имела ничего ободрявшего, и один Жозеф улыбался, и улыбался он улыбкой, не предвещавшей ничего хорошего.
Народ приветствовал нас низкими поклонами. Я спрашивала у многих из стариков мнения их насчет предприятия: все без исключения качали головами и отвечали ничего не выражающими «бог весть», да «кто знает», да «авось бог поможет» и тому подобным.
– Однако пора, братцы! – крикнул отец – и живая масса людей разделилась на кучи; во главе каждой из них стал заблаговременно избранный старшина; потом, по данному знаку, все крестьяне сели на землю. Просидев молча с минуту, все снова поднялись на ноги, сняли шапки, перекрестились, с криком бросились на кучи соломы, ельнику, древесных сучьев и земли, приготовленные у самого берега. Суета была так велика, что я и не заметила, как деревянный остов, о котором говорила тебе выше, начал как бы уходить в землю со стороны течения реки, а Днепр действительно приостановился, затих, сгладился совершенно и стал расширяться; в один миг противоположный берег наводнился; еще мгновенье – и соседний холм превратился в остров.
– Молодцы! – закричал отец работавшим, и новый радостный крик отвечал отцу, а новые глыбы земли обрушились с высоты насыпей к подножью сруба. Жозеф был не прав: остановился Днепр, присмирел, могучий, и замолк его говор, и распались седые волны. Мне стало жаль старика!
Надобно было видеть, ma chиre, торжество машиниста, радость папa и удовольствие всего народа. Крестьяне подходили к нам с поздравлением; молодые бросали шапки вверх. Всего забавнее были насмешки, с которыми ежеминутно подходил le savant к Жозефу. Первый важничал ужасно, брал француза за руку, подводил его к берегу, указывал на воду и хохотал; француз качал головой, отвечая на все насмешки машиниста пословицею: rira bien qui rira le dernier![66]66
Хорошо смеется тот, кто смеется последним! (фр.)
[Закрыть] К десяти часам вода, коснувшись берегов менее отлогих, стала подниматься медленнее, а вечерний туман прогнал нас домой. Удача расположила все умы к веселости, и сам Купер сделался менее грозен. Этот вечер положили мы посвятить разного рода фарсам; первый придумала я и уговорила Авдея Афанасьича пропеть что-нибудь. Гость не оказал ни малейшего сопротивления и, взяв три аккорда в се-дур (которыми, как оказалось впоследствии, ограничивались все его музыкальные познания), с помощью этих трех аккордов пропел громовым голосом «Солому». В романсе соседа солома осеняла кров, где земледелец обитает, служила ему ложем для отдохновения, и та же солома, превращаясь в наряд, то есть в шляпку, защищала красавиц хитрою рукою от загара; сравнивая же все-таки свою солому с непостоянством женской любви, Авдей Афанасьич вдруг схватил мою руку, поцеловал ее с нежностью; тот же маневр повторил он и с Антониной и с Еленою, и с меньшими сестрами, а в заключение, и с самою Агафоклеею Анастасьевною. Я хохотала до слез, но Авдей Афанасьич потребовал от меня, как он говорил «реванжика»; отказать ему было смешно – я пропела: «Ты не поверишь, как ты мила»; каждый refrain[67]67
припев (фр.).
[Закрыть] возбуждал ту же нежную улыбку на устах Авдея Афанасьича. После меня место у фортепьяно единодушно предложено было Антонине. Кузина, разумеется, начала кривляться, выражая своим лицом то отчаяние, то умиление, то мольбу, и наконец уж отдалась на волю нашу, но с условием, чтоб Купер и Елена поддержали ее на скользкой стезе испытания, и две трети семейства Грюковских простонали «Пловцы» Варламова. Антонина пела сопрано, Купер – альта, а Елена – бас. Разумеется, кузина сочла необходимым поговорить довольно долго о хрипоте своего голоса, о несносном климате нашего уезда, о недостатке нот и практики и всего прочего, мешавшего ей усовершенствоваться в музыке. Вслед за пением Купер продекламировал тираду из «Разбойников» Шиллера, а Авдей Афанасьич показал на тени, с помощью толстых пальцев своих, зайца, солдатика, пустынника и лебедя; для последнего обнажил он руку свою до локтя, отчего все девушки с криком убежали в другую комнату.
Было за полночь, когда подали ужин, а во втором часу мы разошлись.
Я устала до смерти, Sophie; кончаю страницу и ложусь спать.
Да, я и забыла сказать тебе, что Старославский, как мы узнали, отлучился, неизвестно куда и надолго ли, из Грустного Стана. Не правда ли, что странно; chиre amie, и некстати, потому что отсутствие его в эту минуту может быть истолковано и Купером, и толстым гостем с весьма невыгодной для него стороны? Неужели страх встретиться с Авдеем Афанасьичем был причиною его отъезда? Не может быть... а все-таки странно!
ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ
27-е сентября
Прошла неделя с тех пор, как я писала к тебе, chиre Sophie. Старославский не возвращался; мы по-прежнему гуляем до вечера, а в полночь, насмеявшись вдоволь, расходимся по спальням. Днепр действительно переродился в маленькое море; несколько деревянных колес вертятся с утра до ночи. Папa очень доволен успехом своего предприятия. Машинист говорит и распоряжается так громко, что голос его долетает до балкона, а бедный Жозеф притих. Как я ни люблю доброго француза, но не скрываю радости своей, что предсказание его не выполнилось. Авдей Афанасьич отправляется на охоту с восходом солнца и возвращается не прежде заката. Несчастных зайцев каждый раз приносит он сам, в виде трофеев, в гостиную; нередко трофеи его ужасно видеть: представь себе куски красного мяса с ушами; все остальное бывает обыкновенно съедено собаками, c'est terrible а voir![68]68
это ужасное зрелище! (фр.)
[Закрыть] Кстати: какая рассеянность, chиre amie! Я должна была бы начать с того, что первого числа октября мы решительно выезжаем из Скорлупского. Как я счастлива, выразить тебе не могу! Но и Скорлупского жаль немножко, особенно в последнее время я смеялась в нем так много; а по моему характеру, чему бы ни смеяться, только бы смеяться – и я довольна. Вчера всем обществом ходили мы пешком в ту самую пустынь, о которой я когда-то писала тебе, в ту самую, которую построили, говорят, близ места встречи пустынника с польским паном. Все строение бедно и составлено из круглых каменьев, слепленных кой-как. Обитель состоит из маленькой ветхой церкви, пяти деревянных келий, небольшого сада, служащего в то же время кладбищем, – вот и все.
Настоятель пустыни, седовласый старичок почтенной и кроткой наружности, принял нас ласково, показывал утварь, несколько древних икон, пожертвованных обители предками Старославского, и богатые сосуды, присланные в дар настоящим владельцем Грустного Стана. О Старо-славском старичок отзывался с самой лучшей стороны. Каждая похвала настоятеля выкупалась гримасою Купера и Антонины. Помолясь на кладбище, мы простились с иноками и отправились в сопровождении их в обратный путь. Кругом обители превысокий сосновый бор и глубокие рвы; вообще все это место крайне грустно и дико. Весь вечер прошел в толках и рассказах о преданиях. Агафоклея Анастасьевна утверждает, что в ночь на двадцать восьмое сентября... «Но ведь это завтра», – заметил папa. «Как завтра!» – воскликнули мы все в один голос, и меня обдало ужасом... Ведь действительно завтра, chиre Sophie! Ну ежели да выполнится предание... Впрочем, Старославского нет... тем лучше... Возвращаюсь к Агафоклее Анастасьевне: она утверждает, что однажды управляющий ее в эту ночь настигнут был страшною грозою в самом том лесу, где обитель, и ровно в полночь не только управляющий, но и кучер его явственно слышали вой собак, отдаленный звон колоколов, и в то же время над самым лесом черное небо озарилось заревом – и несчастные чуть не умерли со страха.
– Но неужели никто из жителей Скорлупского не может подтвердить или решительно опровергнуть все эти россказни? – спросила я, обращаясь к отцу. И он тотчас же послал за несколькими стариками.
Первый из них оказался глух, другой имел свойство спать слишком крепко, а третий и четвертый не только подтвердили слова приказчика Агафоклеи Анастасьевны, но прибавили, что явление это до того напугало окрестных жителей, что в эту ночь все они запираются в своих домах, и до слуха их долетает только вой собак, мешающий расслышать остальное, то есть громкий смех пана и подземный гул, смешанный со звоном колокола.
– Есть ли хотя один человек, которому довелось расслушать все в одно время? – спросил отец.
– Как не быть! Да вот хоть бы кузнец наш, батюшка барин, – отвечал один из стариков, – в запрошлую осень – не дальнее время! – шел он с постоялого двора, что на косе, близ завани; вот и идет себе, не думает; вдруг как грянет гром да блеснет молния, он снял шапку да и перекрестился; опять гром – опять перекрестился; вдруг откуда ни возьмись град, да в куриное яйцо; что делать?
Он и высмотри дупло, и сунь в него голову, хотя бы голову-то спасти, и слышит, словно звонят колокола – ей-богу!
– Где же кузнец?
– Помер об святках, – жалобно ответил рассказчик.
Тем кончились расспросы, которые хотя и не обогащали нас неопровержимыми доказательствами, но и не отрицали предания.
Наслушавшись всего этого, к стыду моему, признаюсь, я неравнодушно проходила темную залу и ни за что в свете не решилась бы прогуляться по саду одна, хотя прогулки эти имела я привычку делать ежедневно.
Маршрут наш в Петербург следующий: первого числа после раннего обеда мы отправляемся все вместе, то есть Грюковские и мы, к ним на ночь, пробудем у них второе число и третьего выезжаем в путь. Папa намерен остановиться на двое суток в одном из своих имений верст за триста отсюда, а к десятому надеюсь обнять тебя, chиre amie, в Петербурге... Вот счастливая мысль! постарайся уговорить своих выехать к нам навстречу; ручаюсь тебе, что я употреблю все средства, чтоб прибыть в Ижору к трем часам пополудни; следовательно, выехав в час по железной дороге, вы в Царском через полчаса, а в Ижоре в два с половиною. Mon Dieu! Que je serai heureuse![69]69
Боже мой! Как я буду счастлива! (фр.)
[Закрыть] Прощай, Sophie. Спешу кончить: едут на почту.
ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ
28-е сентября
Sophie, cher ange! Un peu de pitiй pour moi![70]70
Софи, милый ангел! Посочувствуй мне хоть немного! (фр.)
[Закрыть] Но нет, я знаю тебя: ты будешь смеяться надо мною; я уверена, что назовешь меня ветреницею, бесхарактерною, даже сумасшедшею, может быть... Бог мой! и зачем поверяла я тебе все мысли мои? зачем отдала себя на суд и на осуждение? И когда вспомню, что еще недавно смеялась над чувствительною Антониною, над забавною развязкою романа ее с Старославским, и сделать почти то же самое... ужасно!.. но жребий брошен! Осуди меня, chиre amie, если хочешь, но выслушай...
Настало наконец утро так давно ожидаемого двадцать восьмого числа. Небо было ясно, солнце грело, как во все прошедшие дни, и утро это отличалось от прошедших одною формальною декларациею Купера: поэт повторил ее отцу, отец передал торжественно декларацию мне, а я поблагодарила за честь, мне сделанную, и смягчила, сколько можно, отказ, основанный будто бы на решительном намерении оставаться свободною. Агафоклея Анастасьевна поморщилась, а Антонина, узнав о неудаче братца, сделала ему сцену. Истинную причину отказа приписывало семейство Грюковских тайной любви моей – уж не знаю, к Ста-рославскому или к Авдею Афанасьичу, который и в это утро, по обыкновению своему, отправился на охоту. Пользуясь междоусобием родственников, я удалилась в свой кабинет. Приводя в порядок вещи, которые должны были оставаться в деревне, и пристально занимаясь их укладкою, я не заметила, как вошел Старославский. Он поклонился и предложил помочь мне в моем занятии.
– Как давно мы не видались, мсье Старославский, – сказала я ему не без насмешливой улыбки.
– Я не был в Грустном Стане, – отвечал он.
– А причина такой долгой отлучки?
– Гость ваш.
– Авдей Афанасьич! – воскликнула я невольно.
– Он, графиня.
Ответ этот, и сделанный так хладнокровно, сбил меня совершенно с толку.
– Но он здесь еще, мсье Старославский, – сказала я.
– Знаю, графиня.
– И вы его дождетесь?
– Сегодняшняя ночь поставляет меня в необходимость...
– Встретиться с Авдеем Афанасьичем?
– Нет, но присутствовать при страшном явлении.
– Которому вы верите?
– В котором не сомневаюсь; а в доказательство, графиня, не повторись явление – я дал обет не возвращаться боле в Грустный Стан, а расстаться с ним мне было бы очень грустно!
– Вы фаталист, мсье Старославский?
– Я человек рассудительный, и расчет мой безошибочен. Беспрерывная перемена места делает одинокую жизнь сноснее...
– Но что же общего между ночным явлением и одиночеством?
– Ваше слово, графиня; возьмите его назад, и кочевание мое начнется сию минуту.
– Вы забыли Авдея Афанасьича?
– Я письменно извинился бы пред ним.
– Как, просить извинения? Fi done,[71]71
Вздор (фр.).
[Закрыть] мсье Старославский! Письмо ваше он сохранит как факт; он будет гордиться им.
– Моим письмом, графиня?
– Извинением...
– В невозможности быть его посаженым отцом?
– Посаженым отцом Авдея Афанасьича?
– Конечно.
– Вы, вы, мсье Старославский?
– Я, графиня; но тут по крайней мере, надеюсь, нет ничего удивительного?
– У вашего злейшего врага?
– Но я говорю не про поэта Купера.
– Все равно, про друга его, про человека, разделяющего и жажду мести, и ненависть родственника моего к вам.
– Не думаю, графиня, потому что несколько дней назад Авдей Афанасьич письменно просил моего посредничества в деле, от которого зависело все будущее его счастие, и дело это я устроил.
– Оно не тайна?
– Нимало, графиня: я привез согласие одной прекрасной девушки на брак ее с Авдеем Афанасьичем.
– То есть дочери мещанки.
– Вы знаете?
– Я слышала о живом участии вашем, мсье Старославский, во всем, что касалось до этой девушки, и о тайном отъезде ее в Москву.
– Все слышанное вами истина, и я тем более доволен решительностью моих строгих мер, что меры эти увенчались полным успехом.
– Но права ваши на участие? – спросила я, лукаво улыбаясь.
– Основаны они, графиня, на пристрастии покойного деда, моего опекуна, к тем мальчикам, о которых как-то раз я говорил вам и которые – родные братья девушке, дочери той же сердитой ключницы, моей неприятельницы.
Скоропостижная кончина старика, вероятно, помешала ему обеспечить своих любимцев, и всем наследством воспользовался я один. Ничтожное же участие мое – малое возмездие за их потери...
Я не могла выдержать, chиre amie, и передала Старославскому слова и заключение о нем Купера. В настоящую минуту мне нужна была жертва, и пусть же ею будет поэт.
Старославский улыбнулся и тотчас же переменил разговор. Признаюсь тебе, Sophie, уважение мое к этому человеку не только удесятерилось, но сделалось очень похожим на что-то выше этого чувства.
Встретясь в столовой с поэтом, Старославский, как и всегда, протянул ему руку: но рука эта как бы обожгла Купера – так смущен и так смешон был поэт! Антонина, несчастная Антонина, прошла во время этого обеда через все сильные ощущения; лицо ее принимало краски всех цветов и от белой лилии мгновенно переходило в пунцовый розан каждый раз, когда Старославский обращался к ней; заметно было, что кузина, отвечая ему, приискивала в уме своем средство уколоть и меня и его, и средство это приискала она наконец.
– Когда же, мсье Старославский, пригласите вы нас в Грустный Стан? Nathalie рассказывала о нем такие чудеса, что не видать их считаем мы большим лишением, – сказала Антонина так громко, чтоб все ее слышали.
– Но разве графиня была в Грустном Стане? – спросил Купер, бросив на меня многозначительный взгляд. – И не пригласить нас – это дурно, очень дурно, – прибавил он, перенося тот же взгляд на Старославского.
– Вы сами лишили меня на то всякого права, – отвечал Старославский Куперу.
– Чем же, мсье Старославский?
– Тем, что, простирая прогулки свои до самой усадьбы моей, никогда не заглянули в нее, даже, если не ошибаюсь, в тот день, когда графиня сделала Грустному Стану честь своим посещением, грум мой повстречал вас в окрестностях и крайне перепугал меня, утверждая, что с вами...
– Да, да, точно, – перебил поспешно поэт, – мне помнится, в тот раз лошадь сбилась с тропинки и чуть не завязла в болоте.
– Положим, случилось это в тот раз; ну, а в другие поездки, мсье Купер? Вы так часто прогуливаетесь...
Поэт покраснел до ушей; он не мог не заметить всеобщей улыбки.
Но довольно о Купере и Грюковских вообще. Ночь была интереснее, а развязка, chиre Sophie... а развязка!.. Но, ради бога, не читай ее прежде всего прочего, потому что, может быть, обстоятельства, предшествовавшие ночи, хотя несколько оправдают меня в глазах твоих.
С закатом солнца явился и Авдей Афанасьич. Встреча его с Старославским не удивила только самого Старославского, отца и меня; зрачки же всех прочих расширились неимоверно; я внутренно торжествовала, смотря на эти расширенные зрачки. Авдей Афанасьич извинился перед соседом в чем-то, чего я не расслышала, потом благодарил его, и даже три раза обнял и поцеловал. Но какое дело до Авдея Афанасьича? Ночь интереснее, повторяю тебе, Sophie... Но как это глупо, когда вспомнишь!
Мы вышли по окончании обеда на балкон; небо начинало уже покрываться тучами, солнце скрылось, и воздух сделался прохладнее.
– Как жаль, что будет дождь! – сказала Антонина, – иначе я предложила бы, кому не страшно, встретить ночь в лесу.
– Я покорный слуга, – отвечал Авдей Афанасьич, – но вряд ли вы пойдете даже без дождя.
– Конечно, пойду.
– Нет, не пойдете.
– Хоть об заклад, пойду.
– Пуд конфект! – продолжал толстый гость, протягивая Антонине руку, которую та пожала.
– И мы пойдем с вами. Не правда ли, maman, что и вы пойдете? – закричала Елена и прочие сестры.
На это Агафоклея Анастасьевна не изъявила своего согласия, то есть за себя, но дочерям идти не запретила.
До ночи время прошло медленно; когда же смерклось, все без исключения стали поглядывать друг на друга с неизъяснимым беспокойством; сам папa часто подходил к часам и как бы считал минуты. Пробило одиннадцать, и Авдей Афанасьич напомнил Антонине о закладе.
– Извольте, только не в лес, не в самый лес... а... в аллею... – отвечала кузина.
– Это не все равно! – возразил гость.
– Нет, батюшка, я в лес детей не пущу, воля ваша! – воскликнула Агафоклея Анастасьевна, – и в сад ходить незачем.
– О, нет, maman! в сад можно, только бы не в лес.
Все кузины запрыгали и запищали около матери, которая, после долгих переговоров с Авдеем Афанасьичем, наконец склонилась на детские просьбы и поручила детей покровительству его и Купера.
Кузины ушли; Агафоклея Анастасьевна под предлогом зубной боли удалилась в свою комнату, а папa, дав слово возвратиться к полуночи, отправился по направлению к плотине; мы с Старославским остались на балконе вдвоем.
– Неужели вы серьезно ожидаете чего-нибудь необыкновенного, мсье Старославский, и верите всем этим вздорам? – спросила я его, и, признаюсь тебе, спросила единственно для того, чтоб отрицательным ответом Старославского уничтожить свой собственный страх.
– Месяц тому назад, графиня, я улыбнулся бы вопросу вашему, но теперь избави бог меня от малейшего сомнения, – отвечал он серьезно.
– Это почему?
– Повторяю, что слову вашему верю.
– И вы решились бы воспользоваться моим словом?
– Со слезами радости, графиня.
– Не верю.
– Даю вам честное слово!
– Но что же называете вы самолюбием, мсье Старославский?
– Во мне занимает оно второе место, а первое...
– Берегитесь быть похожим на Купера: он сегодня утром говорил мне почти то же.
– Права наши на вас, графиня, не одинаковы.
– Опять слово мое?
– А с ним вся моя будущность!
– Довольно! Еще четверть часа – и я свободна. Поговорим о чем-нибудь другом, мсье Старославский.
– С удовольствием.
– Вы приедете на зиму в Петербург, не правда ли?
– Почему же не в Париж?
– А разве вы имеете намерение ехать за границу?
– Но, мне кажется, графиня, таково было желание ваше.
– Желание – да; но выполнение желания зависит не от меня.
– Я согласен, графиня.
– Мсье Старославский, вы неизлечимы! – Графиня, ваше слово!
– Опять слово, какая тоска!..
– Вы берете его назад?
– Не нужно! Еще пять минут, только пять – и оно уничтожено, – отвечала я Старославскому, взглянув на часы.
– Менее, графиня; у меня хронометр: и не пять, а полминуты.
– Тем лучше.
– О, конечно, не для вас, может быть, но для меня! – воскликнул он с такою улыбкой, которой я никогда не забуду.
– Вы хотите обмануть, испугать меня? Ничего еще нет и не будет, я уверена.
– Так слушайте же, графиня! – И Старославский, взяв меня за руку, перевел к другому концу балкона. Я трепетала невольно, идя за ним; но в этот самый миг, Sophie, явственно, как бы подле нас, раздался вдруг какой-то неопределенный гул, но гул ужасный!
– Это ветер, – проговорила я, – это просто ветер!
Старославский указал молча на деревья; листья не шевелились на них, но гул делался все явственнее; в это же время послышались металлические правильные удары; я успокоилась: удары долетали до нас из залы и на двенадцатом часу умолкли; но тут... нет, Sophie, описание мое не передаст тебе ни ужаса, ни страха, которые выносить могут только самые крепкие или слабые натуры... Не постигаю, как я не умерла в эту страшную минуту! Мне вдруг послышалось нечто вроде воя собак; «не может быть», – говорила я сама себе, но вой превратился в рев; потом страшный удар, громкий, пронзительный хохот и заунывный звон... но не стенных часов залы, а звон нескольких колоколов... Этого было достаточно, очень достаточно, чтоб лишить меня всех чувств. Помнится, что кто-то произносил мое имя; мне даже казалось, что к первому голосу присоединились еще голоса...
Антонина! бедная Антонина! не то же ли самое случилось с тобою? вследствие других причин, это правда; но результат был такой же: ты упала в обморок, а я!.. я раскрыла глаза уже не на балконе, а в гостиной, не в кругу своей семьи и одного Старославского, а при десяти посторонних свидетелях!
– Слово ваше, графиня? – были первые слова, долетевшие до моего слуха: их произнес Старославский.
– Но страшное явление не могло не быть сном? – проговорила я, все еще прислушиваясь.
– Увы, далеко не сон! – со вздохом отвечал отец, – и слово, данное тобою Старославскому, я подтверждаю.
– В таком случае, вот рука моя; она ваша, мсье Старославский, – сказала я торжественно, – и да исполнится легенда, прекратив навсегда то, что слышали мы в эту ночь.
– А для большей верности, Nathalie, – прибавил отец, смеясь, – обяжи мужа не тревожить более Днепра, а главное, не строить никогда мельниц! – Вообрази, ma chиre, что страшное явление было не что иное, как прорванная днепровская плотина; вой собак был только воем стаи Авдея Афанасьича; звон – звоном набата, а пронзительный смех-пренатуральным смехом Жозефа над машинистом.
Верь мне, что, вспоминая обо всем этом, я умерла бы от стыда и отчаяния, если бы не любила Старославского так, как люблю его теперь... Бедная Антонина!..