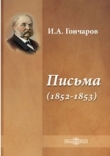Текст книги "Ночь на 28-е сентября"
Автор книги: Василий Вонлярлярский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Василий Вонлярлярский
Ночь на 28-е сентября
Часть первая
ПИСЬМО ПЕРВОЕ
Графиня Наталья С. к Софье Р.
Ужасно, Софья! Представить себе не могу, мой друг что наконец наступило время переписки, что вздохи мои ты услышишь только через неделю, что на жалобы мои ты будешь отвечать через две, а увидимся мы бог весть когда! И эту тоску, и это страдание доктора величают отдохновением – какая страшная мистификация! Вообрази себе, что мы живем в превысоких стенах, обтянутых не лионской тканью, а паутиною, что с закопченных потолков смотрят на нас какие-то опухлые богини, со стен – престранные предки, из-за дверей выглядывают сотни старых слуг, а из окон – черемуха. Отец в восторге от всего этого, а я чуть не плачу... И всем этим придется наслаждаться целые шесть месяцев! C'est en devenir folle[1]1
Есть от чего сойти с ума (фр.).
[Закрыть] право! Кстати, скажи моей доброй Miss Thon, чтобы она ради бога не высылала мне ни одной вещицы из моего кабинета, ни одной шляпки, ни одного платья, а прислала бы резиновый колпак, галоши и, если можно, маек от пчел и комаров; вот все, что необходимо мне в это несносной пустыне. Мы дотащились сюда в субботу вечером. В воскресенье отец зазвал прямо из церкви легион соседей и соседок. Что за люди, ma chиre![2]2
дорогая моя! (фр.)
[Закрыть] Ты не поверишь: на девицах перчатки с отрубленными пальцам? В девять часов я уснула от тоски и усталости. Отца начинаю не любить: он смеется и дразнит меня как ребенка. В спальню влетела летучая мышь; в камине всю ночь кричал сверчок; я спала дурно, проснулась презлая, вышла в сад. Елки там обстрижены a la mal content;[3]3
на манер «недовольного» (фр.).
[Закрыть] старые 6a6i начали обнимать и целовать меня. Потом привели мою верховую лошадь; я обрадовалась ей до слез. Папa счастливее, чем когда-нибудь; еще неделя – и я чувствую, что мы пресерьезно поссоримся. Какой нестерпимый эгоизм! заставить меня переселиться с Елагина в Скорлупское... милое названье, не правда ли? – и переменить невозможно. За ужином нам подали карасей со сметаной, с’esttrиs bon, ma chиre,[4]4
это прекрасно, моя дорогая (фр.).
[Закрыть] папa ел за четверых; он делается mauvais genre;[5]5
дурного тона (фр.).
[Закрыть] того и смотрю, что наденет полевик; даже манеры его портятся, а картуз... какой картуз! нет, я украду его и сожгу непременно. Мне грустно. Писать долее не в силах; я рассержена, я сделаю ему сцену... этому картузу. Прощай, Софья, и пожалей меня!
Увидишь Надину, скажи, что мы блаженствуем. Хорошо блаженство...
ПИСЬМО ВТОРОЕ
Не могла выдержать, чтоб не написать; завтра почта и посылают в город. Вообрази себе, мой друг, что городом называют здесь грязную улицу, обставленную маленькими кривыми домами, из досок, кажется, цветом похожих на шафран и земляные груши; в лавках рядом с пастилою лежит желтое мыло и сальные свечи; у двери вяжет чулок безобразная баба, и перед ней – о ужас! прегрязные сельди в корыте, и с ними пустые помадные банки. Папa требует, чтобы я была у всех с визитом; для этого я имела глупость надеть мое любимое платье гласе, и не знаю где, но, вероятно, прежде меня, у кого-нибудь на диване сидели птицы: прости, платье! Я объявила отцу, что больше не поеду и предпочитаю заключиться в нашем Скорлупском. Впрочем, это Скорлупское очень недурно; природа наделила его некоторыми прелестями, которые, при другой обстановке, произвели б большой эффект. Во-первых, в нескольких шагах от балкона течет Днепр. В первые дни погода была ясная, тихая, и я было его не заметила, но вчера из-за рощи поднялась туча и скоро обложила горизонт; сначала дунул ветер, и верхи дерев зашевелились, но туча поднялась еще выше, солнце скрылось, ветер сделался сильнее, и бор заревел так громко, что мне стало страшно; когда же ветер превратился в вихрь, а вековые сосны зашатались, я невольно взглянула по направлению реки, и тогда только, ma chиre, внутренно созналась, что, не сделав визита соседу, поступила очень невежливо. И Днепр имел полное право сердиться: он был истинно прекрасен; смотря на гнев этот с трепетом, я была от него в восхищении. Нева очаровательна; волны ее и светлы и прозрачны; в самую бурю все движения ее как-то плавны, грациозны; не внушает она ни боязни, ни страха; катясь по роскошной набережной, мимо великолепных дворцов или прелестных дач, мы едва замечаем волнение Невы; но не таков Днепр – этот древний исторический Днепр! За несколько минут до бури я едва заметила его в зеленой чаще ив: тогда он, как вежливый старик, обходил осторожно каждый кустик, каждую травку, казалось, уклонялся от всякого столкновения голубой струи своей с песчаным берегом... и тот же Днепр, при первом взрыве вихря, при первом стоне бури мгновенно вырос, поседел, и с ужасным ревом стал раздирать землю!.. Как ничтожны показались тогда неприступные скалы, еще недавно смотревшиеся в него с гордостью! как низко поклонился ему исполинский лес, а меня, конечно, он и не заметил! В девятом часу звон колокола (у нас звонят a propos de tout[6]6
по всякому поводу (фр.).
[Закрыть] ), позвал меня к чаю.
Весь вечер я с отцом просидела вдвоем, в его кабинете; папa читал мне до самого ужина фамильные легенды; время прошло скоро: и страшно и приятно было! Предания эти так оригинально любопытны, что я не могу не передать их тебе, мой друг, во всей подробности. Вычитали мы их в престаринной книге, переплетенной в позолоченную кожу с медными украшениями, а книгу эту отец нашел в библиотеке своего прадеда, прежнего владельца Скорлупского; на портрете прадед кос, но, может быть, в натуре этого не было. Слушай же. Ты, конечно, знаешь, ma chиre, что губерния наша в древние времена неоднократно переходила то к России, то к Польше и, находясь на границе, служила театром беспрерывных войн; нет уголка земли, говорит папa, на котором не находили б человеческих костей или оружия; рассказам о кладах нет конца – преинтересная страна! Фамилия же графов С. была некогда польская, а легенда относится к той эпохе, когда первый предок наш принял греческую веру. Вспомнить не могу – так страшно это предание! Вот видишь ли, мой друг, в тех самых стенах, где мы живем теперь, жил некогда пресердитый и пребогатый пан; границы владений его заходили далеко за Днепр; леса были дремучие; в них содержал он, под видом пограничной стражи, просто разбойников и, пользуясь вечными смутами, творил такие злодейства, которым в наше время не решаешься верить. Например, в тех самых погребах, где у нас хранятся яблоки, раздавались по ночам жалобные стоны заключенных; на дворе производились казни, пытки, словом, всякого рода ужасы. Большую часть жертв его составляли жиды; в глазах пана жид и виноватый были слова однозначащие, а ограбить жида, замучить, уничтожить – ровно ничего не значило. Пан смеялся, глядя на слезы жидов, и приходил в бешенство, когда красавица-жена его пыталась смягчить участь страждущих; он даже, вообрази себе, ma chиre! бивал ее иногда в присутствии пировавших с ним гостей, И скоро вогнал ее в могилу. Единственное существо, с которым он обходился ласково, был сын, прекрасный молодой человек, воспитанный в Варшаве, где воспитывалась вся блестящая молодежь того времени. Молодой человек был очень красив, ловок, статен и сводил с ума всех девушек в окрестности; он увозил некоторых из них, прятал в лесах и потом снова отсылал к родителям, которые, боясь пана, молчали и не смели жаловаться. Смежно с его землями находилось владение небогатого, но известного своими заслугами русского боярина; у боярина было двое детей: сын, служивший в московских дружинах, и дочь, молодая девушка, красоты необыкновенной. Старик-отец страстно любил обоих и, разлучась с сыном, хранил дочь, как единственное утешение, как сокровище, в пожертвовании которым отечество не нуждалось. Весть о чрезмерной красоте Ирины дошла до слуха молодого человека, который поклялся употребить все, чтобы овладеть ею. Так как отец был верным помощником во всех постыдных делах его, то он, без сомнения, прибегнул бы к его пособию и открытою силою мог вырвать дочь из рук отца; но такой поступок мог обратить на него внимание русского правительства, и пан решился ожидать благоприятнейшего случая, который не замедлил представиться. Польский королевич Владислав признан был в Москве царем русским, и в то же время Сигизмунд осадил Смоленск. Поляки торжествовали. Ты понимаешь, мой друг, что я касаюсь истории вскользь, а потому и скажу тебе только, что различными происками прадед наш успел оклеветать соседа своего, боярина, и получить от короля Сигизмунда полномочие задержать боярина и представить его на суд поляков. Защищаться против вооруженной силы было невозможно, и боярина не только взяли, но и умертвили, будто бы в схватке; дочь его между тем успела скрыться. На след ее напущена была целая стая собак, приученных паном к подобным розыскам; действиями ее управлял сам молодой человек. В глухую осеннюю полночь озлобленные животные достигли в лесной чаще потаенного входа никому до того не известной пещеры и с страшным воем принялись рыть землю; подскакав к пещере, которая должна была скрывать несчастную девушку, молодой человек соскочил с лошади, отыскал отверстие, едва прикрытое наскоро придвинутым камнем, выхватил меч и стал отодвигать камень, который уступил силе; но вместо ожидаемой жертвы ему предстал какой-то пустынник; он осенил его крестным знамением и именем бога заклинал не идти далее. Удар меча был ответом на эти слова. Обагренный кровью, пустынник поднял руку, молча указал на убийцу, и в тот же миг многочисленная стая собак с бешенством бросилась на своего повелителя. Терзаемый со всех сторон молодой человек огласил воздух таким адским хохотом, что вся окрестность дрогнула; звери завыли, а в соседних селах колокола сами собою загудели протяжно и заунывно. Что сталось с боярской дочерью и с пустынником – неизвестно; но легенда гласит, что ровно через год, в полночь, дремучий лес на огромное расстояние огласился тем же смехом, и в продолжение нескольких минут вторил ему и рев собак, и вой зверей, и заунывный голос колоколов. Старый пан крепко задумался и стал молиться; еще прошел год – то же явление. Отец погибшего сына на месте чудного происшествия заложил обитель, принял православную веру и постригся. Ближайший наследник вступил во владение всем богатством панским, а обитель существует и теперь. Вот тебе, ma chиre, и легенда; она страшна, но еще страшнее то, что все жители Скорлупского утверждают (чему хоть и страшно, а хочется верить), будто бы двадцать восьмого сентября, ровно в полночь, даже из нашего древнего дома явственно слышен и хохот, и лай, и вой, и звон. Я спрашивала у отца, верит ли он этим россказням, и ожидала обыкновенной его улыбки, но, к удивлению моему, он подумал, пожал плечами и не отвечал ни слова.
Как тебе это нравится? Что же касается до меня, то я положила у самой постели своей двух горничных... Прощай покуда, Sophie, и напиши, ради дружбы нашей, каков был бал у княгини Б... и кто больше всех произвел фурор. Бог мой, какая тоска у нас!.. А Днепр очень хорош!
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ
Нет, не пиши мне таких писем, друг мой, Sophie! Когда я читаю их, настоящая жизнь моя становится еще несноснее. Ты в Павловске блаженствуешь, а я, бедная: я!.. И еще целые пять месяцев подобных! И все это для здоровья, когда можно умереть с тоски! Ты говоришь, что какой-то Поль Старославский собирается приехать в наше соседство; но кто же этот несчастный? и может ли он быть порядочным человеком, если собирается променять Петербург на нашу глушь? Вероятно, больной; впрочем, по описанию твоему я заключила, что будущий сосед наш не гвардеец – плохое утешение! Папa желает свозить меня к одной из дальних его родственниц; там ярмарка и, кажется, домашний спектакль. О первой я не имею никакого понятия; последний воображаю. Мы едем на днях. Единственным рассеянием нашим во все это время был здешний исправник, человек лет сорока, рябой, с золотою цепью на шее. Для того чтобы мне понравиться, он изобрел прескучную вещь: мы по целым суткам удим рыбу, и исправник надевает своими руками живых червяков на крючки. Можешь представить, как противен мне его способ нравиться? Я, впрочем, убеждена, что со временем буду очень довольна теперешним пребыванием своим в деревне. В столице никто из нас не имеет никакого понятия о провинциальной жизни: этот мир так мало походит на наш обыкновенный, что, случайно увидев его, непростительно было бы не изучить нравов и обычаев этого неизвестного мира. Не думай, однако ж, чтоб однообразная, скучная для нас жизнь в деревне не имела своей поэзии, чтоб и в самом скромном крестьянском быту не было своих прелестей. Я еще не сроднилась с этой поэзией, не постигаю, не понимаю ее и прислушиваюсь иногда к отдаленному шуму воды, кваканью лягушек, заунывной песне прохожего, а главное – к пению соловья, не в клетке, не в тесном цветнике, но в темной, густой чаще бесконечной рощи. Признаюсь, тебе, chиre amie[7]7
милая подруга (фр.).
[Закрыть] на сердце происходит у меня что-то чудное, что-то новое, одним словом, что-то такое, чего не ощущаем мы, даже танцуя редову... Возвращаюсь к Скорлупскому. Чем больше знакомлюсь с ним, тем более мирюсь со своею новою жизнью, и повторяю, что, будь ты со мной, Sophie, да еще два-три человека поинтереснее, я согласилась бы прожить тут, пожалуй, целые пять месяцев. Доктор приказал мне вставать почти с солнцем, гулять много, обедать рано и рано ложиться. Знойный полдень скучен, но вечер иногда, право, очень мил. В одной из ближних деревень отыскалась моя кормилица, простая, но добрая женщина; она плакала, целуя меня; в первый визит принесла она мне курицу, которую я кормлю сама; во второй еще курицу; а третьего дня я отправилась к ней в гости пешком. С первого взгляда бедность и даже нищета кормилицы привели меня в отчаяние, я понять не могла, как можно довольствоваться двумя темными избами, в которых нет ни мебели, ни даже фаянсовой посуды; мне стыдно было расспрашивать ее о причинах подобных лишений, но, вообрази себе, кормилица не только не жаловалась на судьбу, а напротив, с гордостью стала хвастать своею роскошью, достатком и за каждым словом превозносила доброту папa. Три часа просидела я у этой доброй женщины, осмотрела ее садик, не больше моего кабинета, ее огород, телят, птиц и внучат и все хозяйство; оказалось, что вообще крестьяне наши пресчастливый народ, и, в доказательство этой истины, кормилица преважно объявила мне, что у каждого мужичка по две лошади кругом на душу. Je n'y comprends rien,[8]8
Я в этом ничего не понимаю (фр.).
[Закрыть] но все равно... До дому провожали меня девушки всей деревни; они так громко пели, и пели такой вздор, что мне становилось за них совестно. Костюмы здешних девушек и в особенности их талии не изящны, это правда; но к ним привыкли, и потому бог с ними! Желая поблагодарить их за песни и сделанный мне прием, я хотела раздать девушкам несколько вещиц, которых у меня так много, но папa уверил меня, что подобные подарки никогда не будут вполне оценены, и, взамен их, он приказал целую неделю не требовать девушек ни на какие работы. Весть эта возбудила всеобщий восторг; песни превратились в радостный крик, а к песням присоединились танцы, но такие танцы, которых описать нет никакой возможности. День кончили мы в обществе сельского священника, также лица для меня нового. В нем нет ни педантизма, ни претензий; он должен быть очень добр. В десять часов мы разошлись. Не желая спать, я в первый раз прочла несколько страниц одного русского журнала; мне попался разбор книг: какие неприятные вещи говорят друг другу русские авторы. Впрочем, некоторые замечания очень остроумны, и я невольно смеялась.
На следующий день.
Ночью была страшная гроза; град разбил стекла, уничтожил цветы в саду и побил поля. Папa говорит, что какой-то хлеб пострадал и вся надежда на другой; tout cela estdu grec pour moi,[9]9
это мало доступно моему пониманию (фр.).
[Закрыть] а жаль мужичков! До самого утра дождь, ударяя в крышу, производил шум, который, мешаясь с отдаленными перекатами грома, расположил меня к самому сладкому сну. Солнце пышно осветило грустную картину всеобщего беспорядка... Деревья были местами поломаны, а дорожки изрыты глубокими промоинами. К полудню все просияло, и я отправилась взглянуть на Днепр: он был мутен и быстр; на желтоватом гребне своем нес он части строений, бревна и множество предметов, которые рассмотреть было трудно. За всем этим гоняются смелые рыбаки в миниатюрных лодочках; при мне одна из них опрокинулась – и как бы ты думала, мой друг, что сделали другие рыбаки, смотря на своего падавшего в воду товарища? они расхохотались и не только не оказали ему никакой помощи, но, напротив, мешали несчастному выйти на берег; впрочем, смеялся больше всех сам утопавший, который брызгал на веселое общество водою и не потрудился даже переменить одежды. Quels hommes![10]10
Что за люди! (фр.)
[Закрыть] Папa уверяет, что прибрежные жители Днепра ныряют как утки; а ежели иногда тонут, то это только по собственному желанию, чего, впрочем, почти никогда не случается. Кстати о Днепре! В 1812-м году, когда уничтоженное французское войско бежало из России, маршал Ней с арьергардом два раза вынужден был пройти в окрестностях наших через реку и оставил на дне ее большую часть своих сокровищ. По словам некоторых стариков крестьян, помнящих событие, полные фуры золота и прочих драгоценностей следовали за маршалом, а кому неизвестно, в каком положении соединился он с главною армиею своею. Какое поприще для искателей богатств и сколько занимательных анекдотов! При свидании постараюсь передать тебе их, а покуда ограничусь описанием презабавного происшествия, которое хотя и не совершенно относится к Днепру и маршалу Нею, но довольно оригинально. На прошлой неделе мы с папa отправились под вечер на большую городскую дорогу пешком; воздух был свеж, комаров как-то меньше, а целью прогулки нашей была надежда встретить посланного за письмами и журналами. Не успели мы с версту отойти от села, как слышим в кустах прегромкое пение; такого рода обстоятельство не обратило бы на себя нашего внимания, но песня была не русская, а французский романс. «Кто бы мог быть этот певец?» – спросил с любопытством папa, и вдруг на опушке появился человек лет сорока, смуглый, невысокий ростом, но веселый и открытой наружности; на нем был какой-то мундир без пуговиц, соломенная шляпа и клетчатый плащ. «Salut, mon propriйtaire!»[11]11
Здравствуйте, хозяин! (фр.)
[Закрыть] – воскликнул прохожий, проходя мимо отца, который, конечно, остановил его и засыпал вопросами: откуда он, куда идет и зачем. Господин в фантастическом костюме был француз, шел в город Minsky, и за таким делом, которого, конечно, ты никогда не отгадаешь. Не хочу тебя мучить, ma chиre, и потому скажу, что это за дело. Один из родственников чужеземца завещал ему, умирая, бочонок с червонцами, закопанный умершим другом умершего же родственника на большой дороге между городом Minsky и Moscowa; признаком того места, на котором находился бочонок, была кривая березка с нарезанным на ней крестом. Папa не мог удержаться от смеха, слушая наивный рассказ француза, который с большим трудом согласился наконец, что с двенадцатого по сорок пятый год березка могла и быть вырублена, и даже заменена другою, не говоря уже о бесчисленном количестве деревьев, находящихся на пути от Москвы до Minsky, что, вероятно, значило Минск. Разочарованный прохожий задумался ненадолго и, помолчав, вдруг сам же стал смеяться над собою, называя и родственника своего, и себя такими уморительными названиями, которых я и припомнить не могу. Папa, сжались над ним, позвал его на несколько дней в Скорлупское, на что тот охотно согласился, и мы втроем возвратились с прогулки. Француза зовут Жозеф. На следующее утро мы нашли Жозефа в саду; вооружась лопатою, он взял под команду свою садовников и, никем не прошенный, распоряжался всеми работами. Поздоровавшись со мною, как со старою знакомою, он объяснил мне свои проекты касательно будущих улучшений цветника и принялся копать землю, напевая что-то; с садовниками объяснялся он частью на своем наречии, частью пантомимою; как бы то ни было, но его понимали и слушались. Папa, любящий все веселое, не только не мешал Жозефу приводить в исполнение его проекты, но дал себе слово не напоминать даже ему, что он гость, не имеющий ни права, ни причины хлопотать так много в месте, ему совершенно чуждом. Наступил час обеда, и Жозеф попросил стакан молока и кусок хлеба; от всего прочего, предлагаемого ему, он решительно отказался, утверждая, что много есть – дурная привычка. Гость проработал в саду до поздней ночи, выпил второй стакан молока, переночевал в роще, под открытым небом, и с рассветом не только себя, но и всех товарищей своих снова вооружил лопатами. Скоро неделя, как Жозеф у нас, и папa уже до того привык к нему, что не может подумать равнодушно о возможности с ним разлучиться. По паспорту значится, что приятель наш эльзасский уроженец, ремеслом переплетчик. Нет в доме занятия, в котором он не брал бы участия; все слуги полюбили его; а я болтаю с ним по нескольку часов сряду. Вот что значит, chиre Sophie,[12]12
дорогая Софи (фр.).
[Закрыть] жить в деревне: всякий вздор занимает, всякое новое лицо – находка, которою дорожишь. Скорый ответ твой почту за доказательство, что письма мои тебе не надоели, и буду писать чаще.