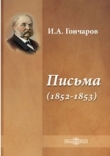Текст книги "Ночь на 28-е сентября"
Автор книги: Василий Вонлярлярский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Часть вторая и последняя
ПИСЬМО СЕДЬМОЕ
Решено, друг мой: мы остаемся в деревне до первого снега. Я не в отчаянии, потому что никогда еще не встречала зимы посреди лесов и даже не имею понятия о так называемой умирающей природе.
Сравнивая столичные письма твои с моими деревенскими, я начинаю думать, что или ты умышленно сокращаешь свои, или глушь представляет гораздо более предметов для описания, хотя в эту минуту берусь за перо и не знаю, с чего начать. Однако не радуйся и не думай, что говорить не о чем; напротив, за предметами для рассказа дело не станет. Во-первых, вторичное посещение поэтических родственников, со всеми остальными членами драгоценного семейства Агафоклеи Анастасьевны Грюковской, не исключая ее самой. Во-вторых, предшествовавшие приезду их происшествия чрезвычайно оригинальны в своем роде; потом... потом... Но по порядку начинаю с происшествий. На другой день после поездки моей в Грустный Стан к нам прискакал от Грюковских посланный с письмом, адресованным на имя отца. Представь себе наше удивление, chиreamie: Агафоклея Анастасьевна, уведомляя нас в самых отчаянных выражениях о непонятной болезни Купера, просила папa выслать к ним немедленно Жозефа, прибавляя в посткриптум, что на одного Жозефа возлагает нежная мать всю свою надежду.
«Она сошла с ума», – воскликнул отец и приказал позвать посланного. Из слов последнего мы узнали, что Купер занемог в ночь очень странным образом – так выразился слуга Грюковских: «Отлучался куда-то верхом; на вопросы старой барыни: где был и куда ездил, молодой барин отвечать не изволил, а ездил, должно быть, далеко, потому что лошадь возвратилась измученная, и наконец молодой барин сказал маменьке: „Пошлите за тем французским доктором, что живет в Скорлупском, а других лекарей не хочу“, вследствие чего и прислан он, посланный за Жозефом. По свойственной отцу доброте, он готов был тотчас же отправиться к Грюковским, но, не знаю почему, мне не хотелось, чтоб папa ехал: я была внутренно убеждена, что болезнь Купера далеко несерьезна, и потому упросила отца остаться. Мы снарядили Жозефа и снабдили его всеми лекарствами, находившимися в доме. На другой день, подходя к толпе работавших близ Днепра крестьян, мы крайне удивились, увидя среди них Жозефа. „Уже воротился?“ – спросил его отец, Жозеф махнул рукой и, повернувшись в другую сторону, принялся снова за работу; на добром лице, его выражалось негодование. Отец прошел далее, а я, более любопытная, подошла к французу, закидала его вопросами: „Allonsdone, ma chatelaine, ne vous faites pas du chagrin а propos de ce farceur d'Adonis; je n'en voudrais pas pour soigner mon chien ne vous dйplaise, non seulement...“[38]38
Полно, хозяйка, не волнуйтесь из-за этого шута Адониса; не прогневайтесь, но от этого я не стал бы лечить и своего пса, а не то что... (фр.)
[Закрыть] На этом слове Жозеф остановился безмолвный, почти гневный, и не переставал пожимать плечами и качать головой. Не удовольствовавшись лаконическим ответом Жозефа, я просила папa употребить всю власть над ним, но и это средство имело не более успеха, и все, что нам удалось узнать от него, было то, что Купер здоров. В этот день мы обедали вдвоем, а после обеда явился Старославский. Вечер прошел приятно и скоро; предметом разговора был Кавказ; сосед наш провел на Кавказе несколько лет сряду и с различными отрядами делал прелюбопытные экспедиции. Старославский обладает необыкновенным даром слова; рассказ его легок и нимало не утомителен, что встречается очень редко; сверх того, он скромен без излишества и очень ловко избегает всех случаев говорить о самом себе. От Кавказа разговор коснулся многих лиц, которых отец знавал когда-то и очень ими интересовался. К удовольствию моему, я узнала в этот вечер, что Старославский не совершенно чужд отцу и что даже папa знавал родных Старославского, в особенности же старика деда, о котором Старославский говорил мне в Грустном Стане. Я и забыла сказать тебе, chиre amie, что дед этот все богатство, нажитое им во время управления имением Старославского, оставил ему же. Как после этого не согласиться, что судьба бывает иногда справедливейшим из судей?
На этот раз сосед остался с нами ужинать и позже обыкновенного уехал домой.
Проходя в свою комнату, я встретила Жозефа; он сделал движение, изменившее его тайным намерениям. Жозеф хотел спрятаться от меня и видимо смешался, когда я предупредила это намерение, загородив ему дорогу. «Je voudrais dire deux mots au gйnйral»,[39]39
Я хотел бы сказать пару слов генералу (фр.).
[Закрыть] – проговорил он, стараясь все-таки уклониться от меня; мне страх хотелось спать, и я скоро отпустила несчастного Жозефа. Только на следующее утро, за чаем, узнала я от отца, каким странным недугом одержим был милый родственник наш, Купер, и какой помощи ожидала мать его от французского доктора Жозефа. Доктору предлагали плату за посредничество между влюбленным поэтом и моим сердцем; а заболел поэт от негодования, что увидел меня в тильбюри с Старославским, который на возвратном пути в Грустный Стан, подметив Купера в кустах и, вероятно, узнав его, шепнул что-то груму; грум дал волю своему скакуну и, конечно, не замедлил бы настигнуть поэта, если б последний не обратился в бегство. Не полагаю, чтоб Старославскому известен был результат полуночной скачки грума с поэтом, но узнал Жозеф от слуги Грюковских, что молодой барин попал в страшное болото, из которого вынут был на утренней заре лесничими Старославского. Я уж не говорю про себя; ты меня знаешь, ma chиre; но папa, этот редко улыбающийся человек, хохотал до слез, передавая мне рассказ Жозефа, с которого, впрочем, поэт взял слово не изменять ему и хранить происшествие в тайне.
Я надеялась, по крайней мере, что первая неудача охладит нежное чувство его ко мне и мы лишимся удовольствия видеть его в скором времени в Скорлупском; но поэт думал иначе, и – о несчастье! – едва мы вышли из-за стола, как знакомая коляска подъехала с ужасным звоном к крыльцу, а за нею еще экипаж и еще – значило, вся семья. Как водится, сначала крик, потом шумный и всеобщий говор, поцелуи, нежности и обед со всеми суетами, со всеми беспорядками и неудачами... Нет, друг мой, и деревенская жизнь имеет премного неприятного; одного подобного соседства слишком достаточно, чтоб бежать, не оглядываясь, не только обратно в столицу, но и на край света. Не знаю, предубеждение ли, последняя ли глупость Купера и его матушки, но в этот раз и сам поэт и Антонина показались мне еще приторнее, еще несноснее; я дала себе слово ни мало не женироваться с ними, хотя бы от того последовал совершенный разрыв.
– А я к вам с просьбою, mon cousin,[40]40
мой кузен (фр.).
[Закрыть] – сказала Агафоклея Анастасьевна, обращаясь к папa, – племянник мой, прибывший издалека, просит у вас позволения поохотиться некоторое время на ваших дачах. Он премилый человек, друг моему Куперу, был военный, да оставил службу по домашним обстоятельствам и поселился в деревне; у него душ двести, – прибавила Агафоклея Анастасьевна, бросив на меня косвенный взгляд.
Отец, разумеется, отвечал, что очень рад; а я не выдержала и, с намерением побесить гостей, заметила папa, что право охотиться в лесах наших предоставлено Старославскому и что разрешить другим может один он... Нужно было видеть, какой эффект произвели слова мои, не только на старуху, не только на Купера и Антонину, но на самых меньших членов семейства.
– Mais qu'est се que c'est vraiment que се Staroslavsky?[41]41
Но что все-таки за человек этот Старославский? (фр.)
[Закрыть] – шипела одна.
– Mais c'est un trouble-fкte que cet homme![42]42
Всему он помеха! (фр.)
[Закрыть] – кривляясь, говорила другая.
Купер в это время кусал губы и лукаво переглядывался с Антониною, которая рвала на себе косынку, бледнея от злости. Отец, погрозив мне украдкой пальцем, успокоил общество, уверив, что Старославский, без всякого сомнения, почтет за удовольствие быть в числе прочих охотников и даже предложит свои дачи...
– И болота, – прибавила я, взглянув на поэта, лицо которого вспыхнуло.
– Но сын мой не стреляет, графиня! – перебила Агафоклея Анастасьевна язвительным тоном.
– Из ружья, хотите вы сказать, матушка; но из пистолета очень недурно, верьте, – воскликнул Купер.
Не знаю, чем бы кончился разговор, начинавший принимать грозное для меня направление, но папa вмешался в него, и все надели спокойные маски; у всех, кроме, разумеется, меня с отцом, гнев вошел в глубину сердца.
Вечером, для избежания новой тоски, я предложила прогулку и с отвращением должна была принять руку Купера. Разговор вначале был общий: те же мадригалы, тот же цветистый язык – все то же, что было говорено в начале знакомства нашего; но общество мало-помалу отделилось от нас, и я не ошиблась, ожидая услышать наконец что-нибудь новенькое.
– Графиня, – сказал поэт торжественно (заметь, ma chиre, что в первый раз титул мой заменил нежное ma cousine[43]43
моя кузина (фр.).
[Закрыть] ), – я предвидел все, и мне прискорбно было бы думать, что вы ошиблись, ежели не в сердце, то в уме моем...
Я взглянула на Купера и ждала продолжения речи: вступление обещало много забавного, и продолжение не замедлило.
– Есть симпатии, графиня, которых исход дает эстетическим свойствам души человека иное убеждение, иное направление, – продолжал, воспламеняясь, поэт, – и нередко на самом повороте жизни человек превращается в злодея; но за что же, скажите? – Поэт перевел дыхание, а я вспомнила о болоте и начала кашлять, чтоб не расхохотаться.
– Вы смеетесь? – проговорил Купер протяжно, – слух ваш сроднился с отчаянным воплем глубоко тронутых, и для него равны и лепет младенца, и рев тигра; окаменел этот слух от пламенного дыхания лести, от заблаговременно вымышленных фраз, от пристрастных уверений, от...
– Скажите мне, mon cousin, – перебила я его, – кто таков ваш родственник, который желает здесь охотиться?
– Какой быстрый переход, кузина!
– Но я полагала, что вы кончили.
– Не сказав ни слова...
– В таком случае я слушаю.
– Нет, кузина, поздно! Родственник же мой, или, лучше сказать, друг, впрочем, нимало на меня не похожий... в нем все материализм, какой-то сухой взгляд на аксессуары жизни! впрочем, он умеет чувствовать и понимает честь.
– Но кто же он?
– Гусар, наездник, добрый малый, жуир!
– Как жуир?
– Слово тривиально, это правда, но оно означает страсть к наслаждениям мира осязаемого, не умственного. В эту минуту мне нужен друг, мне необходим он, как существо, на которое можно положиться с уверенностью, что оно не изменит, не предаст, а отмстит, разумеется, в то время, когда рука моя не в силах будет более мстить, – впрочем, и за себя отчасти!
– Мстить? кому мстить? – спросила я, продолжая не понимать поэта.
– Кому... кому? – повторил Купер с самодовольною, горделивою улыбкой, – тому, графиня, кто питается кровью сердец, кто дни свои считает победами над неопытными, над ослепленными его коварством... короче, тому, кто самодовольно стал между им и его счастием и в то же время между мною и моим счастием.
Из всего этого я поняла, что поэту хотелось назвать своего соперника, своего злодея, которого, я полагаю, узнала и ты; но я дала себе слово помучить поэта.
– А какого рода охоту предпочитает родственник ваш, mon cousin? – спросила я с видом совершенного равнодушия.
– Не знаю, графиня, и, по совести, мало интересуюсь этого рода занятием.
– Я же, напротив, ожидаю приезда вашего родственника с нетерпением и обещаю себе очень много удовольствий; во-первых, продолжительные прогулки верхом...
– И в тильбюри... – лукаво прибавил поэт.
– И в тильбюри, – повторила я, как бы не понимая иронии Купера, – но не в моем, который страх беспокоен, а в тильбюри Старославского, если только он будет так любезен, что предложит его мне.
– О, за Старославского я ручаюсь! И, конечно, графиня, он так любезен, что не сделает из вас исключения.
– Не понимаю, mon cousin.
– Я хотел сказать, графиня, что считаю соседа нашего учтивым до такой степени, что он сделает для вас то, что делает для других.
– То есть не откажет в тильбюри?
– И даже будет сопутствовать лично во время долгих прогулок, – прибавил язвительно поэт.
Я сначала никак не могла понять, к чему клонилась двусмысленная улыбка Купера и что находит он чрезвычайного в весьма обыкновенной любезности светского человека, предлагающего дамам и свой экипаж, и свое общество во время прогулки; потом уж мне пришло в голову, что поэт желал, конечно, возбудить ревность мою к своей сестре Антонине, которая, вероятно, пользовалась неоднократно и тем и другим; но, желая продлить маленькие терзания моего cousin, я заметила, что не имею намерения мешать и другим в удовольствии кататься в тильбюри Старославского и буду пользоваться им только тогда, когда Антонина предпочтет седло.
– Антонина! – воскликнул надменно поэт, – сестра в тильбюри Старославского! какая мысль!
– Но я полагаю, что это случилось бы не в первый раз, – отвечала я тем же тоном. Я начинала сердиться.
– И вы могли подумать, что сестра позволит себе такую вещь, графиня? – возразил Купер с возраставшим негодованием.
К стыду моему, этот глупый вопрос вывел меня совершенно из терпения, и я очень серьезно заметила поэту всю неловкость его замечания. Мне казалось, что образ моих действий не мог быть неприличным для Антонины. Поэт смешался, пролепетал что-то непонятное и извинился тем, что не знал ничего о прогулке моей с Старославским; иначе, конечно, не позволил бы себе ни одного нескромного слова. Я едва не напомнила ему болота, но мне жаль стало бедного ревнивца, и я удовольствовалась его замешательством.
Мы, уже молча, догнали остальное общество и, поблагодарив Купера за согнутую его руку, я предложила свою юной и розовой Елене; поэт же присоединился к Антонине, и я убеждена, что предметом продолжительного разговора их была я, а может быть, и Старославский.
Елена представляла собою тип совершенно отличный от старшей сестры своей; тип этот, конечно, не встречался тебе, ma chиre, ни разу в продолжение целой твоей жизни, потому что он образуется единственно в деревнях и губерниях, преимущественно отдаленных от столиц. Елена не понимает ничего; с криком детской радости бросается она на васильки, срывает их, целует, прикалывает к платью, вплетает в волоса, и не ходит, а перепрыгивает от одного предмета к другому. Для Елены выписывает мать «Journal des Enfants»[44]44
«Журнал для детей» (фр.).
[Закрыть] с раскрашенными картинками; а завидя вдали корову, козла или собаку, двадцатидвухлетняя девушка с воплем и трепетом бросается на грудь матери и целует пренежно ее ручки; она называет корову коровкою, а мать – мамахиной или мамошком. Елена с восторгом рассказывала мне, что у них в деревне братец, то есть Купер, устроил для нее маленький садик, провел через садик маленький ручеек, поставил маленькую скамеечку, и что в этот садик так страшно было ей ходить сначала одной, потому что из садика видно кладбище, но потом она понемножку приучилась ходить в садик одна, но что ночью все-таки ни за что не пойдет, тем более что мамошек боится воров, которые, говорят, очень сердиты и нехорошо поступают с молоденькими девушками. Вот a peu prиs[45]45
примерно (фр.).
[Закрыть] разговор мой с Еленою, которая робка, как газель, но во сто крат ее массивнее. В образе воспитания молодых девиц семейства Агафоклеи Анастасьевкы я советовала бы переменить одно, а именно: покрой платьев узких, не соответствующих полноте форм, а главное, слишком коротких, потому что ноги девиц, machиre, решительно не женские; прибавь к необъятной величине ног ботинки песочного цвета – и ты получишь пренеприятное целое.
Вместо чая в этот вечер проглочено было девицами неимоверное количество кислого молока и огурцов с медом (еще незнакомое для тебя лакомство), а после молока Антонина взяла меня за руку и шепнула мне на ухо, что умоляет поместить кровать ее в моей спальне и что она, Антонина, имеет сообщить мне, ее другу, ее обожанию, нечто необыкновенно интересное. Разумеется, я тотчас же выполнила желание обожающей особу мою кузины, во весь вечер избегала всякого tete-a-tete[46]46
с глазу на глаз, наедине (фр.).
[Закрыть] с поэтом и просидела с меньшими сестрами, показывая им кипсеки, которые должна была объяснять, – так мало сведущи во всем юные дочери Агафоклеи Анастасьевны! Разумеется, при виде церкви святого Петра Елена спрашивала сначала, где церковь святого Петра, а потом с визгом изъявляла желание быть в церкви святого Петра; при виде швейцарских пейзажей Елена изъявляла желание быть в Швейцарии... и так далее. Антонина в это время слушала тихо говорившего с ней Купера и, улыбаясь, чертила пером какой-то мужской профиль. Агафоклея Анастасьевна рассказывала отцу длинный процесс свой с каким-то князем, и бедному отцу, ручаюсь, было очень скучно. Так прошел бесконечный вечер, и в одиннадцать часов доложили об ужине. Во всяком другом случае я поблагодарила бы судьбу за окончание дня; но вспомнила о предстоящей конфиденции друга моего, Антонины, и мне стало скучнее прежнего. Не думай, ma chиre, чтоб деревенские ужины наши походили в чем бы то ни было на ваши случайные, петербургские – нет, мой друг, в провинции вечерний стол есть самое отчетливое повторение обеденного: он начинает супом, за которым следует ряд мясных и рыбных блюд, несколько entremets[47]47
легкое блюдо, подаваемое перед десертом (фр.).
[Закрыть] и все заключается так называемым пирожным. Желая следовать всем местным обычаям, папa очень строго приказал мне высмотреть у Грюковских, чем кормят гостей, и тот же порядок заведен у нас; овальные же стаканчики, подаваемые обыкновенно после обеда, вовсе исключены из программы необходимых вещей; на этого рода потребность смотрят у нас весьма неблагосклонно, и называется она неопрятностью, даже чванством; уж это не знаю почему! В минуту всеобщего расставанья Купер попытался было предложить мне ночную прогулку, вроде той, о которой я когда-то писала к тебе, но я решительно отказалась – j' en ai assez,[48]48
с меня довольно (фр.).
[Закрыть] он с надутым лицом вышел вон из комнаты, а мы с Антониною, разведя всех поочередно по спальням, отправились наконец к себе. Выпросив у кузины полчаса времени, я заперлась в кабинете и посвятила минуты эти на то, чтоб поговорить с тобою, chиre amie. Бог мой! зачем не придет тебе счастливая мысль приехать к нам, в Скорлупское, хотя на несколько дней? Право, сделай это: ты вдоволь посмеешься.
Летопись мою продолжаю без предисловий, chиre Sophie, боюсь позабыть некоторые подробности, которые необходимы. Ночные конфиденции Антонины – вот они, слушай (я могла бы кончить одним словом, но позволь мне передать тебе их во всей подробности. Сохрани, пожалуйста, письма мои, и когда-нибудь, перечитывая их, мы посмеемся вдвоем). Антонина упросила меня лечь, сама же накинула на себя род кофты и уселась у меня в ногах. На кузине белье домашней фабрики; оно, по словам ее, обходится очень дешево; но бог с нею, пусть она носит его, а оно очень нехорошо! Итак, я расположилась слушать и боялась заснуть; вышло противное: я не спала вовсе. Вступлением в конфиденцию был вопрос: «свободно ли мое сердце».
– Совершенно свободно, – отвечала я.
– Не может быть.
– Почему ж?
– Потому что не может быть.
– Право, свободно.
– А я говорю, что это решительно невозможно.
– Но почему ж, бог мой?
– Потому что я знаю.
– Что?
– Я знаю, что вы любите, Nathalie, и любите человека, недостойного вас, человека безнравственного, смеющегося над слабостями женщин, смотрящего на них глазами вампира, короче – Старославского. Будет время, и вы узнаете короче это существо, и дай бог, чтоб опыт этот не стоил вам дорого.
– Но успокойтесь, Антонина, я совершенно равнодушна к извергу вашему; я едва его знаю.
– Вы говорите неправду, вы скрываете.
– Нимало.
– Вы скрываете! – кричала кузина, сжимая с жаром мою руку, – он успел уже поработить и ум, и волю, и сердце ваше...
– Какая химера!
– Нет, Nathalie, не химера, а истина; и если б вы знали... Но оставим покуда Старославского: есть обстоятельства, есть вещи, которые мне ближе к сердцу, и о них хочу говорить с вами, мой ангел. Послушайте, кузина, скажите мне откровенно: может ли тронуть вас истинное, бескорыстное чувство, способны ли вы оценить настоящую любовь?
– Без сомнения, – отвечала я, приготавливаясь внутренне к декларации Купера устами Антонины.
– Что дала бы я за уверенность, что слова ваши истина!..
– Поверьте, Антонина, что главное свойство мое – откровенность, и особенно в тех случаях, где обстоятельства того требуют.
– Если так, то я оживаю духом, оживаю надеждою и начинаю обожать вас еще более, кузина, – воскликнула Антонина, бросаясь целовать меня. – Ах, если б вы знали, какою новою жизнью заставляете вы биться мое сердце!
– Но вы не кончили? – заметила я, страшась излияний радости Антонины.
– О, что остается сказать мне, ничтожно в сравнении с тем, что уже высказано; и если вы признаете себя свободною, если сердце ваше способно оценить истинное чувство – все кончено!
– Однако.
– Нет, нет, кузина! вы уже знаете сами, вы слишком умны; мы понимаем друг друга. О, как я счастлива!
– Все это прекрасно, Антонина; но точно ли мы поняли друг друга?
– Надеюсь!
– Я нет.
– Не верю.
– Напрасно, потому что, по совести, ничего не понимаю.
– Точно?
– Точно.
– В таком случае, кузина, извольте, я объяснюсь; но если замечу, что вы, слушая меня, станете платить за откровенность мою скрытностью, предупреждаю, разлюблю вас вовсе; между нами не должно быть ни стыдливости, ни тайн... Мы знакомы недавно, Nathalie, это правда; но нужно ли долгое знакомство, чтоб сделать о людях правильное заключение?
– Потом...
– Следовательно, с умом вашим вы уже сказали себе: «Антонина сумасшедшая, взбалмошная; вся жизнь ее сонм несбыточных мечтаний, радужный букет идей, цветов нездешнего мира... она слишком выспренна для земли; назначение ее – пространство, эдем духов и проч.» Ведь вы уж все это сказали о бедной Антонине, и вы правы, Nathalie: Антонина такова; она это знает, знает и то, что душевную жажду ее не утолят люди, что пылающих стремлений и сердечного голода не насытят люди... но да свершится! в сторону несчастную и перейдем к другим, более, может быть, достойным.
– Перейдем, ma cousine...
– О, да! перейдем! – повторила Антонина с восторженною улыбкою, сквозь которую проглядывала пара испорченных зубов, – не назначены ли мы к достижению высокой цели творения? да, будем по крайней мере сподвижниками чуждого достижения, перейдем... перейдем...
Послушай, Sophie; положим, что сельские удовольствия наши не могут завлечь тебя в наши края; но ты, обожающая все смешное, неужели ты не находишь, что Антонина, одна, отдельно от всего прочего, стоит того, чтоб тотчас же приказать укладываться, отправиться в двухнедельный отпуск и прилететь ко мне на помощь? Но Антонина ведь прелесть что такое! Грустно не иметь таланта рисовать так хорошо, чтоб изобразить это существо, назначенное к достижению высшей цели, эту сподвижницу чуждого достижения, с ее душевною жаждою, с голодом, которого люди насытить не могут, с тонкою косою, перевязанною ниткою, с толстым грубым басом и этим небесным взглядом... Но слушай... мы перешли к теме, кому доступно блаженство.
– Я не долго жила, – продолжала Антонина, – но все дни мои обозначались новыми убеждениями; с ранней весны постигла я (то есть Антонина), что страсти людей порабощены материальностью, что в слабых существах (то есть в нас с Антониной же) ищут не высокого душевного наслаждения, а унизительного чего-то; при одной мысли этой вся кровь моя приливается к сердцу, и, как лютыми волнами, наводняется оно горечью и отчаянием. Еще ребенком, спрашивала я сама себя (то есть все-таки Антонина), где же искать их, этих существ, о которых нашептывает нам самосознание? где страна благословенная, страна избранных? существуют же они... они должны существовать!.. В такой мучительной борьбе с собою провела я несколько лет (по моему расчету, лет этак около десяти) и наконец достигла цели...
– Как, ma cousine, вы нашли такое существо? – спросила я, внутренне радуясь за Антонину.
– Да, нашла, – отвечала она таинственно и величественно, – я нашла избранного...
– Как же вы счастливы, ma cousine! – невольно воскликнула я, надевая на плечи счастливицы спавшую с них кофту.
– Счастлива, счастлива! – проговорила Антонина, – но надолго ли?
– Почему же не надолго?
– Почему? потому что другой путь назначен ему свыше, потому что с другим источником должна слиться его жизнь и всем этим насладится другое существо, другая женщина – таков предел, и я смиряюсь перед ним!
– И вы не завидуете этому другому существу, Антонина?
– Вы этого не думаете, мой ангел, – отвечала кузина, качая головой.
– Но я не вы и, к стыду моему, так много совершенств не в силах были бы оценить ни ум мой, ни сердце.
– Но кто же мешает вам?
– Что это?
– Приготовить себя.
– Но к чему?
– К жизни возвышенной, к миру духовней поэзии...
– Достойна ли я?
– Вы, вы! Nathalie!
И при этом возгласе глаза привилегированного существа начинали уже разгораться, а из уст этого существа, так мне и казалось, что выскочит предложение руки и сердца Купера. Но минута была неудобна для меня; потом я разочла, что отказ мог бы превратить привилегированную в кошку, а по превращении сподвижницы к достижению мира невидимого, небезопасно было бы мне оставаться с нею глаз на глаз; сверх того, почему не продлить удовольствия, которое ни в каком случае возвратиться не могло? Подумав так, я отдалила развязку, обещав измерить свои интеллектуальные способности, и очень ловко навела разговор на Старославского.
На чем могла основываться антипатия Грюковских к соседу нашему? И зачем относиться о нем так дурно, называть Старославского извергом, безнравственным человеком, существом, как выразился поэт, считающим дни свои победами над неопытностью, и, что больше всего меня интересовало, не отказывающего ни одной женщине как в тильбюри, так и в собственном своем обществе? Неужели такой отзыв основан был на равнодушии Старославского к выспренним, духовным свойствам избранных братца с сестрицею? А месть?... я было и забыла про месть Купера, и в особенности того родственника-жуира, который должен был скоро явиться на помощь Куперу. Все это положила я себе извлечь из сердца Антонины; а чтоб успеть в моем предприятии, надлежало оставить нежной кузине полную надежду на успех в деле, к которому приступила она такпоэтически-перфидно.
Ты видишь, ma chиre, что дар выражаться красноречиво восприимчив...
Едва имя Старославского было произнесено мной, как выражение лица Антонины совершенно изменилось: брови сдвинулись, небесная улыбка исчезла вовсе, и самые уста покривились на сторону.
– Верите ли, кузина, – сказала она, поднося сжатую руку к переносице, – каждый раз, что имя это касается до моего слуха, со мной просто дрожь?...
– Отчего же?
– Отчего... отчего!.. Вы не разгадали еще Старославского, вы не имели случая узнать его коротко...
– А вы, кузина?
– Я! Но кто же был с ним в теснейших отношениях?
– Право?
– Надеюсь.
– Расскажите, пожалуйста, chиre Antonine: мне так любопытно слышать все это. Впрочем, может быть, поздно, и вы хотели бы заснуть!
– Я! хотеть заснуть? Как же дурно вы обо мне судите, друг мой! Заснуть? Но спросите, сплю ли я когда-нибудь и доступно ли мне материальное спокойствие?...
Я перепугалась нового вступления вечнобдящего существа на поднебесный путь, с которого она неохотно сходила на землю, и, не дав ей разлететься, перебила вопросом, когда именно Антонина познакомилась с соседом?
– Несколько лет назад, – отвечала кузина, – мы потеряли папашу в Тамбове и, оставшись совершенно одинокими, переехали в здешнюю деревню, которая принадлежит мамаше. Убитая горестью, мамаша понесла все бремя хозяйства, а Купер возложил на себя священную обязанность нашего воспитания. Старославский был в то время на Кавказе и редко наезжал в свой противный Грустный Стан – противный потому, что я вспомнить его не могу равнодушно.
– А вы были в нем?
– Нет, но все равно; по описаниям я воображаю, что это такое!..
– Потом, кузина...
– Потом, очень натурально, мы стали разузнавать, кто живет по соседству; нам назвали многих, в том числе и его. Вслед за тем управляющий или приказчик, одним словом, кто-то такой, затеял с мамашею спор о какой-то земле; вообразите, даже жаловался на мамашу в городе, и к нам приезжали разные чиновники с бумагами – пренеприятно! Мамаша решилась сама написать Старославскому, описывая подробно все дело и прося его очень любезно кончить спор. Как же вы думаете, ma cousine, поступил Старославский? Правда, письмо его было очень любезно и мило написано, и, сколько я помню, он отдавал в мамашино распоряжение все свои оранжереи с цветами и фруктами, конечно, потому, что сам ими пользоваться не мог; но все-таки спор продолжался, и мы впоследствии были даже вынуждены заплатить его крестьянам... Тем начались неприязненные отношения наши. Вдруг однажды является сам Старославский; он был в отпуску. Мамаша, забыв все прошлое, приняла его очень любезно; мы были тогда детьми; я не помню даже, сколько мне было лет (ей было за двадцать). Разумеется, с первого взгляда он показался всем довольно порядочным, впрочем, как большая часть молодых людей... Пробыв несколько часов, он уехал, а на другой день Купер отдал ему визит. Прошло с неделю времени, Купер опять отправился к нему, ma chиre, и позвал его к нам. Старославский явился; мамаша все-таки очень мило пеняла соседу за редкие посещения; гость отзывался боязнью обеспокоить частыми посещениями; но мамаша настаивала, посылала Купера в Грустный Стан только что не каждый день, и наконец Старославский сделался у нас очень частым гостем. Но что уже было дальше, – прибавила Антонина, – я не знаю, должна ли я говорить, ma cousine... мне как-то неловко... а все-таки Старославский дурной человек, человек безнравственный!
– Нет, Антонина, расскажите все – пожалуйста, все, без малейшего исключения, без малейших пропусков! – воскликнула я, только что не обнимая и не целуя Антонины, которая, ты понимаешь, Sophie, остановилась на самом для меня интересном месте. Впрочем, заметно было, что и ей самой страх как хотелось продолжать.
– Ах, как неловко, кузина! – проговорила Антонина, жеманясь и опуская взор свой, – так неловко, что, право...
На этот раз я решительно приняла ее в свои объятия, и она продолжала:
– Мамаше показалось, и Куперу также (я сама была почти ребенок), что Старославский неравнодушен ко мне...
– Вот что! – заметила я.
– Ах, ужасное время, мой ангел, ужасное! но бог с ним! – Глубокий вздох Антонины прервал на минуту рассказ, глаза ее сделались влажны, и, снова потупив взор, она продолжала: – Страсть его ко мне усилилась в короткое время до того, что, изменив себе раз, он больше уже не подходил ко мне и не говорил со мною.
– А этот первый раз в чем состоял он, Антонина?
– Право, не знаю, как сказать.
– Пожалуйста, кузина...
– Ах, бог мой! как конфузно!
– Но не друзья ли мы, chиre Antonine?