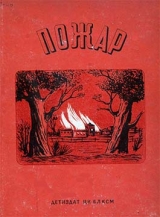
Текст книги "Пожар"
Автор книги: Василий Абвалов
Соавторы: Михаил Жестев,Ефим Ружанский,Екатерина Боронина,Глеб Чайкин,В. Лебедев
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Пожар

РАССКАЗЫ
Глеб Чайкин
Пожар

Была у деда Архипа трубка, большая, с медными колечками. Курил дед Архип корешки.
– Васька, а Васька! – позвал однажды дед. – Принеси-ка мне ступку… Корешки кончились, новых натолочь надо!
Принес Васька деду ступку. Сам остановился, сложил за спиной руки, смотрит, как дед корешки толчет.
– Дед, а дед! – говорит Васька. – Дай корешков, и я курить буду!
– Не дам! – говорит дед.
«Ладно! – думает Васька. – Сам возьму!»
Не успел дед Архип повернуться – Васька запустил руку в берестянку, набрал полную пригоршню корешков и – в карман.
Были Васька с дедом Архипом одни дома. Еще вчера и отец и мать Васьки со всем колхозом на сенокос уехали.
Сели Васька с дедом обедать. Ест Васька гречневую кашу с молоком и думает, где ему огня взять. Спичек у деда не попросишь, а печь сегодня не топилась, – вчера мать все приготовила.
– Дед! – говорит Васька. – Я пойду с ребятами погуляю.
– Ладно, – отвечает дед. – А я сосну маленько после обеда.
Вышел Васька на улицу и зовет:
– Степка-а!
– Чего? – прибегает Степка.
– Давай курить будем!
– А что курить?
– Известно что! Корешки. Бумага у меня есть, а вот спичек нету.
– Ничего, – говорит Степка. – Я знаю, куда мамка спички кладет. Я принесу. – И пошел за спичками.
Ждет Васька. Прибегает Степка.
– Ну, есть?
– Есть, – говорит Степка. – А где ж мы курить будем?
– Здесь и будем… в канаве.
– Ой, Васька, боязно. Увидит кто… Заругают.
– Кто тут увидит!
Сели. Свернул себе Васька цыгарку первым. Ждет.
– Эх, ты, Степа! – говорит. – Что ж ты, Степа, и вертеть не умеешь! – А сам уже цыгарку в зубы взял.
Только прикуривать стали, откуда ни возьмись Клаша, сестренка Степкина, и девчонки с нею.
– А что вы тут делаете? – говорят.
Спрятали мальчишки в карманы цыгарки.
– Мы?.. Ничего.
– А мы знаем… чего!
– А чего?
– Курите. Вот «чего»!
– Мы не курим.
– Нет, курите. А мы расскажем!
Рассердились Степка с Васькой. Ушли за околицу. Сели. Только опять закуривать стали – опять девчонки.
– А мы все видим!
Какое уж тут курение.
– Степка! – говорит Васька. – Пойдем лучше в лес.
Пошли в лес. Березки белые стоят – не шелохнутся. Ветерок чуть дунет, затрепещут листики, запрыгают, и такой шум пойдет – благодать. Хлеба к самой опушке подошли, волнами ходят. Мальчишки в этих хлебах с головой прячутся. На полянках земляникой пахнет. Пчелы жужжат. Мотыльки порхают.
Далеко-далеко где-то кукушка кричит.
– Кукушка, кукушка! – позвал Степка. – Сколько лет мне жизни? – Остановился, считает. А потом спрашивает:
– А какое самое большое число?
– Тыща, – говорит Васька, подумав.
– А вот и врешь, – говорит Степка. – Мильон самое большое число.
– Ты сам врешь! За нашего колхозного быка три тыщи давали, а наш бык самый дорогой на свете, – рассердился Васька.
– А Федор Иванович, агроном, сказал, – возражает Степка, – мильон цена быку нашему. Выходит, мильон больше трех тысяч.
Поругались и помирились. Подошли к озеру.
– Степка, давай купаться!
Разделся Васька, разбежался, бултых вниз головой.
Пошла вода кругами, прозрачная такая. Всю ее насквозь видно.
– Скорее раздевайся… ты, Степа! – кричит Васька, а сам плавает, плавает…
Подплыл к берегу, за корягу схватился. Стал вылезать.
– Ой! – кричит. – Степка, рак!
– Ну! – Степка как был в штанах, так в воду и прыгнул.
Стали ловить мальчишки раков. Наловили столько, что даже Васька сосчитать не смог.
Взяли рубашки, завязали рукава, воротники. Набили крапивой рубашки, положили туда раков.
Шипят в крапиве раки – ш-ш-ш. Скребут друг друга клешнями.
– А курить когда же? – вспомнил Степка.
Кинулись за спичками, а спички в Степкиных штанах мокрые.
– Эх, ты, Степа! – говорит Васька. – Ну, ничего, завтра покурим.
И пошли ребята домой.
Пришли они домой – солнце садилось.
Увидел дед Архип улов, похвалил:
– Молодцы, – говорит, – славных раков наловили. Сварим мы их сейчас. – И стал готовить большой котел. – Созывайте, – говорит, – всю детвору раков есть.
Собрались дети за огородами у речки, там дед Архип костер развел.
Шевелят раки усами – черные, страшные.
Присела Клаша около раков на корточки, смотрит, а в руки взять боится.
А Васька не боится, сам ему палец дал.
Щиплет рак Ваську за палец, а Васька ничего, только посмеивается.
– Герой ты, Васька! – шепчет Клаша. У самой глаза загорелись. – Я никому не скажу, что вы со Степкой курили.
– Вот еще, – усмехнулся Васька. – Говори! Мы не курили.
А сам тем временем у деда спички стянул. Ведь спички Степкины промокли.
Утром встретились Васька со Степкой.
– Ну что, Степка, курить будем?
– Будем. А спички есть?
– Всё есть.
– Где же мы курить будем? Опять помешают девчонки.
Задумался Васька.
– Айда в овин к нам. Там тихо.
В овине сквозняком тянет. Где щель в крыше, там солнечный луч стоит. Веселые пылинки в нем кружатся. Под высокой крышей воробьи порхают, дерутся, спорят, по-своему говорят.
Сели Васька со Степкой в уголке. Закурили.

– Сладко тебе, Степка? – спрашивает Васька.
– Сладко! – отвечает Степка. Сам кашляет, и в глазах слезы стоят.
– И мне сладко! – говорит Васька.
Покачал головой Степка.
– Не буду, – говорит. – Мутит меня, Васька.
– Мутит? Эх, ты, Степа! – храбрится Васька, а сам бледный, даже зеленый стал. На лбу пот выступил. В глазах черно.
– Нет, не буду, – говорит Степка и вышел из овина.
– А я курю, – Васька ему вдогонку. Да так и свалился. Ничего не помнит.
Очнулся, будто что укусило. Вскочил. Вокруг него солома старая тлеет. То вспыхнет, то погаснет. Стал Васька ногами огонь тушить, а огонь все дальше, дальше бежит. Упал Васька, кататься стал. Огонь гасит.
А тут ворох соломы вспыхнул.
Подпрыгнул огонь, как живой, под самую крышу. Дым повалил черный. Загудело. Защелкало. Всю крышу разом охватило.
Закричал Васька и кинулся из овина. Видит: бежит от избы дед Архип. Босиком, бородой трясет, руками машет. Что-то крикнуть хочет, и не может. Вбежал в овин и выбежал обратно с ободом от старого колеса. Носится вокруг овина с ободом в руках и не кричит, и огонь не тушит, и обода не бросает.
Вдруг – бам, бам, бам, бам! – на колхозном дворе в рельсу забили.
Как на счастье, колхозники только что с сеном приехали.
Катят бочки. На ходу лошадей впрягают. Пожарную машину из сарая выкатили и бегом на себе везут.
Как увидел все это Васька, не знает, что с ним стало. Перелез он через забор и побежал к лесу.
Остановится, обернется. Колышется высокий столб огня, а над ним желтый дым растет. Поглядит Васька – снова припустит. Прибежал в лес. Упал – не продохнуть. Уж очень он испугался.
Долгое время лежал так Васька. Встал и дальше пошел по лесу.
Идет и думает: что ж теперь будет? Как ему теперь домой итти. И решил Васька домой не являться.
– Живут же, – рассуждает, – лесные люди, и я буду лесным. Выстрою себе из веток лесную хатку, там и жить буду.
Тем временем захотел Васька есть. Набрел он на куст малины – поел.
«Картошек бы теперь!» подумал Васька и заплакал. А потом и рассудил. Лесные люди картошек не едят, а только грибы и ягоды. А зимой как же? Зимой грибов да ягод нету, и мамки нету, и печки нету. Помрет Васька совсем. И так стало себя ему жаль. И мамку жаль, и деда жаль… И Степки никогда больше не увидит Васька.
«Нет, лучше домой пойду». А как вспомнит пожар – страшно, не идут домой ноги.
Темнеть начало, а в лесу темнеет быстро, и рад бы теперь домой итти Васька, да в темноте не найти дороги.
Лес настороженный стал. Что-то страшное кругом творится. Там, в кустах, шипит что-то. Что-то хрюкает и топочет. Верно, еж со змеей сцепился.
Задрожал Васька, свернул в сторону. Вдруг что-то как шарахнется, как ухнет. Даже ветром в лицо Васькино пахнуло. Сомлел Васька. Даже присел. А это филин взлетел. Побежал Васька, а сзади филин ухает, хохочет.
Бежит Васька.
Там через пень споткнется, там ветка по лицу хлестнет, там сук заденет. Расцарапал себе Васька лицо, расшиб ноги. Чуть не всю ночь бродил по лесу Васька. Только к утру вышел на чистое место. Набрел в темноте на стога сена. Зарылся в одном, заснул.
Проснулся Васька – кто-то его за плечо трясет.
Открыл глаза, а это ребята из их колхоза за сеном приехали. Две бригады – одна женская (бригадиром у них Таня, та, что лучше всех русского пляшет) и еще одна бригада – Вани Журавлева, комсомольского секретаря.
– Ага! – говорит Ваня Журавлев. – Да ведь это ж курильщик наш. Ты что ж это сбежал? Там мамка твоя с ног сбилась, тебя искавши. Думали – в огне ты сгорел.
– Ужо вернись, Васька! – говорит другой парень из Ваниной бригады. – Там батя для тебя пояс приготовил. Он тебя угостит.
Заплакал Васька.
А Таня его к себе на воз посадила.
Едут они на возу. Таня правит, про пожар рассказывает. Ветра хоть и не было, но огонь на избу соседнюю перекинулся.
Приехали в село. Спрыгнула с воза Таня, Ваську сняла.
– Подождите меня, девчата, я сейчас, только вот мальчонку сведу.
Пришли они к Васькиному дому. Боится Васька в сторону овина взглянуть. Взглянул – и обмер. Вместо овина обугленные столбы стоят. Кругом черно. Пологорода вытоптано.
Подошла Таня к окну открытому. Васькина мамка на стол собирала.
– Тетя Марья, – говорит Таня, – выдь на часок.
Вышла Васькина мамка.
– Вот, гляди, – говорит Таня, – кого я тебе привела. Всплеснула руками мамка, а Таня что-то ей на ухо шепчет, на Ваську кивает, улыбается. Взяла мамка Ваську за руку, ввела в избу.
– Ну, Васька, – говорит отец, из-за стола вылез.
Взглянул на отца Васька и опустил голову. Уж очень страшное у него было лицо.
– Ладно уж, Михаил, – заступилась за Ваську мамка, – прости ты его. Он и так страху натерпелся. Совсем на мальчонке лица нет.
Махнул рукой отец. Ничего не сказал больше. Сел Васька за стол. Щи на столе стоят.
– Ну, – говорит мамка, – что ж не хлебаете?
Зачерпнул отец раза три, положил ложку. Из избы вон вышел. Дед тоже не ест. Голову опустил. Как ни хотелось Ваське есть, и он есть не стал.
Заплакала мамка. Хочется Ваське утешить мамку.
– Чего ты? – говорит он. – Не плачь, мамка!
– Как не плакать, – отвечает мамка, – если из-за тебя у нашего соседа дом сгорел. Хорошо, у нас изба вот осталась. И отец твой за тебя отвечать должен.
– А ему что будет?
– Не знаю… Что присудят.
– В тюрьму посадят?
– Может, и в тюрьму – не знаю.
Задрожал Васька. Раньше он об этом не подумал.
– Мамка, пускай меня в тюрьму лучше!
– Какой ты ответчик. Ты маленький.
Пригнал пастух скотину. Сарая нет. Привязала мамка корову под грушей. Груша тоже обгорелая стоит. Листья на ней мертвые, в трубку свернулись. Ревет корова. Помолчит-помолчит, прислушается и снова заревет… да так страшно.
– Чего она? – спрашивает Васька.
– Как чего? За теленком.
– А теленок где?
– Сгорел.
– А поросята?
– И поросята сгорели.
Зазнобило Ваську. Представилось, как теленок с поросятами в сарае горели.
– Больно им было, мамка? – шепчет Васька.
– А то нет!
Пошел Васька к отцу. Отец на пожарище ковырялся, обгорелые бревна в кучу стаскивал. Хочется Ваське что-нибудь бате сказать. Хочет он сказать, что и учиться будет, курить не станет, будет бате во всем помогать. А отец молчит. На Ваську глядеть не хочет. И лицо у него сумрачное. Брови сдвинуты. Щеки опали.
– Батя! – говорит Васька тихо. – Не молчи!
Остановился отец, посмотрел на Ваську.
– Не молчи, батя, – повторяет Васька. – Побей меня лучше.
– Что тебя бить! – покачал головой отец. – Разве этим чему-нибудь поможешь.

Вас. Валов
Самопал

В это памятное утро, проснувшись, первым делом вспомнил я про самопал. Смастерили мы самопал этот вдвоем с Пашей Архиповым и вот решили сегодня испробовать.
– Ты утречком выйди за свой сарай, – сказал Паша мне. – Никто не увидит за сараем.
Вся наша семья еще спала, когда я потихоньку выбирался из избы. Солнце уже взошло и разгоняло утренний туман.
Посреди двора у нас, как большая белая свеча, стоит береза. Если тень от этой березы падает на погреб, считай – еще утро; если на загон для коровы – обед; а к вечеру тень переползает на амбар, на избу. Ствол березы внизу начерно обшаркан: тут и корова почешет бок, и овцы потрутся шерстью.
Вверху на березе, в сучьях, висит моя скворечня. Сколько хлопот было с этой скворечней: и доски раздобывал сам, и гвоздей надергал из стен и разных ящиков. Отец лазил на березу прилаживать скворечню. И все это попусту: воробьи завладели скворечней. Целую неделю силились скворцы отбить у них свой домик, и все напрасно.
Сегодня, видать, драка уже кончилась, скворцы улетели, одни воробьи хорохорятся кругом скворечни. Примостились, сидят, точно комья из конопляных жмых, и чирикают себе на солнышке. Рады, что опять прогнали хозяев.
Зло меня берет: точно смеются надо мной окаянные воробьи. Вот де, ты старался, ладил домик для черненьких, а мы его себе отвоевали, серенькие. Ничего де, что собираешься камень запустить – успеем, улетим, а пока распеваем себе песенки.
А какая песня у воробья, тошно слушать: знай свое, чилик-чилик! А форсу-то: и крылья по-скворчиному поднимет и кланяется туда-сюда, нашим-вашим!
Я уже приготовился запустить камень на березу, но спохватился, вспомнив про самопал.
– Погодите, вот я вас так пугну, что своих не узнаете, – погрозил я воробьям.
Тут как раз показался Паша.
– Давай-ка мы их пугнем, – сказал я Паше. – А то впрямь одолели скворцов.
– Ты что – с умом? – шепчет Паша. – Тут увидят. Пошли вон за сарай. Там шито-крыто.
Пришлось послушаться Павла. Пошли мы с ним за сарай.
– Ты будешь первым стрелять? – спрашивает Паша, вытаскивая самопал из кармана.
Налюбоваться я не могу на самопал. Ствол у него всего-навсего четверть длиной, ручка начерно выкрашена. Только курка нет. Был бы курок – настоящий револьвер.
– Ну, давай стрелю, – говорю Паше.
– Сам будешь запаливать или помочь? – спрашивает Павел.
Вот держу самопал. Паша торопливо ставит в куче соломы крышку от кадки. Чиркает спичку, сует мне в левую руку.
– Лучше целься! В середину меть! – командует Паша.
У меня дух захватывает, сердце замирает. Вот-вот бабахнет. От волнения самопал дрожит в руке. Наконец грохает оглушительный выстрел. Из ствола на целый аршин вылетает струя пламени. Сорвавшись с места, подбегаем к крышке, – дробин десять въелось в нее.
– Ловко ты, – удивляется Паша, – смотри, сколько дробин.
Меня охватывает радость: со временем, может, стану ворошиловским стрелком.
И не заметил я, как затлела от пыжа солома возле крышки.
– Заряди-ка самопал, – говорю Паше, – я вот проучу воробьев. Я их зараз уничтожу за нахальство. Будут они знать, как насильно чужой дом захватывать.
– В живую цель хочешь, – точно подзадаривает Паша. – Смотри, не осрамись: это ведь нелегко попасть.
Направились из-за сарая на середину двора, к березе. Оба с опаской поглядываем на избу нашу, на улицу. Только бы кто не вышел из избы или не увидал нас с улицы.
– А ну-ка дай я сам пальну в них, – говорит Паша.
– А почему это ты «сам», ведь я тоже «сам», – говорю Паше. – Нет, уж давай я бабахну.
Проспорили мы довольно долго. А тут еще, как назло, показался на улице бригадир по полевым работам дядя Маслеев. Двор наш открытый, все видать с улицы.
– А ну их, воробьев этих, – злиться начал Павел, – нарвемся вот из-за них с самопалом. Пошли обратно за сарай.
Только сказал это Паша, как началось страшное, неожиданное… Солома, в которую мы ставили крышку кадки, горела. Пламя высоко вздувалось вверх, до самой крыши. И на моих глазах пламя охватило крышу сарая, стало расползаться по ней во все стороны. Повалил густой дым. Сразу от пламени желтый, потом он становился черным и к небу уходил голубыми клочьями. Огонь гудит ровно и еле слышно потрескивает. Все воробьи вылетели из гнезд в крыше сарая и носятся, не найдя себе места. Слетели разом и воробьи с березы.
– Бежать надо! – тянет меня Паша со двора.
– Куда? зачем? – недоуменно спрашиваю.
– Убьют нас на месте, – трясется Паша, – айда скорее отсюда.
– За что убьют?
– Ты что – не понимаешь? – набрасывается на меня Павел. – Ведь мы подожгли, ты поджег…
У меня сразу опускается сердце, к горлу подступают комья, подкашиваются ноги. В глазах наливаются слезы, – вот-вот зареву от страха.
– Пакля, дурак, пакля! – в самое ухо кричит мне Павел. – Как ты выстрелил, пакля на солому – и загорелось.
Верно же: сколько раз я сам видел, как после выстрела из самопала, отлетев шагов на пять, дымит эта пакля, горит.
Вдруг где-то на задах раздается протяжный крик:
– По-о-ожа-а-а-р!
Павел хватает меня крепко за руку и тянет на улицу.
– Спасайся, пока цел!
Выбежав на улицу, мы оглянулись по сторонам и кинулись к заброшенной избе Евлахова, что стоит наискосок от нашей.
– Спрячемся здесь, сюда никто не зайдет, – говорит Паша.
– Надо бы сказать нашим, – чуть не плачу я, – они же все спят в избе.
– Сиди, не рыпайся! – держит меня Павел.
Спрятавшись в заброшенной избушке Евлахова, мы робко глядим в заколоченные досками окна. Доски невплотную друг к другу, так что хорошо нам видать улицу и наш дом.
По улице забегали люди. Все бегут к нашему дому. Бегут они кто с топором, кто с багром, многие бренчат ведрами.
– Пожар! – орет кто-то неистово.
Как хорошо бывало мне всегда с радостью глянуть на свою родную избу. Теперь она, изба наша, стоит, как бы замерев от страха. Позади нее, за амбаром, над постройками подымается большими стогами дым, хлещут огненные языки. Похоже – туча упала на наш дом и, разорвавшись на клочья, заплывает теперь обратно к белесовато-синему небу.
Вот уже народу полно и на улице против нашего дома, и во дворе, и в нашем садике рядом с домом. Мечутся все, бегают, точно под ногами раскаленная земля и невозможно устоять на одном месте.
Много сгрудилось людей в саду нашем. Впопыхах люди топчут кусты смородины, малины. Ломают сучья яблонь и вишен.
Вот кто-то стаскивает багром горящую балку.
– Уходи все вон! – закричали мужики.
Народ откатился назад на вишни, балка с крыши грохнула прямо на яблоню. У меня выступили слезы. Яблоня эта была самая лучшая в нашем саду, так мы ее и звали мичуринской. Сколько ухода было за ней, и вот разом погибла.
– Что же мы, Пашенька, наделали, – заливаюсь я слезами.
Паша и сам еле сдерживает слезы.
– Пропади он пропадом, этот самопал.
Улица наша вся теперь завалена вещами. Все соседи вынесли из домов столы, стулья, швейные машины. По улице слоняются коровы, бегают кучками напуганные овцы.
Вот уже подкатили к нашему дому пожарные. Пожарные нашего колхоза славились на весь район. Главный пожарный, дядя Артем, курсы прошел в городе.
– Сюда машину! Сюда! – орет мой отец где-то во дворе.
Дружно закачали колхозники, и застреляла светлая струя в огонь. Но не одолеть тонкой струе огонь, так он и расползается, переходит на другие постройки. От сарая переполз на амбар, с амбара на крышу избы.
– Окна хоть снимите! – кричит мать.
Отец мой с топором бежит к крайнему окну. Опалил он бороду: стала она заметно короче, однобокая.
Торопливо сбивая обухом гвозди, быстро высадил он все рамы – и сразу изба стала пустой, заброшенной.
Вдруг в окне показалась наша гусыня-наседка. Стоит она на подоконнике белая и крутит шеей туда-сюда.
У нас каждую весну за печкой в деревянном ящике высиживает наседка гусят. Сколько радости было, когда вылупился первый гусеныш.
И вот теперь почуяла наседка неладное, стала выбираться из избы. На солнце блестит ее грудь и шея.
Чуть погодя наседка резко и отрывисто крикнула, взмахнув крыльями, полетела.
Оставила она своего гусеныша первого, оставила недосиженные яйца в избе. Сгорит гусеныш теперь.
Непонятно и страшно мне все это. Смотрю я на все как во сне.
– Паша, уйдем отсюда, – молю Павла.
– Хочешь смерти – ступай, – шепчет Павел.
И шопотом начинает он говорить о том, что при пожаре виновных всегда бросают в огонь. Будто бы прошлым летом в Яркиной бросили в огонь одного мальчика.
Случилось будто это так: вздумал мальчик тот, как ушли все из дому, яичко себе сварить. Будто он, глупый, за сараем и развел огонь. И наделал дел. Полдеревни сгорело.
– Отец его и закинул в огонь, – говорит Паша, – без памяти он был, в сердцах.
– Полно тебе, – останавливаю Пашу, заливаясь слезами, – и так страшно, а ты еще…

Прямо на наших глазах сгорела начисто крыша избы и обвалилась. Вся изба теперь походит на пустой сруб из красных, обуглившихся бревен. Кажется – кинь в этот сруб кирпичом, тотчас все рухнет, развалится.
Вдруг, не помня себя, я выбегаю из Евлаховой избушки и бегу прямо на народ. Пускай бросают на огонь. Все равно конец. Сгоришь – и все. Навстречу мне бежит с вытянутыми руками мать. Плачет она, вопит, как маленькая:
– Сынок, куда ты подевался, сынок!.
Провалиться бы мне в это время сквозь землю! Убежать бы куда-то в поле, в лес и затеряться там, сгинуть!
Если бы только знала она про поджог, про выстрел мой из самопала… Какими бы словами ругала меня, каким бы битьем проучила! Но ничего-то она не знает, ничего ей неизвестно. Лучше бы она знала уже обо всем и отлупила бы так меня, чтоб живого места не осталось на теле!
Как неповинного, повела она меня к своим, к семье нашей и усадила на сундук, вынесенный из избы. Все наши молчат. Делать совсем нечего теперь. К нашему дому близко не подойдешь, догорает он свободно, без помехи. Пожарные защищают только дома соседей.









