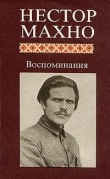Текст книги "Живой меч или Этюд о Счастье Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста (СИ)"
Автор книги: Валерий Шумилов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
НОЧЬ ТРЕТЬЯ: НА 10 ТЕРМИДОРА.
РАТУША. ДОЖДЬ
28 июля 1794 года
Ухватил всадник страшною рукою колдуна и поднял его на воздух. Вмиг умер колдун и открыл после смерти очи. Но уже был мертвец и глядел, как мертвец.
Н. Гоголь. Страшная месть
Он стоял и смотрел в дождь [20]
[Закрыть]. Последние минуты ему начинало казаться, что так будет длиться вечно: и эта черная ночь, убившая, наконец, безумный сон дня; и эта темнота, скрывшая от глаз бурлящие непонятной суетой старинные улицы Парижа; и эта ночная прохлада, пришедшая на смену удушающей атмосфере невыносимо жарких дневных часов; и этот шелестящий дождь, пошедший столь неожиданно, монотонный, успокаивающий, оплакивающий…
Он стоял и смотрел в дождь. Все было кончено, он знал это и хотел сейчас для себя только одного – уснуть. Он не спал уже вторые сутки и теперь на смену прежнему лихорадочному возбуждению утренних часов, когда он в неслыханном напряжении ожидал решающего сражения, пришла полная душевная опустошенность; сжатая пружина расправилась, и он весь обмяк в сознании обреченности, – нет! не собственной обреченности, но краха дела, за которое он боролся, краха своей мечты.
Он стоял и смотрел в дождь. Впервые за много дней повеяло прохладой, но этот крупный летний дождь, которого так ждали парижане, с тоской поглядывая на небо в эти дни невероятно удушливого термидорианского пекла, пришел так некстати, – разразился в те самые часы, когда решалась судьба Первой Республики. И он довершил то, что не доделала Ночь, бросившая в объятия сна, несмотря на неумолчный набат, большинство городских домов: дождь прогнал с мостовых любопытных, очистил улицы от сочувствующих, охладил горячие головы сторонников.
Словно само Верховное существо решило вмешаться в схватку между Порядком и Утопией, бросив на чашу колеблющихся весов силу своих стихий. И теперь Небо плакало – мощные струи воды поливали косые черепичные крыши, запыленные фасады домов, грязные булыжники мостовых. Казалось, оно оплакивает саму Великую Революцию, вспыхнувшую во имя мечты о привнесении идей Небесного Царства на землю, мечты, которая руками ее творцов рухнула в кровавую пропасть фракционной борьбы за власть и за право повелевать другими людьми на долгом пути к этому неосуществившемуся Царству…
Он стоял у распахнутого окна второго этажа и смотрел сквозь тугие струи дождя на обширную площадь перед Ратушей и видел в свете ярко иллюминированного фасада и многочисленных факелов: отдельные кучки национальных гвардейцев, собравшихся у нескольких огромных костров, которые тщетно силился погасить не перестававший ливень; десятки пушек, направленных на примыкающие к площади улицы; выстроившиеся рядами тщательно сложенные в рогатки ружья; баррикады, которые начали было возводить, а теперь бросили. И подобно тому, как залпы картечи пробивают живые просеки в колоннах наступающего врага, так и дождь сначала пробил бреши в рядах защитников Ратуши, а затем произвел и полное опустошение: он видел, как национальные гвардейцы уходили со своих постов сначала по одному, а потом стали разбегаться и группами. Площадь пустела…
А он просто стоял и смотрел в дождь.
Сен-Жюст помнил, как совсем недавно, около полуночи, он с освобожденным вместе с ним из тюрьмы в Экоссе председателем Революционного трибунала Дюма прибыл к парижскому муниципалитету, сопровождаемый чиновниками Коммуны; как молча и неторопливо он прошел сквозь ряды национальных гвардейцев и канониров, охранявших подступы к площади и сам вход в Ратушу; и как еще тогда он как-то отстраненно подумал, что как их мало, этих последних защитников низвергнутой Республики Робеспьера, – куда подевались стотысячные толпы первых революционных лет! – теперь на площади находилось в тридцать-сорок раз меньше людей, чем в памятные всем дни
14 июля, 10 августа или даже 2 июня, – не более трех-четырех тысяч человек. Набат не смог собрать больше, и это означало, что, как он и предполагал, «заледеневшая» Революция уже не способна была спасти самое себя и их неудача определилась еще до их выступления.
Дождя еще не было, но ночное небо было совсем темным, – с вечера собирались большие грозовые тучи. Тогда еще никто не думал, что как некстати этот дождь, – никто не предполагал, что поднявшийся на защиту свободы народ способен разбежаться по домам из боязни промокнуть под дождем, от каких-то жалких струй воды, льющейся
с неба, – такого просто не могло быть…
Он поднялся по широкой роскошной лестнице и вступил в Генеральный зал заседаний, огромный, помпезный, монументальный, не в меру украшенный всевозможной республиканской символикой, словом, парадный фасад революционного Парижа. Его встретили радостными криками, почти овацией. Зал был переполнен. Сен-Жюст с легким удивлением отметил, что народу здесь было очень много, казалось, даже едва ли не столько же, сколько на площади. 572 члена Генерального совета Коммуны, присяжные Революционного трибунала, чиновники, какие-то военные, санкюлоты в красных колпаках – все были здесь. Это множество возбужденных лиц, мелькающее то тут, то там оружие, оживленный говор уверенных в успехе людей, не раз споривших с «законной властью», производили впечатление даже большее, чем недавно бесновавшийся Конвент. Мелькнула надежда на победу. Мелькнула и пропала… Он прогнал ее прочь. Прогнал, потому что уже не хотел ни верить, ни надеяться… Да и так ли уж нужна была ему и Робеспьеру победа? Потеря веры в людей вообще (а не только в их добродетели!) делала бессмысленной саму победу…
У входа в зал совещаний к Сен-Жюсту с радостным криком бросился Леба. Он был готов обнять своего друга, но не решился сделать этого, – лицо Антуана было белым и мертвым, всегда бесстрастный, сейчас он просто напоминал заведенный механизм, – и поэтому Леба только крепко по-римски сжал ему руку.
– Коммуна организовала Исполнительный комитет по руководству восстанием, – сказал Филипп, не отпуская его руки. В его голосе все еще слышалось некоторое замешательство. – Ты должен немедленно присоединиться к нам. Необходимо действовать. Наш единственный шанс – поддержка армии. Я только что отправил письмо командующему Саблонским лагерем.
– И подписал его, конечно, депутат Леба, – заметил сопровождавший их в зал совещаний маленький нервный Пейян, вышедший встретить Сен-Жюста и Дюма. – Не обольщайся, Филипп, никто из вас это еще не правительство, так, отдельные депутаты. Народ Парижа восстал, мы призвали к оружию секции, но армия может помешать нам. Только авторитет Робеспьера может склонить чашу весов на нашу сторону. А Робеспьер… Что с ним происходит? Вы должны расшевелить его, пока еще не поздно…
Войдя во второй меньший зал Ратуши, Сен-Жюст вместо приветствия только кивнул присутствующим и, пройдя в дальний угол стола, сел на поспешно поставленный для него стул и как будто оцепенел. Они не сказали с Робеспьером ни одного слова, но похоже было, что ни он, ни Неподкупный вовсе и не склонны были продолжать тот теперь уже бессмысленный разговор 7 термидора о диктатуре.
Робеспьер был подавлен. Временами он вытирал платком холодный пот, выступавший на покатом лбу. Чувствовалось, что он ждет каких-то слов от Сен-Жюста, что молчание и бездействие Антуана угнетает его, ибо оно говорило совершенно ясно: лучший тактик робеспьеристской партии уже считает, что все проиграно, что они, благодаря «силе вещей, о которых и не помышляли», уже фактически мертвы, что никакие тактические успехи не изменят ситуацию общего поражения, что бессмысленно сопротивляться и, значит, надо подчиниться Судьбе, перечеркнувшей их жизни, может быть, во имя исполнения какого-то другого высшего предназначения…
В этот самый момент и пошел дождь. Они сразу услышали внезапно прогремевший гром, почти немедленно заглушенный бодрым шумом хлынувших сверху потоков воды. На мгновение члены Исполнительного комитета примолкли, но потом бесполезные прения продолжились в той же лихорадочно-возбужденной манере пытаться сразу решать все и не решить ничего, – предложения одних немедленно отвергались другими: кто-то предлагал немедленно атаковать Конвент, кто-то требовал лично идти в секции, кто-то даже высказывал мысль о том, чтобы покинуть Ратушу и перебраться за город в расположение верных войск, если таковые бы обнаружились, но общий план действий никак выработать не удавалось. Все же какие-то распоряжения принимались: Сен-Жюст слышал, как Исполнительный комитет подтверждает прежний приказ арестовывать всех командиров Национальной гвардии и их адъютантов, зачитывающих в своих частях декреты Конвента;
как решают каждый час посылать двух комиссаров из членов Генерального совета во все секции для поддержания связи между ними и Коммуной – мера своевременная, потому что большинство секций все еще колебалось;
как обсуждают возможность приглашения в Ратушу «для совместного обсуждения опасного положения» всех оставшихся в живых членов Коммуны 10 августа (всех, кто еще не был казнен и кто, как Тальен или Колло д’Эрбуа, не находились в стане врагов);
как, наконец, принимают решение ввиду начавшегося из-за проливного дождя бегства с Гревской площади все еще остающихся верных Коммуне частей, послать туда очередную депутацию с призывом «от имени отечества» не покидать своего поста, а также осветить весь главный фасад Ратуши яркими огнями, чтобы было лучше наблюдать за происходящим на площади.
И вот тогда, чтобы не смущать Робеспьера, Сен-Жюст поднялся, встал у большого раскрытого окна второго этажа и, повернувшись лицом к дождю, постарался забыть о происходящем за его спиной.
Этот неожиданный ливень был последним утешением для измученного сознания: прохладный воздух свежил голову, временами попадающие на лицо брызги действовали успокаивающе, а монотонный грохот барабанящих по карнизу капель постепенно усыплял, погружая в какое-то неведомое ему сладостное оцепенение.
Он стоял и смотрел в дождь. Он не хотел уже ничего слышать и видеть, кроме вот этих вспышек изломанных молний, которые периодически полностью освещали всю площадь перед парижским муниципалитетом, а вслед за ними доносился и раскатистый треск грома, словно это где-то там, далеко за городом, гремела какая-то битва и непрерывно палили из пушек, – Сен-Жюст уже наблюдал нечто подобное на полях сражений, – а теперь в эту ночь, когда зарядил не на шутку дождь, гром тоже гремел почти беспрерывно. И это сражение стихий почти заглушило для него и неумолчный набат, все время стучавший в виски, и громкие крики гвардейцев снизу с площади, и надоедливую трескотню голосов членов Коммуны, доносившихся до него сзади из зала совещаний, и даже через распахнутую настежь дверь из зала Генерального совета.
О, если бы можно было бы совсем заглушить этот бессмысленный невыносимый говор людей, не понимающих, что уже ничего невозможно сделать, что нужно только спокойно умереть, а не суетиться и не кричать при этом какие-то бесполезные слова…
– Мы направили двух членов Совета на площадь, чтобы они призвали граждан присоединиться к Коммуне, а они уже разошлись. – Еще бы! Они ведь собирались у Ратуши вовсе не для того, чтобы защищать тех, кто так взвинтил максимум! – Да, это же какое-то предательство!…
– Арестовать комитет секции Прав Человека… – Командир отказался послать канониров? Достаточно арестовать командира, а не весь комитет… – Послать для этой цели шесть жандармов с офицером…
– Арестовать надзирателя тюрьмы Лафорс, отказавшегося выдать ключи… – Да, но он же потом их выдал? – Выдал лишь под угрозой…
– Арестовать всех лидеров Конвента… весь Комитет общественного спасения… – Оба Комитета – и общей безопасности тоже… – И закрыть все газеты…– Что же еще?…
– Всем установленным властям принести присягу Коммуне…
– Принести присягу также депутациям всех секций… – И всем командирам секций…– Да, но пока присягу принесли только восемь секций… – И это несмотря на набат… – Даже секция Пик, оплот Неподкупного, не отозвалась на наш призыв…
– Всех впускать и никого не выпускать! – так, кажется? Проследить, как выполняют это распоряжение часовые у входа… – Выпускать только по пропускам, выданным Исполнительным комитетом…
– Где временный командующий Национальной гвардией Жио?… – А как же Анрио? – Он же пьян!… – Передать все полномочия Коффиналю…
– Надо выяснить, наконец, что предпринимает Конвент… – Послать туда людей… – Поздно…
– Давно пора и якобинцам присоединиться к нам, чем присылать свои депутации и выступать друг перед другом с приветственными речами, ведь их там вчера было как-никак целых три тысячи. Если их вооружить, то вместе с нами это была бы внушительная сила…
Он стоял и смотрел сквозь плотные струи воды в ночную темноту спящего города поверх огромных костров Национальной гвардии, и видел в свете иллюминированного фасада Ратуши уже почти совсем пустую Гревскую площадь, брошенные пушки и думал, что эта площадь, чье имя сотни лет ассоциировалось с казнями прежнего королевского режима, станет теперь свидетелем более трагического зрелища – падения последнего оплота Первой Республики Франции – Коммуны. И видя, как на конце улиц, выходящих на площадь, показались отряды Конвента, – ибо чьи отряды это могли еще быть? – и какие-то люди в трехцветных шарфах (он разглядел и это) при свете факелов что-то зачитывали национальным гвардейцам, – Сен-Жюст подумал, что теперь Ратуша действительно напоминает маленький островок в бушующем океане, и скоро волны поглотят его, – «царство разбойников наступает» – вспомнил он слова Робеспьера. Надежда, которая мелькнула у него в самом начале, когда он прибыл в Ратушу, что если восстание и не увенчается полным успехом, то, по крайней мере, Конвент будет вынужден пойти с ними на переговоры, исчезла окончательно. Но он тут же решил про себя, что, наверное, Робеспьер все же прав: это и к лучшему, - компромисса с врагами искать не стоит, – все или ничего! – и если вслед за пошедшим против них Национальным собранием страны от них отвернулся народ, который тем самым осудил их, значит, надо или не согласиться с обманутым народом, или признать свое поражение, – но во всех случаях они уже не увидят ту Совершенную Республику, о которой мечтали, – и если так, то, конечно же, им лучше умереть, потому что жизнь после этого теряет всякий смысл для них…
И все это время, пока Сен-Жюст смотрел в окно Ратуши, он не видел, что происходит у него за спиной. Но он все слышал, хотя и оставался стоять неподвижно, как будто все происходящее никак не касалось его. Так он слышал, как Пейян и член Генерального совета Пари зачитывали составленное ими воззвание к парижскому народу;
и как депутация революционного комитета секции Ратуши высказывалась в поддержку Коммуны «во имя спасения отечества»;
и как выступления Огюстена Робеспьера и Коффиналя, говоривших друг за другом о том, что против них выступил не Национальный конвент, а кучка трусов и предателей, которые и составляли заговоры против свободы на протяжении последних пяти лет, сменила приветственная речь уже второй или третьей по счету депутации Якобинского клуба, призывавшей принять суровые меры против зловредных членов Конвента, разошедшихся по секциям и «смущавших своими речами граждан»;
и как, наконец, канонир секции Бон-Консей Шапен, а затем и сменивший его Пейян попытались высмеять страшный для всех декрет Конвента об объявлении вне закона уклонившихся от ареста депутатов, членов Коммуны и всех граждан, кто присоединится к ним, - и это было роковое мгновение, потому что от этого декрета веяло могилой:
он безумно напугал многих колеблющихся и сделал возможным бегство сторонников Коммуны теперь уже не только с Гревской площади, но и из самой Ратуши. Оба зала быстро пустели, хотя народу еще оставалось еще довольно.
А дождь все шел. И когда уже глубокой ночью в зал совещаний внесли совершенно мокрого Кутона, и Робеспьер радостно бросился обнимать своего соратника, встретив его куда более сердечно, чем Сен-Жюста, а «Аристид Кутон» саркастически прошелся по поводу своей жены, долго не желавшей отпускать его из дому («Ты идешь, чтобы найти свою смерть, а я ответил, что не все равно где найти ее: дома или на посту, и уж лучше на посту!»), Сен-Жюст подумал, что и Жорж и Филипп так и остались ничего не понимающими идеалистами: они могли бы вовсе не приходить в Ратушу, – проку от них не было никакого, и, пожалуй, для них было бы лучше, если бы они свои последние часы все-таки провели дома; и, наоборот, долгое их ожидание, растянувшееся на шесть часов, только тормозило действие Коммуны, - все ждали, когда освобожденные из-под ареста представители народа соберутся вместе, чтобы принять план действий, а между тем чем могли помочь два беглых депутата?
Но они, по крайней мере, попрощались со своими семьями, подумал Сен-Жюст. А ему прощаться не с кем… Мысли вяло шевелились в его все более и более замерзающем мозгу. Ну, вот он и свободен…
Но Филипп Леба, который тоже несколько раз подходил к окну и становился рядом с Сен-Жюстом, вывел его из этого сладостного месмерического оцепенения.
Антуан не сразу понял, что его друг обращается к нему, так же как не слышал и его первых слов, - Леба был от него теперь так же далек, как и Робеспьер, как и любой другой человек, кем бы он ни был; Сен-Жюст, который со странным почти мистическим спокойствием наблюдал за собственной агонией, уже почти весь находился там, в Царстве Теней; и возвращаться в прежний мир, опутанный сетями лжи и порока, было слишком мучительно…
– …Я поклялся Элизе, что вернусь победителем, но если мы проиграем… она не увидит моей казни… Я сам поклялся себе, что не переживу поражения… У меня есть два пистолета, и я готов предложить тебе один из них, Сен-Жюст…
Антуан смотрел на него пустыми глазами. О чем это так бессвязно лепечет Леба? Ах да, о самоубийстве… Глупец, зачем он тогда присоединился к ним в Конвенте, его же никто не называл, - он не был в списке заговорщиков, и на нем нет крови… Нет крови… Кровь… Они проливали кровь друзей и врагов и вот теперь должны пролить собственную кровь.
Он снова взглянул в дождь и вдруг увидел его совсем по-иному: с неба лились потоки крови, в этот вечер последнего дня только казавшиеся обычной водой. Эта кровь-вода, бурля, стекала по сточным трубам, пенилась на булыжниках мостовых, просачивалась сквозь землю. В крови была вся земля.
Не в силах больше смотреть на дождь, Сен-Жюст прикрыл глаза. Все еще думая о крови, он вспомнил об убийце Цезаря Бруте, чьим именем клялся во время своего дебюта на трибуне Конвента – той самой, которая тринадцатого ноября 1792 года стала для него Капитолием, а сегодня, всего через шестьсот двадцать два дня, обернулась Тарпейской скалой, и он сам, словно в насмешку над собственной судьбой, заявил об этом за секунду до того, как Сенат бросился на него! – Антуан стиснул зубы: Брут был прав в свой собственный последний день.
Сен-Жюст машинально опустил правую руку вниз и коснулся кончиками пальцев кинжала, который высовывался из-за его широкого пояса. Где он его взял? Он не помнил. Да сейчас это было и неважно, потому что для него это был не выход. Он не признает своего поражения перед врагами: он не может убить себя сам, как когда-то обещал и себе и другим, теперь обстоятельства переменились, - теперь это должны сделать они. Только тогда его роль будет сыграна до конца; только так он не разрушит в глазах других тот образ, который придумал себе сам и который теперь стал его истинным Я…
Но Леба истолковал жест Сен-Жюста и его взгляд совсем по-иному. Он отступил назад и глухо бросил, потупив голову:
– Но ты не умрешь первым, и ты не должен меня просить об этом. Первым буду я…
Антуан даже не ответил, отвернувшись от Леба. В этот момент в зал совещаний в последний раз прибыла депутация Якобинского клуба, к Сен-Жюсту обратились, и он, понимая, что времени уже почти не остается, молча пожал плечами, отошел от окна, сел на свой стул и принялся просматривать какие-то бумаги, которые ему подавали и под которыми подписывались и другие члены Исполнительного комитета, - по видимому, совершенно бесполезные листы, - теперь уже любые усилия были напрасными, и сейчас не только он знал это – это понимало уже большинство…
Все было напрасно? Напрасно?! Отложив перо, Сен-Жюст поднял глаза и посмотрел поверх голов на текст Декларации прав человека и гражданина, высеченной золотыми буквами на мраморной доске, которая украшала стену напротив. Нет, не все, что было сделано им и его соратниками, бесследно исчезнет. Забудутся кровавые жертвы на площади Революции, но останется эта Декларация… Останется Конституция 1793 года, она вступит в действие после их гибели (хочется в это верить), а ведь эту Конституцию в значительной степени создал он… Останется память и об их революционном правительстве, созданном им и Робеспьером, правительстве, которое впервые в масштабах целой страны попыталось воплотить в жизнь Великую Мечту о совершенном обществе добродетельных граждан; к сожалению, эта попытка, стоившая им рек крови, не удалась, и они погибли…
– Максимилиан, надо подписать воззвание к секциям, – услышал он голос Кутона и опустил глаза.
Робеспьер, такой же вялый и неподвижный, как и Сен-Жюст, теперь, казалось, сбросил оцепенение и готовился действовать. Глаза его лихорадочно блестели, но тон голоса по-прежнему оставался нерешительным.
– От чьего имени? – с сомнением спросил он, оглядывая сидящих за столом соратников.
Этот простой вопрос вызвал почти замешательство: Леба и Огюстен Робеспьер переглянулись, Пейян хмыкнул, Флерио удивленно воззрился на Неподкупного, и лишь один Кутон не смутился:
– Разумеется, от имени Конвента.
– Действительно, – радостно воскликнул Леба, – разве мы сами не составляем Конвент, разве он не там, где нходимся мы? Остальные всего лишь мятежники!
– Остальные всего лишь мятежники, – как эхо повторил Кутон.
– Я думаю, воззвание надо подписать от имени французского народа, – вдруг как-то вяло произнес Робеспьер и нерешительно посмотрел на друзей, словно ища поддержки.
Его поняли.
– Ты как всегда прав, Максимилиан! Если Конвент предал нас, если он весь против нас, значит, Конвента больше не существует! Отныне только Мы представляем народ Франции!
Это Огюстен. Но не его, не его слова, не слова брата ждал Робеспьер.
– И если Конвент восстал против Республики, то народ Франции восстанет против Конвента. Потому что на нашей стороне весь народ города Парижа! – неожиданно поддержал Огюстена Пейян.
Щека Робеспьера снова дернулась в нервном тике, и он решился посмотреть, наконец, на Сен-Жюста. На этот раз тот не отвел глаза. «Да, сказали они, пятьсот депутатов и пять, пятьсот против пяти – истинно революционная арифметика, но, Максимилиан, ты же сам не способен поверить в нее…»
Не нужно никому и ничему верить, – вдруг приказал он себе. – Все очень просто. Просто, потому что подчинятся тому, кто будет завтра победителем… кто бы ни победил. А победит тот, кого поддержит народ Парижа (Не «народ» – «толпа», – вновь поправил он себя). А этот ничего не понимающий народ, народ Эбера и Шометта, народ кордельеров и народ Дантона, не способен понять, что же двигало нами, рыцарями Царства Добродетели. Посмотри в окно, Максимилиан, где он, твой державный народ, много ли там наших защитников? Это мы – кучка мятежников, пятеро против пятисот в представительстве великого народа, который восстал против нас. Ты почувствовал сегодня его ненависть в Конвенте. Эта ненависть… Они ненавидят нас, потому что не понимают. И поэтому мы обречены. И поэтому невозможно бороться…
Или, может быть, не они не понимают нас? – МЫ не можем понять ИХ?
– Сен-Жюст, а что думаешь ты? – кто сказал это? Кажется, опять Кутон. Но и другие смотрели на него, смотрели все, кроме Робеспьера, опустившего голову.
И Сен-Жюст, глядя на Робеспьера, наконец разжал губы, впервые за много часов нарушив свое молчание:
– Я пришел сюда не для того, чтобы действовать, – и, переведя глаза на смотревшего прямо на него Леба, добавил: – А для того, чтобы умереть…
И Робеспьер, который уже начал выводить свою подпись под воззванием, начинавшимся до ужаса привычным, а значит, уже и совсем затертым обращением, утратившим первоначальный смысл, – «Мужество, патриоты!», – и вывел две первые буквы неровным дергающимся почерком, услышав эти слова, словно обращенные к нему одному, вдруг замер, и его рука, в которой все еще дрожало смятое гусиное перо, застыло, занесенное над бумагой.
А Сен-Жюст, смотревший какое-то время на эту дрожащую руку, вдруг снова понемногу стал различать сквозь внезапно приумолкший говор членов Коммуны бешеный ритм барабанящих по фасаду Ратуши мириадов дождевых капель. Он вновь отключился от происходящего и слышал теперь только этот шелестящий успокаивающий шум низвергавшейся с неба воды. Но это длилось только миг. Потому что немедленно шум дождя, настойчиво вторгавшийся все эти часы в его сознание, заглушил другой шум: крики «Да здравствует Робеспьер!» («Виват Робеспьер!») внезапно ворвались в сгустившуюся атмосферу обреченности, царившую в Ратуше. И тут же эти восторженно-восхищенные крики сменились выстрелами, грохотом падающих стульев и ломающейся мебели, стуком бьющих в двери прикладов, бряцающим звоном сабель, беспорядочной беготней потерявших от страха голову людей, и, наконец, множественные отдельные крики, раздававшиеся отовсюду, вдруг слились в один общий пронзительный вопль, и этот вопль, словно вырвавшийся из глотки какого-то неведомого исполина, ростом, наверное, превышающим величественный Нотр-Дам (ныне – Храм Равенства), до основания потряс все здание парижского муниципалитета. Но и его покрыл тяжелый приближающийся топот большой массы людей, бегущих сомкнутым строем.
В общей сумятице заметавшихся вокруг него фигур Сен-Жюст медленно поднялся со своего места, шагнул назад ближе к окну и, скрестив руки на груди, одним взглядом окинул торжествующий вокруг него хаос. Он увидел, как Пейян, мэр Флерио-Леско и некоторые другие кинулись в соседнюю залу Ратуши и как, наоборот, из нее выбежали Анрио и еще несколько офицеров Национальной гвардии, и что Анрио при этом безостановочно кричал: «Нас предали! Все погибло! Все погибло!» – и по его сумасшедшим глазам Сен-Жюст понял, что генерал окончательно потерял рассудок. Но контроль над собой потерял не один Анрио – его не сохранил никто; а Коффиналь, крича в лицо своему бывшему начальнику, бывшему командующему Национальной гвардией Парижа и бывшему военному вождю восставшей Коммуны: «Это ты во всем виноват, ничтожество! Мизерабль!» – бешено тряс его за грудь, как грушу.
Все смешалось и завертелось в бешеной пляске теней на огромных великолепно отделанных стенах революционного муниципалитета. Ворвавшиеся в зал жандармы с дубинками, гвардейцы с саблями и секционеры в красных колпаках с пиками, как гончие, набросились на инсургентов – членов Коммуны и национальных гвардейцев, оставшихся верными «священному праву восстания», на людей, многие из которых были одеты точно в такую же форму, как и они. Закипела схватка, в которой члены Коммуны, большей частью безоружные, отбивались голыми руками, пустив в ход даже обломки стульев и сидений, которые они разбивали о головы хватавших их жандармов.
Время остановилось для Сен-Жюста. Он наблюдал происходящее как череду медленно сменявших друг друга картин. И хотя все эти картины он видел считанные мгновения, сами мгновения растягивались до бесконечности. Так он видел застывшего в дверях Леонара Бурдона, возглавлявшего ворвавшуюся в Ратушу колонну, с красным вспухшим от напряжения лицом, который направлял на него саблю, показывая его жандармам, так как Сен-Жюст был одним из первых, кого следовало арестовать. Одновременно он видел и упавшего на пол Кутона и то, как он заползал под стол, сжимая в руке кинжал. Он видел и застывшего мертвенной статуей Леба, у которого двигалась только одна рука, рука, которая подносила к белому неподвижному лицу пистолет. В это последнее мгновение Леба даже не посмотрел на него, не обернулся, чтобы еще раз увидеть своего великого друга, человека, всецело подавившего его волю и ставшего для него не только идеалом, но и злым гением. Впрочем, самоубийца не смотрел и на Робеспьера: видимо, перед меркнущим взором Филиппа Леба в ту самую секунду, когда он уже нажимал на курок, мелькнуло только лицо его жены и маленького сына, а уже в следующую секунду все исчезло для бывшего депутата от Па-де-Кале.
Выстрел, которым покончил с собой Леба, почти слился с другим выстрелом, – Сен-Жюст увидел, как падает Робеспьер с окровавленным лицом и как со стола он сползает на пол. Торжествующие крики врагов перекрыли крики отчаяния его друзей; и обезумевший Коффиналь, все еще трясший за грудь прижатого им к окну Анрио, вдруг с невероятной силой поднял и перевалил его через подоконник и вышвырнул вниз прямо на мостовую с огромной высоты; а затем он с другими такими же обезумевшими членами Коммуны набросились на жандармов Бурдона и на мгновение разбросали их в разные стороны. Они вытащили из-под стола раненого Кутона с окровавленным кинжалом, которым тот так неудачно ударил себя, и потащили его к противоположному выходу из зала, отбиваясь от нападавших с силой отчаяния; но было поздно – жандармы настигли их в дверях, и Кутон с пробитой головой, дважды раненый, покатился вниз по лестнице…
Сен-Жюст еще заметил, как стремительно рванулся к окну, из которого только что выпал Анрио, Огюстен Робеспьер и, вскочив на подоконник, прыгнул вниз, – и тут же подумал, что, наверное, вот настала и его очередь – все его соратники-депутаты мертвы, покончили с собой, и неужели он останется один и не последует за ними в этой «римской смерти» проигравших жизнь последних республиканцев?
Он напрягся в последний раз в чудовищном усилии стряхнуть с себя оцепенение… но не смог пошевелиться. И это была уже не вялость во всех членах. Это было полное заледенение, когда сознание почти отключилось и внутренняя пустота, заполнившая душу, уже не отзывалась ни на какие внешние проявления.
И лишь когда его схватили под руки два жандарма, схватили несильно, скорее лишь для порядка, потому что он, застывший одеревенелой статуей посреди царившего вокруг хаоса, внушал врагам какое-то смутное беспокойство, если не трепет, как вид человека, фаталистически подчинившегося судьбе (хотя вряд ли они сами осознавали это), а запыхавшийся жандармский офицер с оборванным эполетом, остановившись в полушаге от него, посмотрел ему прямо в глаза, – Сен-Жюст почувствовал, что его рука все эти последние секунды непроизвольно сжимала рукоятку кинжала, торчащую у него из-за пояса. А он даже и не заметил этого, потому что ни о чем не думал, и его рука, взявшаяся за кинжал, действовала чисто механически, подобно тому, как гальванический элемент заставляет сокращаться мышцы трупа.