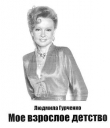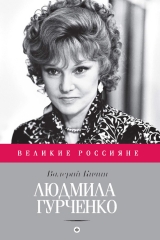
Текст книги "Людмила Гурченко. Танцующая в пустоте"
Автор книги: Валерий Кичин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Коммуняки
А однажды пришло диковинное письмо от заморского принца, владельца острова. Принц видел меня в кино, я ему понравилась, родителям его – тоже. Всей семьей они мне делают предложение посетить их остров. Просьба ответить, когда я могла бы приехать. В письмо вложено несколько фотографий. Принц – с черными курчавыми длинными волосами, в блестящих одеждах. На голове у него сверкающий шлем с торчащими высокими перьями. Фотографии родителей в белых одеждах, сидящих на фоне ажурной беседки. И еще несколько фотографий с видами его владений.
Из книги «Аплодисменты, аплодисменты…»
Интересно представить, каким ей виделось будущее теперь, с пика ее первой славы.
Уже наутро после премьеры «Карнавальной ночи» Люся почувствовала, как резко все изменилось. Ее стали узнавать в троллейбусах. Вскоре пришлось выехать из общежития и снять комнату, потому что все вокруг полагали, что звезды купаются в деньгах. Хозяйка квартиры, бывшая балерина, с ужасом смотрела, как Люся развешивает на ее мебели выстиранное белье: «Что вы делаете, Люся?! Это же антиквариат!»
«А я не понимала, как это ужасно, – со смехом вспоминала Гурченко. – Я любила все красивое, но не знала, как с ним обращаться!»
В ней тогда работал очень мощный мотор: она осуществляла папино наставление «Дуй вперед!». Все звезды, которых Люся боготворила, шикарно одевались. Где и на что покупать такие прикиды, она даже теоретически не представляла – научилась шить сама, и еще до своей триумфальной Леночки Крыловой щеголяла в модной юбке колоколом с накрахмаленными до хруста оборками.
Но еще более мощным мотором была ее вера в то, что мир вокруг доброжелателен, надежен и лишен коварства. Здесь тоже сказалось наследие ее семьи, и она об этом говорила отважно и красочно. У нее свой способ рассказывать. Пишет она – иной литературный классик может позавидовать. А говорит… этого словами не передать. Она и в устных рассказах прежде всего – актриса. Оборвав фразу на половине, остальное доигрывает, мгновенно перевоплотившись в описываемого персонажа. Даже в личной беседе с нею я не раз жалел, что этого никогда не увидят зрители – все сыграно для единственного слушателя. И диктофон этого не передаст. И тем более – бумага. Расшифруешь диктофонную запись – и с отчаянием понимаешь, что главный смысл рассказа был в этой мимике, в пластике, в интонациях. А в словах – какие-то отрывки из обрывков, часто не связанных между собой, – связкой была ее игра. И логика в этом рассказе своя – ассоциативная. Формально темы рассказа бессистемно скачут, а в живой речи все накрепко сцеплено, как в очень хорошем спектакле.
Поэтому ни одно интервью Людмилы Гурченко не выражает и сотой доли того, что она сказала.
Но сейчас не интервью. Сейчас я пишу книжку, и есть возможность усесться поудобнее и все, что Гурченко оставила между строк, вообразить. Итак:
– После «Карнавальной ночи» – о-о! – у меня тогда все пошло совершенно иначе. В Москве назревал Всемирный фестиваль молодежи. Вам сейчас трудно представить, как это было, а тогда сама мысль о том, что в нашу закрытую страну нагрянут тучи иностранцев, – да что вы, это ж ужас! И стали происходить какие-то вещи, которых я не понимала.
Я в своем Харькове вообще мало что знала. Я о тридцать седьмом годе узнала только в институте! А тут вдруг началась вербовка всех красивых девочек и мальчиков. И люди на это шли, потому что боялись самого вида красной корочки. Вы смотрели фильм «Мой друг – стукач» Алексея Габриловича? Там есть такой персонаж, вполне реальный, – Дима. И вот он, когда вспоминает о том, как стал стукачом, все кричит: «Коммуняки, коммуняки!» Он испугался этой гэбэшной корочки. Он так смертельно испугался, потому что вся его семья была уничтожена в тридцать седьмом, и он честно признается: мол, я затрясся и сказал «да-да-да!».
Но со мной-то ничего такого никогда не было. Я очень любила Родину. Не хочу говорить «отечество» – Родину! Страдала, что я не мальчик и не могу за нее воевать. Ходила босиком по морозу. Как только нам в школе рассказали про Зою Космодемьянскую, я тут же пошла по морозу босиком – вечером, чтобы никто не видел. Решила проверить: выдержу или нет? Вытерпела и теперь знала: будут пытать – выдержу! Вот так я готовила себя: стреляйте, вешайте, а я люблю Родину! Так я воспитана. Это мне до сих пор помогает: когда в чем-то я спотыкаюсь – думаю: «Какого черта унывать – на войне и не такое бывало!»
Но с вербовкой до той поры я не сталкивалась. И вот она началась – меня стали вербовать. Я долго не понимала, в чем дело: прямо из общежития куда-то повезли. Да что там! Не «куда-то» – а на седьмой этаж гостиницы «Москва». Какие-то люди в черном, и все такое. Я и там говорила, как я люблю Родину, – ну ничего не понимала, куда они клонят и чего от меня хотят! Потом привезли еще раз, и еще раз, а потом уже впрямую предложили: «Понимаете, скоро в Москву приедет много иностранной молодежи, и нам это все будет очень интересно». А взамен за «помощь» предлагали и квартиру, и научить языкам интенсивно, но одно условие: никому ни слова!
Как, думаю, это так? За какие заслуги я это все получу? Ну наивная была до глупости. Очень долго. Такие моменты наивности и сейчас случаются – когда я ничего не понимаю, только «Ах!». А потом себя осекаю: «Тихо, Люся!» Сначала – «Ах!», а потом – испуг. И поразительно: эта моя подозрительность потом всегда оправдывалась: правильно, что испугалась, правильно, что не сделала!
Короче говоря, поставили условием, что никому ни слова. И даже родителям. А кому я еще скажу – у меня никого нет! Я из Харькова, одна в Москве. А в Харькове вообще уже не верили, что на афише – это я. Там в кинотеатре «Комсомолец» на Сумской висела афиша, папа стоял возле нее и говорил: «Это – моя дочь!» А на него смотрели как на сумасшедшего и тихо отходили в сторонку. А папа мой был в шляпе в сеточку, как у Хрущева, штаны широкие. И от него отходили, как от ненормального. Как реагировал папа – я тут не могу повторить: очень много идиоматических выражений. «Да ты разуй глаза, это моя дочь! Видишь, вот фотография: тут ей три года, тут ей пять. Вот – я. А вон ее мать». Тут мама быстро надевала темные очки и перебегала на другую сторону – стеснялась. Мама совсем другая была – Елена Симонова, дворянских кровей, что она всегда старательно скрывала: могло выйти боком. Вот такие у меня были папа с мамой – что же, и им ничего нельзя сказать?!
А еще была бабушка. Она из дворян, но это от меня скрывали. Да я ее и не любила: она меня называла «пионэркой», а про Ленина говорила, что он подлечуга и провокатор. Мол, «Как людюшки жили при царе! Всего было вдоволь: своя скотина, свое поместье, дом на улице Огарева в Москве, муж мой Александр Прокофьевич – директор двух гимназий!»
«А вы знаете, Марк Гаврилович, – говорила она моему папе, – что мы выписывали из Англии машину „Маккормик“? А вы знаете, где я одевалась? В „Мюр и Мерелизе“!» Папа ее успокаивал: «Мам, не надо, не надо про это!»
С утра до вечера бабушка не отходила от иконостаса – это надо было видеть! А мать в Бога не верила, она комсомолка с семнадцатого года и все убеждала бабушку, отрывала ее от молитвы: «Мама, ну что вам дал ваш Бог?!»
А папа дипломатично молчал: он человек деревенский, и фамилия его была по-настоящему Гурченков. Это потом, когда он уехал в Харьков, то стал Гурченко… Вообще, я думаю, в нашей харьковской семье собралась вся советская власть, а может быть, и плюс электрификация всей страны. Вот оттуда я вышла, понимаете? Вот такой я полу-«совок», признаюсь.
Но тогда, в гостинице «Москва», я от предложений этих людей в черном резко отказалась. Так и сказала: знаете, товарищи, я люблю свою Родину, но вот этого – не могу.
И после этого случая у меня постепенно начал выстраиваться главный закон жизни: что «мое» и что – «не мое». Прекрасное – но не мое. Чудный – но не мой. Красивая одежда – но не моя. В общем, отказалась. И пошла сниматься в «Девушке с гитарой». Тут же, с ходу. Но, оказывается, не все так просто, и этот отказ мне еще аукнулся.
Как? Сейчас расскажу. Я за съемки в «Карнавальной ночи» получила восемь тысяч. По сравнению с моей стипендией в двести шестьдесят рублей это было очень много! Выслала денег папе с мамой – на отдых. Себе купила часы-«крабы» – они до сих пор у меня лежат. Два костюмчика купила. И все, больше у меня ничего не было. Даже чулки для выступлений иногда приходилось занимать у пианистки… вот так. А тут вдруг предлагают поехать с концертами и обещают за три песни из «Карнавальной ночи» сорок пять рублей официально плюс еще триста – в конверте. Со мной в этом концерте должны выступать знаменитые народные артисты – ну, думаю, вот и наступает звездная жизнь! Да за эти триста – я же себе все куплю, что нужно! Откуда я могла знать, что такое «левый» концерт! Совершенно искренне думала – так всегда и бывает.
И тут в «Комсомольской правде» выходит статья «Чечетка налево»! Мол, зазнавшаяся звезда халтурит почем зря. А какая халтура – я на этих концертах выкладывалась как могла: училась чувствовать зрительный зал. И началось. Харьков от меня тут же открестился: «Вы позорите наш город!» На улицах швыряли в спину камни – все было. А однажды прямо со съемок, вот как была в платьице, так меня и привезли на улицу Куйбышева, где располагались разные министерства. И там министр культуры Михайлов так мне и сказал: сотрем с лица земли, фамилии такой не будет – ясно? Увозите ее! Всё. На том и закончилась моя первая жизнь в кино – я не снималась десять лет. То есть снималась в каких-то маленьких фильмах, в ролях, о которых великая Фаина Раневская сказала: сняться в таком – как плюнуть в вечность.
Так что, как видите, от папы во мне – больше. Он никогда не был себе на уме, был вот таким открытым: все людя́м, людя́м. И все эти закулисные дела просто не понимал. И когда меня вдруг перестали снимать, он страшно переживал: «Дочурка, может, ты какой ляпсус допустила, что тебя не снимают?» Ну как я ему про этот ляпсус расскажу?
…Карикатура в «Комсомольской правде» изображала яйцо, из которого вылупилась Люся Гурченко – ярко накрашенная, с длинными хваткими руками, раскинутыми на манер хищных паучьих лап. Это был страшный итог ее первой коварной славы.
– Нет, это неправильно, когда слава приходит к молодому актеру: он еще ничего не знает и не умеет, – завершала такие монологи Люся. – Меня эта первая слава изломала и оставила в полном недоумении.
Смутное время
Когда впереди интересная работа, нет более счастливого времени.
Из книги «Аплодисменты, аплодисменты…»
Гурченко часто повторяла, что после краха «Девушки с гитарой» десять лет не снималась, а если снималась – то все это «плевки в вечность». Она уверила себя, что вторая и настоящая ее жизнь в кино началась только с фильма 1973 года «Старые стены».
Все, что до «Старых стен», помнилось ею как сплошная полоса неуверенности, неизвестности, ожидания чего-то страшного. Взлет был подсечен на самом старте, и мир, только что распахнутый ей навстречу, теперь злорадно щерился: чем выше взлетишь – тем больнее падать.
– Мне уже жить не хотелось! Я ничего не понимала: что делать, как, и всерьез подумывала о том, чтобы покончить с этой жизнью; казалось, уже нет сил держаться. Казалось, что я никому уже не нужна. И я соглашалась на все выступления, куда позовут. Однажды стою около Москонцерта, меня спрашивают: «Можете поехать в Ногинск?» – «Конечно!» – говорю. Беру свое легкое платьице, а это, оказывается, не Ногинск, а Норильск. И я с этим платьицем уже лечу на Север: один аэропорт, другой, пересадка, уже под крылом не деревья, а кустарники, а там – вечная мерзлота, а я со своим платьицем. Спасибо, кто-то курточку дал… В общем, где я только не выступала – даже в тюрьмах, пела в трамвайный микрофон, через который остановки объявляют. Все прошла!..
Однако если смотреть со стороны, то Гурченко и в это трудное для нее десятилетие снималась не так уж мало и совсем не так плохо. Через два года после злополучной «Девушки с гитарой» сыграла в «Балтийском небе», а потом и в «Рабочем поселке» Владимира Венгерова – режиссера великого, по-настоящему так и оцененного. Эльдар Рязанов позвал ее в эксцентрическую комедию «Человек ниоткуда». Наконец, она сыграла в фильме, который остался в истории кино как одна из лучших экранизаций русской драматургической классики, – «Женитьба Бальзаминова» Константина Воинова. Конечно, были и «плевки в вечность» – наверное, она считала таковыми проходные роли в фильмах «Укротители велосипедов», «Строится мост», «Взорванный ад».
Вспоминая это «смутное время» спустя много лет, Гурченко скажет, что драматические роли вообще стала играть с горя, потому что комедий почти не снимали. Здесь тоже есть эмоциональный перехлест: комедии снимались, да какие! Картины Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» и «Тридцать три» принесли в жанр еще непривычные черты реального быта – того, что прежде казался будничным, скучным и для комедии не приспособленным. Начинал свой путь Юрий Чулюкин с «Неподдающимися» и «Девчатами». Эльдар Рязанов снимал «Берегись автомобиля», Василий Шукшин – «Живет такой парень», Тенгиз Абуладзе – «Я, бабушка, Илико и Илларион»…
Это комедии, над которыми зрители не хохотали – они улыбались. Так люди улыбаются, когда им хорошо в кругу единомышленников, когда друг друга понимаешь с полуслова, полунамека, полуусмешки. В этих комедиях не было трюков, эксцентрики и того, что в актерском мире зовут хохмами, – ничего специально придуманного, чтоб смешить. Юмор извлекался из каждого дня, из бытовых движений и подробностей. К веселому изумлению располагал уже сам момент узнавания окружающей жизни на экране – эффект по тому времени острый и радостный. Простейшие, насквозь знакомые ситуации подавались с великолепной иронией – и мы их рассматривали словно впервые. Условные формы кинозрелища к тому времени окончательно получили отставку: актеры стремились на экране не «играть», а «жить». Декоративность, «театральность» в кино считались возвратом к не лучшим традициям и чаще всего действительно таковыми и были.
Для такого кино Гурченко располагала всеми данными – много позже она это докажет в «Любимой женщине механика Гаврилова». Но пока к «нашей Лолите Торрес» даже не обращались. Она и сама еще не знала своих возможностей. Только понимала: все то, что она так любила и о чем мечтала, все то, на чем росла, в этом новом кино было лишним. Да и сама Любовь Орлова, явись она в эти годы со своей Анютой, потерпела бы фиаско. Что, впрочем, и произошло в фильме «Русский сувенир», поставленном по обычным для александровских комедий канонам, вполне жизнеспособным в тридцатые и даже еще в конце сороковых годов. Теперь такое кино казалось архаичным, о нем писали не иначе как в фельетонных регистрах. Его ругали с наслаждением, забывая про опасность выплеснуть ребенка, про то, что легче всего затоптать ростки, но тогда не дождешься урожая.
Эстетическая ситуация шестидесятых – еще одна и, наверное, самая важная из причин, по которым Гурченко не могла тогда состояться как звезда: в звездах такого типа уже не было потребности. Внезапный всплеск интереса к музыкальному фильму, вызванный «Карнавальной ночью», так и погас без продолжения. Рязанов этим жанром больше не интересовался, преемников не намечалось. До очередного всплеска, когда по советским экранам, породив волну подражаний, тайфуном прокатятся англо-американские мюзиклы «Оливер!», «Моя прекрасная леди» и «Смешная девчонка», наступят еще не скоро. А на тот момент на экранах воцарилась прекрасная, но немузыкальная проза. Гурченко попросту припоздала со своей чечеткой, гитарой и черным платьем с белой муфточкой. Едва вступив в жизнь, она уже ощущала себя гостьей из прошлого.
Но не может такого быть – уговаривала она себя. Немногие имевшие тогда возможность ездить по белу свету рассказывали о расцвете мюзикла в Америке, называли новые для нее имена Джинджер Роджерс, Риты Хэйуорд, Джуди Гарленд, Кармен Миранды, на которую Люся особенно была похожа, хоть ни разу ее не видела… Какие-то фильмы чудом проникали на учебные экраны ВГИКа. Значит, на самом деле – не припоздала. Ее таланты еще пригодятся в нашем советском мюзикле.
Ждать придется долго.
Ход искусства подобен маятнику. В нем постоянно бурлит энергия «отрицания отрицания». Только крайние точки, только борьба противоположностей. Особенно у нас – в стране, где каждое новое не просто отрицает, но и норовит уничтожить ненавистное старое.
Пройдет еще немного времени, и воцарившийся было «бытовой» кинематограф, пройдя первую фазу радостного изумления, покажется исчерпавшим если не свои возможности, то свою новизну. И будет полемически «отменен» новым взрывом кинематографической условности и зрелищности. Пройдет едва десятилетие с того времени, как Михаил Ромм снял «Девять дней одного года» и фильм этот, став своего рода эстетическим манифестом, обосновал приход нового этапа не только в биографии мастера, но и во всем нашем кино. И появятся «манифесты» новые. С ними выступят, один за другим, Ролан Быков, Александр Митта – сторонники зрелищного кинематографа. А потом вчерашние противники все-таки попытаются найти пути друг к другу, вступят в союз, и тогда им понадобится актер нового типа.
«Вот и наступило мое время, – вздохнет Люся в одном из интервью. – Но сколько же пришлось ждать…»
То, что для истории кажется мигом, для одной-единственной человеческой жизни – вечность. Поэтому Гурченко вспоминает это десятилетие как пору полной и безнадежной безработицы.
Безработица
На моей памяти не было собрания или конференции, где бы кто-то из ораторов с удивлением и сочувствием не называл мою фамилию. Как же так, актриса, зарекомендовавшая себя в жанре музыкальной комедии, а также в драматических ролях, и вот несколько лет находится в простое. Сначала мне даже льстило, что коллеги признают меня, беспокоятся, считают актрисой…
Из книги «Аплодисменты, аплодисменты…»
В эти годы, однако, случилось много такого, из чего потом сформировалась Людмила Гурченко «Пяти вечеров» и «Семейной мелодрамы».
Она прошла, например, школу Владимира Венгерова – грандиозного по мастерству и таланту ленинградского режиссера, который не очень умел себя продвигать и потому остался в тени более энергичных коллег.
Гурченко сыграла у него в «Балтийском небе» и в «Рабочем поселке» – фильмах жестко реалистичных, по типу прямо противоположных ее любимым музыкальным комедиям. Но они были связаны с самой близкой ей темой – войной, память о которой в ней никогда не остывала. Поэтому она так хотела в них играть – хотела себя попробовать в другом качестве. А заодно – развеять уже сложившиеся предубеждения и коллег, и режиссеров, и своих учителей. В ней уже тогда сидело какое-то непробиваемое упрямство – то, что потом выработается в характер жесткий, но ранимый, хрупкий, но стойкий.
Владимир Венгеров мне рассказывал:
– Шли пробы на роль девочки в «Балтийском небе». Люся пришла в павильон в валенках, в шапке с длинными ушами, черты лица заострились, в глазах тревога… Ничего общего с той беззаботной красоткой, какую мы знали по «Карнавальной ночи». Всех убедила, что именно она должна играть эту блокадную девочку. Хотя, помню, ее педагоги, Макарова и Герасимов, были весьма удивлены, что Люсю Гурченко взяли на драматическую роль: ее общепризнанным амплуа тогда были песни. Тут она действительно не знала себе равных! В перерывах между съемками все, кто были в павильоне, собирались ее слушать.
Но то, что она была настоящей актрисой, мне стало ясно сразу. Уже тогда – опытной, активной, цепкой. Понравились мы друг другу, сразу нашли общий язык. Работали на полном доверии, и к делу она относилась всегда очень серьезно. Потом я ее пригласил на трудную драматическую роль в «Рабочем поселке», и сыграла она, на мой взгляд, блестяще. Она уже тогда доказала, каким широким диапазоном красок владеет. Потом мы ее пробовали и в «Живом трупе», и она отлично пела цыганские песни. На роль утвердили другую актрису, но озвучивала ее все равно Люся Гурченко…
Венгеров вспоминает, что в работе над «Балтийским небом» проблем с Гурченко не было никаких. И сомнений тоже. В роль она вошла так органично, что лучшего и желать нельзя. Скудное военное детство было ей хорошо знакомо: как и ее героиня, ленинградка Соня, она голодала с мамой в оккупированном Харькове и так же, расставаясь с ней хоть на час, не знала, увидит ли снова.
Ей были знакомы эти обледеневшие стены давно не топленной комнаты, и жизнь на грани небытия, и то чудо, что жизнь все-таки продолжалась, – люди хотели надеяться, и каждый лучик радости воспринимался как счастье. Соня была постарше харьковской Люси и чуть помоложе Люси нынешней, но в фильме проходило время, и Соня росла, из угловатого подростка становилась девушкой и узнавала первые терзания любви и ревности.
Роль эта была далеко не главной: по идее, Соня как бы воплощала судьбу поколения, выросшего на войне. Но Гурченко не была бы собой, если бы память тут же не подсказала ей множество деталей, какие знать может только человек, сам переживший вот это, запредельное:
– Мы же на улицах трупы раздевали! Потому что не в чем было ходить. Сначала страшно, потом – привыкли. Как будто так и надо.
Девочка с мышиными хвостиками тоненьких кос. В глазах уже застыло постоянное предощущение беды. Такой мы видим ее в первых кадрах. К этому внешнему, очень точному рисунку Гурченко, уже от себя, добавила дворовую скороговорочку, хорошо знакомую ей повадку подростка, выросшего на улице: ее Соня очень натурально тузит младшего брата Славку – беззлобно и больно, с сугубо воспитательными целями. Но уже в соседнем кадре, на крупном плане, играет переживание так, как видела в кино, как это вообще было принято на экранах в те годы, – так, чтобы никакая краска не ускользнула бы от зрителя. Вся душа как на ладони. Сейчас это чуть забавно смотреть, несмотря на весь драматизм ситуаций. Зато потом можно было перестать «играть трагедию», и Люся Гурченко начинала просто жить на экране с этой своей дворовой повадочкой. И возникала та достоверность, какая через несколько лет станет безусловным завоеванием нашего кино.
Ей особенно удались эпизоды «пробуждения», «оттаивания» героини. Вот только что прибежала с улицы в своих огромных валенках, в ватных стеганых штанах, с повязкой дружинницы на рукаве – женщина из фронтового города, без возраста и личной жизни: не до того – война! Распахнула шкаф. Блеснули лакированные туфли, зашелестели мирные платья, пришельцы из каких-то других, далеких времен. А у нее еще детская припухлость на лице, она тех времен, по сути, и не знала по-настоящему. Сбросила ватник. Примерила платье. Присела церемонно перед зеркалом, накинула прозрачный оренбургский платок – интересно, что получится. То танцовщицей себя вообразит, то тореро. Диковинное, невиданное зрелище перед нею в зеркале. Она себя такой и не видела никогда. Смотрит вопросительно. Неужели так может быть? Неужели так будет?
Этот эпизод становился в фильме предвестием новой жизни. За окном грохот – бьют наши, уверенно, близко. И девушка, только что сбросившая с себя нелепый кокон блокадного подростка, прямо в этих хрупких туфельках бежала на улицу, на снег, встречать эту победную канонаду.
И сломан тягостный ритм. Прорвана блокада. Как весна, врывается в фильм длинный, упоительный эпизод первомайского вечера с танцами, с оркестром – как до войны. И с таким человеческим братством, какое возникает только в годы больших испытаний.
Так почти эпизодическая героиня романа Николая Чуковского в фильме стала персонажем со своей, очень важной темой: мотив пробуждения в подростке девушки, мотив весны и победы, мотив города, сбрасывающего зимнюю серость и возвращающего себе прежнюю поэзию и красоту, – все это сливалось, чтобы передать настроение людей в преддверии победы, всеобщее робкое, но радостное предчувствие возрождения.
Гурченко в этих эпизодах – как обещание прекрасного. Есть что-то песенное в том, как они с Олегом Борисовым играют сцену свидания на улицах Ленинграда, в этих бесконечных блужданиях по мостам, освещенным призрачным светом белой ночи, в снова и снова повторяющихся, как рефрен, словах прощания, в этих руках, которые не могут расстаться, в этом контрасте ощетинившегося, замершего города – и торжествующего чувства победившей жизни.
Все, чем поразит нас Гурченко через много лет, уже прорастало в этой картине. Но автор романа требовал снять фильм с экрана: ему не нравилось своеволие режиссера. И если после «Карнавальной ночи» рецензии шли потоком, то теперь в печати промелькнуло лишь несколько одобрительных строк о работе актрисы. Серьезного разговора об этой необычной для нее роли тогда не состоялось ни в критике, ни в профессиональном кругу. Роль, на которую возлагалось столько надежд, упала в пустоту, и Гурченко так и осталась в неведении, что этой в картине у нее получилось, а что нет.
ВГИК с его педагогами был давно позади, надо было плыть по киноморю на свой страх и риск. А будет буря – мы поспорим! Фильм Венгерова заставил ее поверить в себя как в «серьезную артистку». С этим задором и вошла Люся Гурченко в новую работу – в экранизации романа Панаса Мирного «Гулящая».
Мелодраматичность фабулы была фильмом многократно умножена. Киевский режиссер Иван Кавалеридзе был не в лучшей форме: уже в сценарии пошли в отходы психологические нюансы, отцежена «литературная вода», остался пунктир трагической судьбы героини. Ушел и воздух романа – теперь это был комикс, пересказ, беглость которого должна была компенсироваться преувеличенно надрывной интонацией. Оттого весь климат фильма был искусственно взвинченным, нервическим, располагающим к экзальтации, пафосу и примитивной символике.
Хуже всех себя чувствовала в этом климате исполнительница главной роли. «Актеры окружения» тут были как рыба в воде – они послушно позировали в патетических композициях, их герои не ходили, а выступали, не говорили, а возглашали. В сценах барского веселья фильм впадал в водевильный тон, и пьяные гости плясали на столах, куражась на манер гоголевских персонажей, но не из книги, а из оперы. Зато когда молодой сочинитель пытался завоевать расположение девушки с сомнительной репутацией, его тень коршуном нависала над ней, как туча над судьбой, и актрисе оставалось только соответствовать, раскалять до предела свои эмоциональные струны.
Она все делала, что требовалось. Но чувствовала себя неуютно. Все ее актерское существо чуяло неправду. Интересно наблюдать, как проходит Гурченко эту трудную для себя школу плохого кино, четко, профессионально выполняя режиссерские задания – те самые, какие потом будет чувствовать за версту и решительно, а иногда и агрессивно отвергать, уже как художник.
Вот идут первые эпизоды: Христя еще чиста как слеза, она счастлива, потому что ее взяли в богатый дом прислугой, и полюбоваться можно, как сноровисто накрывает она стол для гостей. На водевильный шабаш смотрит с ужасом, дивится, прикрывая рот уголком платка. Отыгрывает каждую ситуацию сполна.
Как во всяком пересказе, события мчатся, и актерам надо взлетать на эмоциональные вершины без разбега. Уже на первой десятиминутке свершается убийство, судьба Христи сломана, к ней прилипло прозвище Гулящая, и она идет по селу, озираясь как затравленный пес. Теперь от актрисы требуют играть затравленность, и ее Христя действительно похожа на забитого пса. Не забывает также про деревенскую неуклюжесть – даже косолапит немного.
Принцип фильма: один кадр – одна эмоция. Эмоция замкнута внутри кадра, у нее нет истоков и не будет продолжения – нужно все вложить в этот кадр. Зритель должен ежесекундно ощущать обреченность этой судьбы, поэтому все, что делает Христя – чистит ли ботинки, раздувает ли сапогом самовар, – она делает с выражением напряженного, порывистого ожидания. Мимика актрисы кажется неправдоподобно бедной для той Гурченко, какую мы знаем.
«Звездные минуты» наступают, когда Христя нанимается в шантан. Лихо пляшет в платье с глубоким декольте, в залихватской шляпке – мелькают оборки, чулки, подвязки. Камера берет ее в кадр так, чтобы была хорошо видна на подбородке развратная мушка.
«Я так устала!» – говорит Христя, поблескивая хрустальными сережками и драматически скосив глаза по диагонали кадра вниз и вбок.
Хорошенькую субретку увозил к себе в имение богач Колесник, и фильм срывался в стихию того, что мы теперь назвали бы мюзиклом. Пробудившись утром в роскошном палаццо, Христя упоенно, на манер Карлы Доннер из «Большого вальса», ходит по своим апартаментам, поет романс, целует грифов на мраморной лестнице, в шикарном платье с хвостом танцует на ступеньках. Неожиданно прорвавшаяся стихия романтического кино продолжает буйствовать на солнечных лужайках перед прудом, где Христя щебечет с цветочками. И патетически контрастирует с мотивом народного горя: здесь же, среди мрамора и зелени, случается стычка крестьян с их барином-угнетателем. В финале, изгнанная отовсюду, Христя замерзает у порога родного дома. Идет жесточайшая мелодрама, ее стиль явно навеян сценой безумия Офелии, а предсмертную мечту Христи: «Приду домой, все побелю… И детки повиснут на шее и скажут: „Мама! Мама! Мама!“» – Гурченко играет, в точности воспроизводя интонации Аллы Тарасовой в популярном фильме «Без вины виноватые». На ней костюм из «Золушки». И она безукоризненно красива, даже когда ее сковывает мороз.
Роль складывалась из лоскутков, каждый – из какого-то другого фильма. Некоторые из этих лоскутков Гурченко проигрывала азартно, подражая когда-то виденному, – это и было для нее тогда актерством. В других – не понимала, что делать. Судьба Христи никак не связывалась с ее опытом, воспринималась чисто литературно, а режиссер не предложил более основательных опор. Не имел их и весь фильм.
Эта картина подытожила самые мрачные прогнозы. Играть с таким надрывом могли сотни актрис. Чудо уникальности, обещанное в счастливую «карнавальную ночь», не свершилось. Звездное сияние угасло в «Девушке с гитарой», в «Гулящей» не состоялась и драматическая актриса, это было теперь ясно каждому.
Кино – вещь жестокая. Не состоялась – и мимо. Можно снимать других. Винить некого. Кино вообще не привыкло работать на актера, настраивать свои струны под его мелодию – берет то, что в данный момент требуется, а если актер того предложить не может, тогда извините.
Придет время, и кино начнет подстраиваться под Людмилу Гурченко, как некогда подстраивалось под Любовь Орлову. Немногим посчастливилось отвоевать это право – диктовать свои условия, свой климат, стиль, тему. Реализовывать в фильме богатства собственного опыта, жизненного и профессионального, подобно тому, как это делает писатель, драматург, композитор – автор.