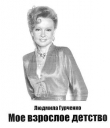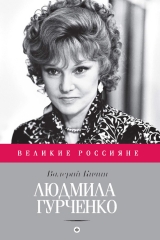
Текст книги "Людмила Гурченко. Танцующая в пустоте"
Автор книги: Валерий Кичин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Здесь – одна из драм, определивших судьбу нашей героини. Именно такого рода катаклизм был уже на пороге к моменту появления новой музыкальной звезды.
Ситуация на экранах менялась очень быстро. Фильмов теперь делалось мало – предполагалось, что лучше меньше, да лучше. В пустующие павильоны киностудий привозились декорации МХАТа, Малого театра, ЦТСА[1]1
ЦТСА – Центральный театр Советской Армии.
[Закрыть] – снимались на пленку спектакли. Фильмы эти имели мало общего с искусством кино, но свою просветительскую миссию они выполнили: лучшие театры страны обрели невиданную аудиторию и благодаря кинематографу переживали звездный час. Кино же болело. Малокартиньем. Театральностью. Оно становилось заметно аскетичнее.
Из него быстро исчезала музыка как особый вид кинематографической условности, как своеобразный способ жизни экранного мира. Она теперь звучала главным образом в фильмах-операх, фильмах-концертах. Опыт, накопленный в картинах Александрова, Пырьева, Ивановского, Юдина, стал забываться. Музыка уходила за кадр, становилась фоном и переставала быть движущей силой фильма.
Менялась и музыка, звучавшая в жизни. На танцевальных вечерах звучали падеграсы и падепатинеры, играли духовые оркестры. Джаз ушел в подполье и стал именоваться «эстрадным оркестром». Многое из того, что любила Гурченко, что воспламеняло ее кровь, было теперь не ко двору.
А Люся музыкой жила, она ею дышала и перемены в музыкальном климате чувствовала всей кожей. Это казалось главным. Это и было для нее главным: ведь музыка должна была стать профессией, через ее волшебное стеклышко Люся привыкла видеть жизнь и давно уже поняла, что только так по-настоящему чувствуешь ее полноту и красоту.
Но теперь мало кто разделял эти ее убеждения, и девушка, игравшая на рояле «Шаланды, полные кефали» и «Сердцу больно, уходи, довольно…», ходившая на лекции пританцовывая, в модном платье колоколом, казалась непозволительно легкомысленной. С ней было весело, она излучала неугомонную радость и оптимизм, ее музыкальный талант бурлил и вырывался наружу, как пар из перегретого чайника. Или как джинн, с которым неизвестно что делать. Педагоги озабоченно посматривали на Гурченко, ее дальнейшая судьба была не совсем ясной: ее дарование казалось чересчур специфическим для Института кинематографии. Во ВГИКе никогда не существовало мастерских музыкального фильма; вероятно, это отразилось на судьбах нашего музыкального кино, в котором крупные режиссерские и актерские дарования можно пересчитать по пальцам. Были энтузиасты – но нет и никогда не было системы. Появлялись прекрасные музыкальные фильмы – но так и не возникло, как в Голливуде, «текущего репертуара». Музыкальное кино у нас всегда трудно пробивало себе дорогу и всегда стояло в кинопроизводстве особняком. Пока такой фильм делается, он и сам «гадкий утенок» – ничего хорошего от него не ждут. Даже «Карнавальная ночь» считалась на студии безнадежной и вышла без рекламы; ее внезапная слава свалилась как снег на голову.
Впрочем, знаменитые Люсины педагоги понимали, как нужен в нашем кино музыкальный фильм. Они не были специалистами в этом жанре, но Герасимов прошел школу ФЭКСов[2]2
ФЭКС – Фабрика эксцентрического актера – театральная и киномастерская, существовавшая в Петрограде в 1920-х годах.
[Закрыть], он знал всю широту диапазона актерской профессии и умел ее ценить. Знал, как дефицитны в кино чувство ритма, внутренняя подвижность и отзывчивость натуры, безупречная музыкальность, присущие его студентке. Специально для нее на курсе поставили в отрывках оперетту «Кето и Котэ», где Гурченко в длинном грузинском платье, пощипывая черную косу много повидавшего на своем веку парика, пела томные восточные мелодии и лебедем плыла по маленькой институтской сцене. Для ее необузданного темперамента благородная грузинская осанка тоже была слишком чопорной, но она должна была слегка усмирить этот темперамент, ввести его в берега кинематографической реальности.
Как умела Гурченко петь после лекций у рояля, уже знал весь институт. Но режиссеры, приходившие в поисках юных дарований, этим не интересовались. И свое первое приглашение в кино потенциальная звезда получила от группы, снимавшей сугубую прозу. Получила, вероятно, не без участия своего учителя: сценарий к фильму Яна Фрида «Дорога правды» написал Сергей Герасимов. Это характерная для той поры лента, где героиня, прожив сложную жизнь, своей принципиальностью добивалась общего уважения. Впрочем, ходульным сценарий не был, и образцовая героиня сохраняла повадку живого человека. Гурченко здесь досталась роль ее тезки, девушки-плановички, которая постоянно восхищалась достоинствами главной героини Соболевой – этим исчерпывалась экранная функция ее Люси. Она горячо поддерживала Соболеву, когда та вскрывала на заводе приписки. («Ну как можно так говорить! Елена Дмитриевна поступила правильно. Раз она видит, раз она уверена… Она имеет право» – первые слова, которые зрители услышали от никому не известной Гурченко с экрана.) Потом она была агитатором и ходила по квартирам, рассказывая избирателям о том, какой принципиальный человек кандидат в народные судьи Соболева. Она и сама была принципиальна, и Гурченко увлеченно изображала комсомольскую активистку с порывистыми движениями и взором, горящим наивным огнем.
«Вам лучше бы помолчать», – пытались осадить девушку умудренные опытом плановички. «А я не за тем пришла на завод, чтобы молчать!» – убежденно отвечала за свою экранную Люсю реальная Люся Гурченко, веря со всем максимализмом молодости, что и в искусстве она молчать ни за что не станет.
Фигура получилась обаятельной. Гурченко не нужно было перевоплощаться – явилась, какая есть, типичная девушка строгих пятидесятых, твердо знающая из песни и из жизни, что «молодым везде у нас дорога».
Приблизительно то же потребовалось от нее и в фильме «Сердце бьется вновь». Молодой врач смело брался за рискованную операцию, ему противостояли косные коллеги, предпочитавшие не рисковать. Гурченко играла сестру больного солдата, которая помогала рутинерам осознать зыбкость их позиции. Фильм снимал серьезный мастер – Абрам Роом. Его мягкая психологическая манера сглаживала слишком назидательно торчавшие углы сюжетной схемы. Гурченко здесь вновь достоверна, порывиста, обаятельна и органична. Но еще ничто не предвещает восхода новой звезды.
Шел 1956 год. Она училась на втором курсе. Начало «звездной истории» было уже совсем близко. Не намного дальше был и ее конец.
Наша Лолита Торрес
Я тогда не представляла, что ростовский, харьковский и – простите меня, граждане одесситы, – одесский диалект, в особенности для будущего актера, это, считай, как инвалидность третьей группы.
Из книги «Аплодисменты, аплодисменты…»
Молодой режиссер Эльдар Рязанов начинал на «Мосфильме» съемки музыкальной кинокомедии «Карнавальная ночь». Как уже сказано, ничего хорошего от этого не ждали. Сценарий Бориса Ласкина и Владимира Полякова приблизительно намечал даже не фабулу, а скорее связки между эстрадными номерами. Эти номера должны были стать основой музыкального киношоу. Характеров не предусматривалось. Действовали, как в мюзик-холле, условные фигуры, маски, выражающие социальную сущность: бюрократ от искусства и молодые энтузиасты, которые ему противостоят. Веселое и жизнерадостное схлестывалось в музыкальном поединке с унылым и догматическим – и, разумеется, побеждало. Еще никто не знал, какая в фильме будет музыка, кто в нем будет играть и может ли этот скелет картины нарастить какие-нибудь мышцы.
Это был поистине «сценарий, написанный на манжете». Его не сразу утвердили, а когда утвердили, то снимать картину поручили юнцу, за плечами которого было несколько документальных лент и одна полудокументальная – «Весенние голоса», музыкальное обозрение о рабочих талантах. Вот и пусть попробует, – решили. Рязанову еще предстояло доказать, что он талантлив.
Он понял, что без сильных союзников это кино не вытянуть: фильм придется придумывать заново. Позже в своей книге «Грустное лицо комедии» Рязанов расскажет, как он, робея, уговаривал Игоря Ильинского сыграть Огурцова. Ему нужен был актер, способный не просто воплотить образ, а его придумать. Великий мхатовец и легендарный кинокомик колебался: он уже играл одного бюрократа в «Волге-Волге» и не хотел повторяться. Бой был наполовину выигран в ту минуту, когда Рязанову каким-то образом удалось заинтересовать своим замыслом самого Ильинского.
Противостоять бюрократу должна была талантливая молодежь, а душа и заводила всего – Леночка Крылова. Требовалась актриса юная, музыкальная, обаятельная и с такой открытой улыбкой, чтобы зритель сразу ее полюбил без всяких доказательств, что она хороший человек, – буквально за красивые глаза.
На Леночке дело серьезно застряло. Пробовали одну претендентку за другой. Открыть новую Любовь Орлову с таким же универсальным дарованием никто не надеялся: открытия редки, а сроки поджимали. Более всего интересовались внешностью и актерскими данными – спеть можно было и под чужую фонограмму. Так что на пробах никто не пел и петь не умел.
Кроме Гурченко. Ее позвали, и она пришла сразу после лекций, абсолютно в себе уверенная. Спела сама. Конечно, из аргентинского «Возраста любви», который только что прогремел на экранах. Совершенно как Лолита Торрес. Неотличимо. Проба оказалась неудачной. Как вспоминает Рязанов, подвел неопытный оператор: снял Гурченко так, что «ее невозможно было узнать: на экране пел и плясал просто-напросто уродец».
Сниматься стала молоденькая и очень хорошенькая актриса. И снималась довольно долго. Но фильм не вытанцовывался. Девушка старательно играла все, что нужно, но ведь предполагалось музыкальное ревю, и значит, в нем должна была засветиться пусть маленькая, но звездочка. И сверкать ей нужно было не только улыбкой, но и музыкальным талантом – пусть небольшим, но своим. Рязанов, даром что снимал свой первый большой фильм, быстро постиг важный для жанра закон: актер может сыграть что угодно, но музыкальность – качество, которое не сымитируешь. Даже чтобы раскрывать рот под чужое пение, нужна способность каждой частицей своего существа жить в музыке, кожей, сердцем и нервами чувствовать ее ритм и драйв.
Как раз этого от хорошенькой актрисы добиться не могли. «Карнавальную ночь» заклинило, настроение в группе падало. В разгар безнадежного кризиса и произошла счастливая случайность, определившая всю дальнейшую судьбу Людмилы Гурченко. Люся шла своей танцующей походкой по коридору «Мосфильма» и встретила Ивана Александровича Пырьева.
Пырьев был художественным руководителем студии и, как признанный мэтр музыкального кино, за «Карнавальной ночью» следил пристально. Гурченко он помнил по пробам и, наверное, отметил для себя ее музыкальность, потому что теперь не прошел мимо, а задержался и некоторое время задумчиво ее рассматривал. С одной стороны, конечно, Лолита Торрес. Вот и походочку себе выработала такую испанистую. Это все, разумеется, придется убрать. Надо надеяться, она умеет не только подражать – ведь музыкальна несомненно. И движется хорошо, и голос. Стоит рискнуть.
Пырьев привел Гурченко в группу, к тому времени окончательно скисшую. Сказал: пробуйте еще. Эльдар Рязанов был весьма озадачен: ломкая, вертлявая, неестественно жеманная – разве такой должна быть рабочая девчушка Лена Крылова?
– Рязанов меня сначала не принимал и не понимал: ему очень не нравились все эти мои штучки-дрючки, – вспоминала Люся со смехом. – Ну, а мне совсем не нравились его любимые песенки под гитару – казались примитивными: я-то любила джаз, дергалась от синкоп, млела от саксофона, такого теплого и чувственного. Его это явно раздражало.
– Нет, мы с ней далеко не сразу поняли друг друга, – подтверждает и Рязанов. – На съемках «Карнавальной ночи» она мне совсем не нравилась: деланая, ненатуральная и, как мне казалось, вульгарная. Я очень много с ней мучился, прежде чем смог добиться какой-то естественности. А она считала, что режиссер придирается и вечно всем недоволен.
Люся училась на ходу. Съемки «Карнавальной ночи» были минутами счастья: грезы осуществлялись. Уже не эпизод в болтливой драме – главная роль в музыкальной комедии, да еще в какой! Звучал непривычно смелый для тех лет джаз, сияла эстрада, на которой предстояло танцевать, петь, блистать. Как Орлова, как Марика Рекк, как красавица Карла Доннер из упоительного «Большого вальса». Вот он, шанс показать, на что она способна. Ну что за актриса без честолюбия! Лицо Люси в фильме словно распахнуто навстречу счастью: эта девушка верит только в хорошее, она все может и всего добьется, все будут ей рады и ответят такой же любовью.
Это счастье воспламеняло фильм. И у зрителей, как по этому поводу выразилась замечательная актриса Людмила Аринина, «крыша поехала». «Карнавальная ночь» вышла в канун нового, 1957 года и была принята с восторгом. Наутро после премьеры Люся действительно проснулась знаменитой. До сих пор помню ликующий клич моего ровесника, соседа по двору, студента-политехника и ударника в институтском «инструментальном ансамбле», как тогда деликатно выражались. Он шел в каком-то трансе и всем сколько-нибудь знакомым встречным сообщал: «Вот это актриса! Вот это да!»
На этом мы сразу сошлись и стали приятелями.
О новой звезде нашего кино говорили повсюду. Ее улыбка сияла на афишках в трамвае. Выставленные на подоконники первые, редкие тогда магнитофоны безостановочно пели в пространство про пять минут. «Пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек», – печально выводили по вечерам девичьи голоса во дворе.
Фильм оказался замечательным сюрпризом: никто его не ждал, в печати не мелькало ни словечка о съемках. Имя Рязанова мало кому что-то говорило, еще меньше говорило имя Гурченко, и вдруг сразу столько открытий. Рецензенты даже утратили обычно скептический тон и радостно приветствовали приход новой звезды – «будущей героини лирических и музыкальных фильмов». Амплуа, обратите внимание, в первых же рецензиях уже четко сформулировано. Хотя на самом деле оно далеко еще не сформировалось, не определилось, не устоялось, и границы его были не ведомы никому, тем более самой Гурченко.
Уже вскоре она будет вспоминать об этом счастье спокойно и трезво: «Сниматься в „Карнавальной ночи“ мне было очень легко: роль была так созвучна моему тогдашнему состоянию, что не нужно было особенно размышлять над тем, как и что играть, а успех казался внезапным, случайным, незаслуженным».
Пройдет еще десяток лет, и она про свой первый большой фильм скажет еще резче: «Ох уж эта „Карнавальная ночь“! Иногда я ее ненавижу…» А в последние годы жизни и вовсе определит роль Леночки в своей судьбе как «тиранию маски».
Вместе с тем как ностальгически она пишет о фильме в своей книге! С какой нежностью говорит о первой встрече с Рязановым! Что это, капризные перепады настроений, актерское кокетство?
Ей больно вспоминать былую наивность: «Такой я пришла на экран: верящей в добро, жизнерадостной, полной сил, с желанием непременно „выделиться“. Какое счастье я испытала, когда в черном платье с белой муфточкой пела „Песню о хорошем настроении“! Ведь именно об этом я мечтала в те голодные вечера в детстве, когда мы с тетей Валей в упоении мурлыкали мелодии из „Большого вальса“. „Карнавальная ночь“ – это итог моей двадцатилетней жизни с родителями! И больше я такой не была. Никогда».
Обрыв пленки
Инстинкты, эмоции, бешеная молодость перекрывали дремлющий разум. Как, наверное, интересно было за ними наблюдать мудрым и опытным учителям. Они понимали наши запутанные характеры, которые мы сами же запутывали, стремясь скорее стать взрослыми, оригинальными, необыкновенными.
Из книги «Аплодисменты, аплодисменты…»
Ей был двадцать один год, когда на нее свалилась слава. Обрушилась лавиной статей и интервью, писем влюбленных зрителей, всеобщим интересом, и сладким и докучливым одновременно. Рецензенты радовались появлению «будущей героини лирических и музыкальных фильмов» и были правы: музыкальное кино у нас застопорилось еще и потому, что не появлялись новые Марины Ладынины и Любови Орловы. Музыкальные таланты среди киноактеров вообще наперечет, а тут – молодая, обаятельная, танцует и «сама поет».
Нужно было ковать железо, пока оно горячо.
Уже через полгода после выхода «Карнавальной ночи» журнал «Советский экран» печатал отрывок из сценария новой комедии «Девушка с гитарой». Огромный рисунок в заголовке изображал Людмилу Гурченко с ее осиной талией, в платье колоколом, на высоких каблучках, с грампластинкой в руке. Она победно улыбалась. Ей предстояло стать Таней Федосовой, продавщицей в музыкальном магазине, душой всего, заводилой и т. д. В нее влюблялись все окружающие, возле ее прилавка всегда толпа, парни томно вздыхали и, снедаемые надеждой, покупали пластинку за пластинкой. Таня была весела, находчива, изящно парировала ухаживания и, понятно, демонстрировала свои таланты. Режиссер Александр Файнциммер предполагал развить успех «Карнавальной ночи», довести открытый там бриллиант до блеска, поместив его в роскошную оправу. В картине участвовали Фаина Раневская, Михаил Жаров, в роли влюбленного композитора Корзикова выступал молодой, блиставший улыбкой Владимир Гусев. Артистки чехословацкого ледового ревю изображали участниц самодеятельного ансамбля фигуристов. Звучали разноязыкие песни, изумляли экзотикой танцы – действие происходило на карнавальном фоне только что прошедшего в Москве VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Нового явления Гурченко теперь ждали все. Газеты неутомимо рассказывали, как идут съемки. Цитировались остроты будущей картины. Описывались уморительные трюки. Печатались снимки. Публика была наэлектризована. Она хлынула в кинотеатры – и вышла оттуда оскорбленная в лучших чувствах.
Провал «Девушки с гитарой» был таким же оглушительным, как успех «Карнавальной ночи». Режиссер Файнциммер, по воспоминаниям актеров фильма, был человеком рациональным и отнюдь не расположенным к «шуткам юмора», а от артиста требовал беспрекословного подчинения – и никакого, понимаете, самодеятельного творчества. В провале сказались не только объективные качества картины, но и субъективные ожидания каждого, кто шел ее смотреть. Надежды подогревались целый год. Комедии стали редкостью, и, чтобы посмеяться, зрители готовы были ехать в самый дальний кинотеатр. «Карнавальную ночь» крутили повсюду, ее смотрели опять и опять, находя все новые достоинства в ее героине и нетерпеливо ожидая новой встречи.
Час встречи пробил. Ничуть не изменившаяся за год Гурченко пела с экрана о любви. Она доверчиво делала все то же самое, что делала в «Карнавальной ночи». Ни сценарий, ни режиссер и не пытались предложить ей что-то новенькое – спешили повторить волшебный миг былого триумфа.
«Еще одна девушка» – язвительно назвал свою рецензию журнал «Искусство кино». «К легкому жанру по легкому пути», – упрекала «Советская культура». «Опасный крен», – предостерегала «Комсомольская правда». «В плену дурного вкуса», – мрачно констатировала «Советская музыка».
Едва взойдя на пьедестал, кумир оказался поверженным. Любовь сменилась неприязнью. Как часто бывает, зрители переносили свое раздражение от неудачного фильма на объект своих легкомысленных надежд. Всем стало ясно, что, кроме вызывающе осиной талии, платья колоколом и способности подражать популярным звездам, у этой артистки за душой ничего нет. Ну, будет танцевать и дальше в плохих комедиях. Нет, не Орлова. Нет, даже не Ладынина. Голос вот низкий, приятный. Действительно как в «Возрасте любви». Танцует похоже: ни дать ни взять испанка.
Вот это, пожалуй, можно как-нибудь использовать. Испанка так испанка.
Ее пригласили в первый же фильм, где требовался «испанский» колорит. Она сыграла Изабеллу в напрочь забытой ныне телевизионной ленте «Пойманный монах». Фотография сохранила высокую прическу, миндалевидный разрез глаз и печальную полуулыбку Лолиты Торрес.
А тут и украинский режиссер Владимир Денисенко задумал поставить мелодраму «Роман и Франческа» о любви советского моряка и испанской девушки. И тоже было совершенно ясно, кто должен играть испанку, – наша Лолита Торрес. Теперь, уверенно ведомая режиссером, Гурченко подражала Лолите уже не чуть-чуть, а со всей энергией и страстью молодости. Подражал ей и весь фильм. Бедная испанская девушка становилась известной певицей, и на ее концерте происходила финальная встреча с потерянным было возлюбленным, с ее Романом из далекой России. Роман сидел на галерке и кричал через весь партер ее имя, посылал записку в цветах. Записку перехватывал импресарио, не заинтересованный в развитии связей между нашими странами. Франческа знала, что ее Роман погиб, и пела притихшему залу о своей любви. А потом, с опозданием получив записку и отхлестав ею по щекам коварного импресарио, появлялась на пирсе, чтобы увидеть тающий вдали силуэт советского теплохода. Оживший бюст великого Данте комментировал происходящее и выражал идею произведения.
Все было немилосердно выспренно, подражательно, надуманно.
Искренней в фильме была только Гурченко. Она еще верила в свою звезду, верила опыту режиссера. Честно выполняла его требования, демонстрируя профессионализм и самоотдачу, какие для общего кошмарного уровня картины были излишней роскошью. Работа ее захватывала, жизнь была счастливой, сгущавшихся туч она пока не замечала. Хотя интервью у нее уже никто не брал. Интерес к новой «звезде» быстро падал.
Надо понять – почему. Неотразимая Джанет Макдональд, кумир ее детства, была примерно одинакова и в салонных «Весенних днях», и в экзотичной «Роз-Мари», но успех ее только разгорался. Марика Рекк в фильме «Дитя Дуная» так же тяжеловесно проказлива и так же замечательно бьет чечетку, как и в «Девушке моей мечты», но слава ей сопутствовала всю жизнь. Любая «звезда» замешена на чем угодно, только не на разнообразии приемов, стилей, жанров, не на содержательности драматургии, не на мастерстве перевоплощения. От «звезды», как от мороженого, публика ждет все тех же сладостных ощущений.
«Звезда» – не только обозначение популярности. «Звезды» – каста актеров, создавших некий миф и его оберегающих. Далеко не всегда этот миф идет во вред творчеству – иногда он хитроумно вплетается в плодотворную, богатую серьезными работами жизнь в искусстве, сообщая ей привкус легендарности. О таких актерах вспоминаешь с ностальгией: им посчастливилось угадать мелодию времени, в которой отражены какие-то важные потребности современной им публики.
Так Любовь Орлова воплотила в себе оптимизм музыки Исаака Дунаевского и энергичных фантазий Григория Александрова. Все это, вызванное временем и им вдохновленное, она персонифицировала, претворив в живые, обаятельные, сразу полюбившиеся образы. Орлова потому и была звездой – может быть, единственной во всем нашем кино, – что, позволив себе отклониться от «генеральной линии» в «Композиторе Глинке» или «Ошибке инженера Кочина», в главных своих ролях бережно соблюдала свой «имидж», свою блистательную легенду: даже в платье очередной золушки оставалась принцессой. В комедии-мюзикле «Весна» эта особенность ее актерского метода была сформулирована и возведена в ранг концепции, оправданной самой жизнью: обличье «сушеной рыбы» оказывалось для ее ученой героини всего лишь неказистой маской. Эту маску нужно было содрать – и тогда миру являлась женщина, умеющая быть и обаятельной, и кокетливой, чей удел не только наука, но и любовь. Две героини, сыгранные Орловой в этом фильме, – ученая Никитина и опереточная актриса Шатрова, – эти кажущиеся антиподы под занавес выходили к зрителям с веселым музыкальным назиданием, а потом, поклонившись, превращались в одну – звезду кино Любовь Орлову, все это нам показавшую.
Такой жанр, такой «имидж», такая закваска не только актрисы, певицы и танцовщицы, но – звезды. Требовать от нее достоверности на бытовом уровне – значит уничтожить сам жанр, в котором сделаны все комедии Александрова.
В «Карнавальной ночи» Гурченко начинала как звезда. Она уверенно выходила на эстраду, ослепляя улыбкой. Двигалась легко и пластично. Пела в ритме фокстрота – и это в то время, когда даже благопристойное танго еще только начинало, робко и редко, звучать по радио под кодовым названием «медленный танец». В то время, когда на эстраде было принято стоять столбом. Шла борьба со «стилягами» и «стильными» танцами. Но молодость брала свое – и танцевали, и слушали фокстроты «на костях», и стояли «на атасе», опасаясь дружинников. И вдруг все это запретное – на экране. Легально. Бесстрашно. Дух веселого бунта, учиненного героиней, сметал все косное и глупое, а рядом с ее торжествующей талантливостью бюрократ Огурцов выглядел особенно жалким и смешным.
Бунт персонифицировался в новой звезде. Сходство с Лолитой Торрес подтверждало ее «звездность» и казалось достоинством. У нас такого не было. «Девушки моей мечты» брались в качестве трофея. «Возраст любви» импортировался из-за границы. А тут своя, отечественная Лолита, это ж сколько можно с ней наснимать фильмов!
И пошло дело. И довольно быстро пришло к «Роману и Франческе». И тогда выяснилось, что звезда должна сиять собственным светом. Отраженным сияют планеты, а для кинонебосклона таких светил не предусмотрено.
Интересно, что «Роман и Франческа» – фильм, означавший для Гурченко окончательное крушение надежд, – запомнился ей как нечто особенно дорогое: в нем она сыграла свою первую большую драматическую роль. Она забыла, что волей драматурга ей надо было произносить тексты наподобие «Джузеппе, мой милый, скрыть я не в силе…» Но хорошо помнила, как душа разрывалась на части горем ее Франчески и что картонный мир фильма был ею пережит всерьез.
Это вполне укладывалось в систему координат, привычную экранам той поры: кино как мир грез, над этими грезами можно плакать. Даже пройдя ВГИК, Люся оставалась той девчушкой, которая бережно повесила на стенку промерзшей харьковской комнаты два портрета Марики Рекк – в перьях и длинном полупрозрачном платье. Искусство в ее представлении не тщилось, да и не должно было отражать окружающую жизнь. Оно ее дополняло, а также ее составляло – примерно так, как свет звезд дополняет тишину ночи и составляет ее очарование. Пронизывает насквозь, наполняет загадочным мерцанием и, казалось бы, с ней неразлучен, но в то же время недосягаемо далек. Совсем из других галактик.
Ханжеством и глупостью было бы утверждать, что такое мифотворчество – от лукавого. Оно отвечает потребности человека переключиться из забот – в радость. В блокадном Ленинграде работала оперетта. Именно оперетта! Голодный Эдвин объяснялся едва не падающей от недоедания Сильве в любви – и публика переполняла нетопленый зал. Наверное, здесь дело не только в том, какой театр успели эвакуировать, а какой – нет.
Наверное, Гурченко могла бы сделать блестящую карьеру на поприще звезды. Сияла бы в нашем кино диадемой, все дело которой в том, чтобы сиять – независимо от житейских хворей. Украшать. Напоминать даже в труднейшую из минут, что жив, жив мир веселый и беззаботно счастливый, красивый легкой, каждому внятной красотой. И тем, в общем, помогать нам в жизни. Она именно так понимала свое будущее.
Молодая актриса была счастливым материалом, который нуждался в обработке умной, умелой, талантливой. Ей нужен был режиссер, который заинтересовался бы возможностями актрисы всерьез и надолго – как в свое время заинтересовался Орловой Григорий Александров и сделал из солистки музыкального театра звезду экранов. Но Люсе такой режиссер не встретился ни тогда, ни потом: Александров был последним из титанов советского мюзикла, и мы с вами уже проследили, как музыка в нашем кино постепенно уходила с авансцены на второй план, становилась фоном, довеском, который теперь многих даже раздражает, – критики часто выговаривают режиссерам, что музыки «слишком много». Гурченко танцевала не хуже Марики Рекк, но зона пустоты и непонимания вокруг ее музыкальных героинь быстро расширялась.
Потом, позже, у нее достало таланта самой, без посторонней помощи вырвать у судьбы этот звездный «имидж» – свой, ни на какой другой не похожий. Она блистала в любимом ею жанре варьете, мюзик-холла, бурлеска, снялась в нескольких опереттах и мюзиклах, в последние годы жизни осуществила несколько театральных проектов – но поздно, очень поздно.
С другой стороны, нетрудно представить, что стало бы с Гурченко, если бы ее судьба сложилась в соответствии с ее мечтой. Скорее всего, ни она, ни мы так и не узнали бы, какой дар драматической актрисы затаился в этой поющей девушке с талией Лолиты Торрес. Кино лишилось бы ее пронзительных работ в «Пяти вечерах», «Вокзале для двоих», «Двадцати днях без войны»… И не было бы в этой судьбе раздвоения на две несовместные, кажется, актерские ипостаси, которые вечно спорили друг с другом, оставляя горькое чувство нереализованности, а на самом деле дополняли, обогащали друг друга и сделали Людмилу Гурченко единственной и неповторимой.