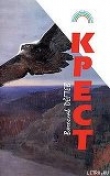Текст книги "Рассказы алтарника"
Автор книги: Валерий Лялин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Работать его поставили на лесоповал. Пилами валили ели и лиственницы, топорами обрубали сучья, обдирали кору. Как муравьи, облепив ствол, поднимали, если его можно было поднять, или волочили по земле к дороге.
Как-то раз зимней порой по скользкой дороге усталые и голодные зеки несли на плечах длинное и тяжелое бревно. Их было человек двадцать. В середине, согнувшись под тяжестью, брел и Иван Никифорович. Несли медленно, осторожно ступая по гололеду. Вдруг первый, оступившись, заскользил и бросился в сторону. Сбились с ноги и другие, и, разом бросив бревно, шарахнулись по сторонам. Бревно всей тяжестью упало на не успевшего отскочить Ивана Никифоровича. Зеки, собравшись кругом, приподняв бревно, вытащили из-под него пострадавшего.
У него была раздроблена левая нога.
– Хана нашему интеллигенту, – сказал молодой вор, сморкаясь двумя пальцами и обтирая их о ватник.
Очнулся Иван Никифорович в больничном бараке. Над ним склонился хирург Владимир Карпенко.
– Ты меня слышишь, Заволоко?
– Слышу, – простонал больной.
– Ногу твою кое-как собрали, загипсовали, но переломы открытые и были изрядно загрязнены. Удачный исход пока не могу обещать. Посмотрим. К сожалению, из лекарств только красный стрептоцид.
Боль в ноге была невыносимая. Ночью поднялась температура. Днем больной потерял сознание. Взяли в перевязочную, сняли гипс. Положение было критическим. Началась газовая гангрена. На протяжении трех дней его еще два раза брали в операционную и совсем вылущили бедро из сустава. Вероятно, у Ивана Никифоровича душа была крепко сращена с телом, и на четвертый день он был еще жив.
Он лежал на жесткой больничной койке головой к обледеневшему окну и пристально смотрел в темный угол, где появлялось и пропадало видение. Он все не мог понять: кто это? Ангел жизни или смерти? Уста ангела были сомкнуты, он молчал. Тогда больной стал молить Бога, чтобы разрешил уста Ангела. И вот глухой ночной порой Ангел заговорил: «Так говорит Господь: если ты изменишь образ жизни и всей душой предашься Богу, то останешься жить до времени на земле в этом мире. И имя отныне тебе будет – Иоанн».
– Я согласен. Я приму монашество, светлый Ангел.
* * *
Через несколько лет после окончания войны, ранней весной, в Риге на улице Межотес перед дверьми маленького домика стоял на костылях высокий одноногий старик, в старом ватнике, шапке-ушанке, вещмешком за спиной. Он нерешительно постучал в дверь. Маленькая старушка открыла дверь и, посмотрев на стучавшего, крикнула в глубь дома: «Катя, отрежь кусок хлеба! Здесь нищий какой-то пришел».
С куском хлеба появилась Катя. Она подала нищему хлеб и, вглядевшись в него, всплеснула руками: «Мама, да ведь это наш Иван!»
Старушка взглянула и, вскрикнув, повалилась на руки дочери.
– Ваня, да что же они с тобой сделали! – только и промолвила Катя.
– На все воля Божия, на все воля Божия, – шептал Иван Никифорович, проходя в комнаты.
Он сидел в своем кабинете и был в глубоком раздумье. Латвия вошла в состав СССР. Что делать ему, с надорванным лагерями здоровьем, безногому калеке в новых условиях советского строя? Он совершенно не представлял себе: как и на что он будет жить.
В скромном кабинете в киоте под стеклом висела большая храмовая икона «Достойно есть». Целый вечер, допоздна, опираясь на один костыль, он горячо молился перед ней, прося Божью Матерь вразумить и наставить его на верный путь. Ночью ему приснился сон, как будто он странствует по всей стране из города в город, из деревни в деревню, и не пешком, а легко переносимый каким-то приятным теплым ветром. В торбе у него лежит хлеб, соль, кружка и книга Нового Завета, которую он раскрывает на каждой остановке и читает ее собравшемуся вокруг него народу, потому что из ветра был глас к нему, глаголющий из пророчества Амоса: «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, – не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его».
И когда он утром проснулся, перекрестился с Иисусовой молитвой, чтобы отогнать беса-предварителя, который всегда с утра лезет с пакостными помыслами, то первое, о чем он подумал, – это о Божием указании, которое он получил во сне. Через неделю он вышел из дома, несмотря на плач матери и сестры, которые пытались удержать его.
И с тех пор его видели в Карелии, за Полярным кругом, в Пустоозерске, на Кольском полуострове, в Крыму, на Кубани и в Молдавии. И народ везде с приветом принимал одноногого дедушку, который так интересно рассказывал о Христе, о Божией Матери и святых угодниках земли Русской. У него не было денег, не было пенсии, не было крепкой одежды, и народ взял его на свое иждивение. Зимой он не странствовал, а останавливался у добрых странноприимных людей, обычно где-нибудь в деревне. Праздно не сидел, а, чем мог, помогал по хозяйству. Ловко орудуя ножом и скребком, резал деревянные ложки, подпершись костылем, колол дрова, топил русскую печь, задавал корм скоту. Но главное – он нес народу Слово Божие.
По вечерам в избу, где он останавливался, приходили из деревни люди, и Иван Никифорович учил их Закону Божию. Кроме всего этого, он везде разыскивал никому здесь не нужные, старые рукописные и древлепечатные книги. Новое поколение читать по-церковнославянски не умело, и книги эти обычно были свалены на чердаках, где их точил книжный червь и грызли мыши. На те небольшие деньги, которые ему давали люди, он посылал эти рукописи и книги в древлехранилище Пушкинского Дома в Ленинграде. Но особенной его заветной мечтой было отыскать подлинник рукописи страдальца за веру, неукротимого и пламенного протопопа Аввакума.
Много исходил северных дорог Иван Никифорович по приполярным селениям старообрядцев, порой едва вытаскивая костыли из болотистой земли тундры. Он находил кое-что, и сердце радостно билось, когда он брал в руки пожелтевшие, ветхие листы старинной рукописи, но это все были списки, а подлинник пока не давался. Да и был ли он? В одном из глухих таежных монашеских скитов он принял по обету иночество и верно служил Господу Иисусу Христу, просвещая и неся слово Христово в народ.
Иван Никифорович был ровесником века, и время брало свое. Я получал от него письма с дороги, где он писал: «Мои дела неважные, усиливаются возрастные изменения». Все чаще и чаще он зимовал в Риге. Иногда выезжал поработать в библиотеках Москвы и Ленинграда. Особенно он хвалил собрание книг в музее религии, который размещался в Казанском соборе: «Неслыханные и редчайшие богатства духовной литературы».
Многие журналы охотно помещали его историкоэтнографические статьи. Тем он и жил последние годы и еще понемногу распродавал собственную библиотеку. А подлинник рукописи «Житие протопопа Аввакума» он нашел не в тундре, а в Москве, в одной старообрядческой семье. Вот она, заветная толстая тетрадь, переплетенная в оленью кожу. Ученые Пушкинского Дома подтвердили подлинность рукописи, написанной рукой самого протопопа Аввакума и его духовного сына Епифания. Это великая национальная святыня русской культуры. Иван Никифорович подарил ее Пушкинскому Дому.
Последние годы жизни он провел в своем домике в Риге на улице Межотес, принимая многочисленных посетителей, ехавших к нему со всей страны. Умер Иван Никифорович в начале восьмидесятых годов со словами: «Слава Богу за все».
Рассказы алтарника
Однажды за столом в церковном доме был разговор. Шла трапеза после воскресной Литургии. Разговор был мирской, ничего особенного, но все же его можно было и не заводить за столом – все, что намолено за Литургией, бес лукавый окрадывает в душах при таких разговорах. Была за столом и одна бабка, которая когда-то работала дворником и была ушиблена упавшим с крыши куском льдины прямо по голове, после чего, сделавшись блаженной, получила дар предвидения. Так вот она, доев щи и облизав ложку, изрекла на нас пророчество: «За то, что вы за столом ведете такие непотребные разговоры, Господь рассеет вас по лицу земли, и на будущий год за этим столом останется один только батюшка».
И что же, она как в воду глядела: церковную повариху и клирошанку занесло в Сибирь, алтарника – во Францию, псаломщик упокоился на кладбище, церковного старосту переехала машина, и он, недвижимый, лежал дома, казначейшу унесло в Краснодарский край, регент осел в Питере, а почтенный член двадцатки угодил в мордовские лагеря отбывать срок.
Дивен Бог во блаженных своих!
Вот и говори после этого, что не стоило тогда обращать внимание на придурковатую бабку.
Помню, батюшка за это пророчество изгнал ее из-за стола в чулан. Правда, туда ей вослед была отнесена миска гречневой каши с гусиной ножкой, но, как видите, это не спасло нас от приговора, и Божие наказание совершилось.
Было это в брежневские времена, и я тогда крепко дружил с алтарником Игорем, очень любившим и почитавшим батюшку Серафима Саровского. Игорь был высок ростом, лик имел смиренный и кроткий, характер невзыскательный и тихий, по обеим сторонам лица плоско висели русые волосы, всегда виноватая улыбка пряталась в негустой бороде. Немного согбенный и медлительный – в нем и за версту можно было определить духовное лицо. Деревенские церковные старухи за глаза называли его не иначе как «наш апоштол».
Живя при церкви, он всегда был на побегушках у матушки и посему называл себя «работником Балдой». Всегда находился он в мирном расположении духа и охотно прислуживал батюшке и в церкви, и дома.
Батюшка был молодой и веселый, с живыми карими глазами и любил потешить нас всякими семинарскими побасенками и шутками.
Так, он спрашивал нас, знаем ли мы толкование псалма, где говорится: «Бездна бездну призывает!» Мы, конечно, не знали, и он весело пояснял, что это дьякон дьякона обедать зовет. А когда к нему приходили гости, он кричал на весь дом: «Игорь, в преисподню!» Это означало, что Игорь должен был лезть в подвал, где в бутылках хранилось вино.
Игорь никогда никого не осуждал, правда всегда ворчал на регента за то, что тот обложил натуральным налогом своих певчих бабок. Одна старуха должна была нести ему кислую капусту, другая – картошку, третья – соленые грибки, четвертая – варенье. Их так и называли: грибная старуха, картофельная, капустная. А самого регента за его шикарную черную бороду – царем халдейским Саргоном и мытарем Закхеем.
Как-то сидели мы с Игорем после всенощной в церковной сторожке, пили чай с ванильными сухарями, слушали, как в печурке трещат дрова. И он, смотря на огонь, рассказывал мне своим проникновенным баском:
– Много раз в жизни я собирался посетить святые для меня места, где подвизался дорогой моему сердцу старец Серафим Саровский, но как меня ни тянуло туда, попасть в Саровскую пустынь, охраняемую злыми темными силами, было невозможно.
На святых землях как бы сидела громадная жаба или огнедышащий Змей Горыныч.
– Божьи люди меня предостерегали: «Не ходи! Там везде колючая проволока, охрана, собаки, вышки, строжайшее наблюдение день и ночь. Кто дерзал преодолеть эти дьявольские заграждения, навсегда исчезал неизвестно куда».
Это была особая зона, даже при приближении к ней чувствовалось какое-то напряжение и тоскливый страх. Но я все же решил поехать. Подкопил денежку, отпросился у батюшки-настоятеля и пошел к своему духовнику просить благословения. Духовник-старец долго молча теребил свою бородку и наконец сказал: «Дело благое задумал ты, раб Божий, но готовься пострадать за Христа и за батюшку Серафима, а может быть, и убиен будеши. Сатана охраняет это место и никого не допускает, и если с Божией помощью ты туда попадешь и вернешься, то он, князь тьмы, посрамлен будет. А все же батюшка Серафим тебя охранит».
Запасся я кусачками, колючую проволоку перекусывать, и толстыми резиновыми перчатками, на случай, если ток в проволоке пущен. Стал карту рассматривать. Батюшки! А Сарова-то нет, как будто корова языком слизала или в тартарары провалился. Что за притча такая? Что же там демоны устроили-то? Взял я с собою харч на неделю, на грудь повесил благословенный образок серебряный: на одной стороне старец Серафим, а на другой – Радость всех радостей – Божья Матерь «Умиление».
Поехал. Через сутки добрался до Арзамаса. Дальше пошел пешком по глухим местам, по компасу. На дороги старался не выходить, селения обходил. Ночевал в лесу. Холодно, осень, туманы. Наконец добрался я до зоны. Лес кончался. Далее все вырублено. Вспаханная полоса, колючая проволока в два ряда. Вышки. Дождался темноты. Пополз на брюхе по полю. Прополз вспаханную полосу и добрался до проволочного заграждения. Стало темно, да и туман густой навалился.
Ну, думаю, Господи, благослови!
Когда лесом шел, все молился. Почему-то все из Патерика на ум приходило: «Яко же тело алчуще желает ясти и жаждуще желает пити, так и душа, отче мой Епифаний, брашна духовного желает: не глад хлеба, не жажда воды погубляет человека; но глад велий человеку Бога не моля, жити».
Значит, полежал, послушал – тихо. Достал кусачки, надел резиновые перчатки, начал перекусывать проволоку. Ну и проволока! Пыхтел, пыхтел: едва перекусил. Боже правый! Что тут началось! Сирена заревела, прожекторы включились, затрещала автоматная очередь. Я, по-пластунски, назад. Как меня до леса донесло, и сам не знаю. Хорошо, лег плотный туман. «Ну, батюшка Серафим, помогай!» Бежал, как конь. Не знаю, была погоня или нет, но всю ночь бежал без отдыха. Выбросил кусачки, резиновые перчатки. Спал в лесу. Постоянно молился угоднику. Наконец вышел к станции Теша. Забрался в товарняк, спрятался на платформе со щебенкой. И вот, слава Богу, добрался до дому.
Первым делом в баньку сходил, колотильную дрожь выпарил, поел дома щей, помолился и пошел к своему старичку-духовнику каяться и рассказывать о своих приключениях. Он выслушал и говорит мне: «Чадо мое, испытание твое было велико и опасно, но Господь оберег тебя и приобрел в тебе верного сына, и батюшка Серафим тоже не оставит тебя никогда. Велики еще силы сатанинские, и земля батюшки Серафима еще в плену, но придет время, и рухнут все преграды, и опять запоют Пасху в Сарове».
И только через много лет, когда повалилась власть коммунистов, узнал я, что в Сарове, где подвизался батюшка Серафим, где он, стоя на камне тысячу дней и ночей, молился за грешный мир, угнездились советские бомбоделы, ковавшие дьявольское атомное оружие.
Вот так батюшка Серафим первый раз спас меня от погибели. Недавно он спас меня второй раз.
Игорь поставил остывший чайник на печку и продолжал:
– Значит, месяц назад, в феврале, после службы поехал я в город к себе на квартиру. Приехал, поужинал и прилег отдохнуть с книгой в руках. И вдруг погас свет. Посмотрел – квартирные пробки в порядке. Взял фонарик и спустился на первый этаж под лестницу, где были электрощиты. С улицы через окно падал свет и слабо освещал площадку первого этажа. Цементный пол был скользкий от какой-то наледи. Я открыл железные дверцы щитового ящика, посветил фонариком и увидел, что не в порядке предохранитель. Сходив за проволокой, я шагнул к ящику и вдруг, поскользнувшись, обеими руками влетел в ящик на клеммы. Тут меня как стало бить током! Я хотел оторваться, но не мог и понял, что погибаю. Кричать был не в силах, но мысленно взмолился: «Батюшка Серафим, помоги!» И сразу же кто-то оторвал меня от щита и стал опускать на пол. В полумраке я увидел старичка в белом балахоне с медным крестом на груди.
Когда я окончательно пришел в себя – никого не было. Я лежал на холодном цементе около щитов. Исправив предохранитель, я поднялся к себе в квартиру и припал к иконе преподобного Серафима. «Преподобие Отче Серафиме, радуйся, в бедах и обстояниих помощниче скорый».
Окончив свой рассказ, Игорь встал, заварил чай и, разлив его по кружкам, продолжал:
– В юности я с приятелем, сынком одного театрального деятеля, бродяжничал по Руси. Мы были что-то вроде хиппи. Обросли патлами, бородками, не мылись и даже зубы не чистили. В кубинских мешках из-под сахара прорезали дыры для головы и для рук и ходили в таких одеяниях. Раз в Суздале, где много старинных церквей, на площади мы потешали иностранных туристов, отплясывая дикий танец. Они, скаля зубы, нас фотографировали и кидали нам деньги и сигареты.
Вдруг, откуда ни возьмись, появился странный старик, ну вроде пустынника какого-то с посохом в руках. Он растолкал туристов и пролез вперед. Встал и стал смотреть на нас. Смотрел, смотрел, а потом как закричит на нас: «Вы что это, паразиты, землю русскую поганите!» Да как начал нас своим посохом охаживать. Мы – бежать. Он за нами. Забежали в какой-то сарай, отдышались. Входит старик, садится на дрова и говорит: «Ну, ребятушки, так нельзя, нельзя так, милые, грех это, то, что вы делаете. Убогий Серафим вам этого не простит». «Который Серафим?» – спрашиваю. «Я, – говорит, – этот Серафим». Тут на нас такой сон напал, ослабли сразу как-то, завяли. Правда, мы были и подвыпивши основательно. Перекрестил нас старик и ушел, а мы повалились на сено и захрапели. Проснулись только вечером. Старика нет. А был ли он? Может, нам приснилось? Но приятель говорит, что был старик, даже колотил нас палкой. Вот и синяк на руке есть.
И так на нас этот старичок подействовал, что бросили мы хипповать. Поехали домой.
Я после этого, первым делом, к церкви прибился, принял святое Крещение по-православному. Батюшка меня прямо в Неве окрестил. Вот, удостоился, даже алтарник теперь. Слава Богу за все.
Прошло время, мы с Игорем расстались. Бог весть, какими судьбами, он поехал учиться в Германию, в Мюнстер, на богословский факультет. Учился, недоучился. Мотнуло его в Мюнхен, в православный монастырь, где он каялся, плакал и печатал катехизисы в монастырской типографии. Затем занесло его во Францию, где-то около Страсбурга. Устроился он привратником в православном эмигрантском монастыре, где доживают свой век древние сановитые старухи из России. Он по-прежнему при алтаре: подает батюшке кадило, ходит со свечой, чистит и уметает алтарь. Погрузнел, взматерел, но все такой же кроткий и смиренный.
И куда судьба только не закинет русского человека?!
А ведь все эта блаженная бабка! Не свались ей льдина на голову, может, было бы все в порядке.
Адский страх
Страхи бывают разные. Инфернальный страх является тяжелым страхом, от которого прыгают в лестничный пролет, лезут в петлю, бросаются под колеса поезда, но это уже в финале, а вначале мертвецки напиваются, то есть испивают мертвую чашу, чтобы полностью отключиться от этого света и погрузиться в черную воронку бессознательного. И этот страх загоняет человека, без видимых причин, в инфернум – лютую преисподнюю. Короче говоря, адский страх – бесовское наваждение. Обычно страх возникает внезапно и нарастает крещендо, как смерч, охватывает душу человека, проникая до сокровенных глубин, и человек, теряя разум и ориентацию, не знает, куда спрятаться, куда бежать и как избыть этот ужас.
Матушка Русь богата этим страхом, который затаился на пыльных чердаках, на пустынных унылых болотах, на кладбищах, в больничных палатах, в подвалах заброшенных домов и серых городах-призраках, где извечно происходила массовая гибель людей. Но особенно любит обитать адский страх в темных, неправедных душах, много и упорно грешивших. Зло, поглощающее мир, не обходит стороной и Русь, которая уже в XVII веке стала иной, а потом с нарастающей скоростью устремилась к коммунизму, но пришла к алкоголизму.
Жило да было в нашем мегаполисе одно тело. Оно было еще молодо, мужеского пола, весьма многоплотно и зело волосато и шерстнато. Где-то в недрах этого тела была погребена едва живая, взращенная на советском соусе душа. Это тело было учено и понимало толк в искусстве и живописи. Жило оно весело и беззаботно, приятели-собутыльники не переводились, и свободное время в жратве и пьянке они проводили блистательно. И вот однажды это тело, которое было здоровенным двадцатисемилетним мужиком по имени Клим, сдало.
После очередной пьянки, протрезвившись, он почуял такую тоску, что хоть вешайся. Вставши, он пошел на кухню прополоскать горло и рот и сварить, что ли, кофе. Когда он входил в большую по старым петербургским меркам кухню, какая-то тень внезапно мелькнула и скрылась за шкафом. Он посмотрел за шкаф и, кроме серой пыльной паутины, ничего там не увидел. Он взял веник и пошевелил за шкафом. Оттуда поднялись многолетние клубы пыли, и он, вдохнув ее, сильно раскашлялся. «Какая противная старая пыль, наверно, с блокадных времен никто там не чистил», – подумал он. А тоска не проходила и все сильнее давила грудь. И вот тут, внезапно, на него накатил такой ужас, что он похолодел и ослаб. «Что это со мною? – пронеслось у него в мозгу. – Ой, помираю». Он опустился на пол, и его стал колотить озноб, дрожала челюсть и лязгали зубы. Со стоном, мыча и издавая хриплые вопли, он пополз в комнату в поисках убежища, но убежища не находилось, все сильнее сдавливало грудь и перехватывало дыхание. В животном ужасе он заполз под тахту и уперся лбом в деревянную ножку, вонявшую лаком и пылью. Как рыба, вытащенная из воды на берег, бился он в судорогах под тахтой, которая над ним дрожала и прыгала как живая. Не зная что делать, он впился крепкими медвежьими зубами в деревянную ножку и стал ее грызть. Слышался хруст дерева, и он поминутно выплевывал мелкие щепки. Это его немного успокоило. Он вылез из-под тахты и посмотрел на себя в зеркало, которое отразило безумно перекошенное лицо с расширенными зрачками и окровавленным ртом. Несколько часов после этого он не мог прийти в себя, сотрясаемый дрожью и с помутненным разумом.
Утром он уходил на работу и в повседневной суете своих рутинных занятий как будто забывал о том страшном вечернем накате. Но, по мере приближения очередного вечера, растущее беспокойство начинало томить душу, и, чтобы забыть и заглушить это томление, он по дороге заходил в рюмочную и, морщась, заглатывал стакан водки. Но как только настенные часы били семь раз, страх опять накатывал холодной мерзкой волной, и он, как затравленный зверь, метался по квартире и в конце концов опять залезал под тахту, дрожал и грыз деревянную ножку. И так повторялось каждый вечер. Однажды, не выдержав, он побежал спасаться к соседу. Сосед – старый тучный пенсионер дядя Вася, открыв дверь и мрачно посмотрев на него, сказал: «Пить надо меньше» – и захлопнул дверь.
Порой он чувствовал, что вот-вот умрет, и тогда кое-как одетый бежал в больницу, которая была напротив его дома, и, дрожа сидел в темном холодном вестибюле в надежде, что если уж совсем будет плохо, то его здесь спасут. Изредка мимо проходили в белых халатах. Он жадно смотрел на них, и ему становилось легче. Но дома он явственно ощущал присутствие какой-то темной злой силы, которая с нетерпением поджидала его. Он уже начал изнемогать и перестал ходить на службу, мыться, читать и поднимать телефонную трубку. Томясь в тяжелом оцепенении, он сидел на диване и ждал наступления вечера.
Однажды к вечеру он решил основательно приготовиться для защиты. Снял со стены охотничье ружье и набил патроны волчьей картечью. Опять сел на диван, положив ружье на колени. И вот наступил вечер, часы натужно и глухо пробили семь. Он схватил ружье, держа его наперевес, стал медленно прокрадываться на кухню. И опять за углом промелькнула тень, и он успел в нее выстрелить с обоих стволов. После грохота выстрелов из расходящегося порохового дыма кто-то махал ему черной тощей рукой и отвратительно визгливо смеялся. Он отступил к дивану, переломил стволы, вложил еще два патрона. В двери квартиры ломился и кричал пенсионер дядя Вася, но Клим ничего не слышал, ужас вновь захлестывал его волнами. Он откинул голову назад и засунул ружейные стволы себе в рот. Снял правый ботинок, большим пальцем стопы стал нащупывать холодную сталь спускового крючка. На миг он представил, как выстрелом разнесет ему череп, разбросав мозги и кровь по стене.
– Фу, какая гадость! – сказал он, откинув ружье. – Нет, ты меня не возьмешь! – закричал он и выбежал на улицу.
Понурив голову, поплелся он к психиатру. Психиатр – вертлявый и смешливый еврей, который делил весь мир на психиатров и сумасшедших, уложил Клима на холодную клеенчатую кушетку, сам сел в кресло в головах и повел беседу по Фрейду, сбиваясь все на сексуальную неудовлетворенность клиента в раннем детстве. Он придавал большое значение несбывшейся половой связи Клима с какой-то чернушкой из детского садика, толковал о каких-то каловых палочках и завирался еще о чем-то. К тому же от него пахло фаршированной щукой и чесноком. Он довел Клима до позывов к рвоте, и тот, вскочив с кушетки, поднял ее и положил на поклонника Фрейда, с удовлетворением услышав пронзительный заячий визг лекаря.
Хлопнув дверью, он вышел на улицу и завалился в кабак, где напился до умопомрачения. Не помня как, добрался до своего дома и свалился поперек каменной лестницы, погрузившись в мертвецкий сон.
В это время одна молодая одинокая и эмансипированная особа, по имени Сонька, возвращалась с концерта, где давали сочинения модного композитора Шнитке. Наслушавшись в лихой аранжировке кошачьих воплей, скрипа старых дверей и урчания унитазных водопадов, она пребывала в крайне раздражительном состоянии, вдобавок было жалко зря потраченных денег. Она была худощавой миниатюрной дамочкой, но с крепким самостоятельным характером, как говорится: «Маленькая птичка, но коготок востер». На лестнице в парадной пахло мочой и было довольно темно – обычная закономерность ленинградских парадных, где электрические лампочки постоянно крали алкоголики и бомжи. Поднимаясь на ощупь по лестнице и размышляя о Шнитке, она натолкнулась на что-то большое и мягкое, лежащее поперек в явной атмосфере винных паров.
– Вот, еще какой-то боров разлегся здесь, пройти невозможно! – завизжала Сонька и пнула его ногой в мягкий бок.
– Прошу меня не тревожить и не будить. Я очень хочу спать… – жалобным голосом проговорило лежащее тело.
– Вот еще новость, нашел себе бесплатный отель. Вставай сейчас же, негодный мужичишка! – возмущалась Сонька и еще раз пнула его ногой.
– Не надо меня пинать ногой. Во-первых, больно, во-вторых, я кандидат искусствоведения, а не какая-то там шалупень. К тому же я добрый и большой, и все меня бить остерегаются.
– Вот тебе еще! – сказала, пнув его, Сонька.
– Ой, ой, мадам, вы угодили в очень чувствительное место.
– Буду пинать туда же, пока не встанешь и не пропустишь меня домой.
– Встаю, встаю, прошу прощения. Помогите мне. Ой, какая вы маленькая, как птичка. Это я напился от страха. Я болен страхом и сегодня хотел застрелиться из ружья.
– Ах ты, негодный мальчишка, держись за перила. Вот и моя дверь. Застрелиться из ружья? Это уже серьезно. И похороны нынче дороги, да и гроб тебе нужен – нестандартная колода. Ну что, встал? Проходи, проходи, потерянный ты человек. Вот садись сюда. Я сейчас сварю тебе крепкий кофе. А пока выпей средство для протрезвления.
– Ой, какая гадость!
– Смотри не вздумай блевать, а то побью тебя веником. А вот и кофе, пей и рассказывай, что с тобой приключилось. Да, а звать-то как тебя?
– Клим.
– А меня зови Сонька.
– А вот, Сонечка, жил я до двадцати семи лет.
– Не Сонечка, а Сонька!
– Так вот, дожил я до этих лет и погибаю от страха. Просто ужас какой-то. Как вечер, так он и приходит. Веришь?! Забираюсь под тахту и дрожу там. Четыре деревянные ножки изгрыз, теперь хоть тахту выбрасывай. Черт-те что делается со мной!
– Клим, пожалуйста, больше не поминай нечистого, да еще на ночь. Поэтому и заливаешься водкой?
– Заливаюсь.
– Помогает?
– Еще хуже становится.
– А у психиатра был?
– Был. Говорит, что это у меня от детской сексуальной неудовлетворенности. Прет бессознательное из глубин памяти.
– Фу, какой дурак твой психиатр.
– Конечно. Он сам чокнутый, к тому же рыбой воняет. Я его фрейдовской кушеткой придавил.
– Клим, ты веришь в Бога?
– Как-то не задумывался над этим вопросом. Пожалуй что нет.
– Ага, вот, как говорят немцы: альзо, хир во хунд беграбен. Вот здесь и зарыта собака.
– Какая еще там собака?
– Наверное, это и есть причина твоего страха. Вот тебе матрас, я запру тебя в кухне. А завтра поведу тебя решать эту проблему.
– Куда, в синагогу?
– Нет, на монастырское подворье. Смотри не шали, дрянной мальчишка, а то отведаешь веника. Спи!
Сонька заперла дверь в кухню на ключ и отправилась спать.
Немного пришедший в себя Клим повалился на матрас. Страха не было, и он заснул. Последней мыслью его было: «Надо держаться за эту девку, что-то в ней есть успокоительное».
На монастырское подворье они пришли рано, когда только что закончился братский молебен. По их просьбе монастырский послушник провел их в келью настоятеля, игумена отца Прокла. Отец Прокл в подряснике, с полотенцем на шее, сидел за столом и пил для здоровья цветочный чай.
Посмотрев на них, он улыбнулся и сказал: «В келью мою вошли медведь с мышью. Садитесь на диванчик и выкладывайте, с чем пришли».
Запинаясь и потея, Клим рассказал о своей беде. Сонька вставляла существенные замечания. Игумен выпил очередную чашку чая, обтер лысый лоб полотенцем и промолвил, что, мол, «дело ясное, что дело темное».
– С детства человек живет телом и только им, а по мере возрастания начинает входить в духовную жизнь. Начинает понимать, что он есть не только одно тело. Душа, жаждущая Бога, дает о себе знать. И человек так или сяк находит дорогу к Богу, находит дорогу ко храму. И особенно сильно он ищет эту дорогу, если ему доведется пострадать, вкусить различные скорби. А жизнь наша земная, как известно, без скорбей не бывает. Прямо скажу тебе, Климушка, насели на тебя и одолели тебя бесы. Жизнь ты вел неправедную, и посему Бог тебя отдал на истязание бесам. А бесы довели тебя до того, что ружье себе в рот совал и жизни себя лишить покушался. И твоя душенька тогда прямым ходом опустилась бы в адские недра на веки вечные, на муки бесконечные, где вопли, вой, скрежет зубовный и где червь неусыпаемый.
Но Господь с высоты Своей призрел на тебя пьяненького и, пожалев, послал тебе в помощь Соньку. Она хотя и малый кораблик, но сила в ней большая Богом вложена. Она тебя вытянет из грязного житейского болота, наставит тебя в Законе Божием, примешь Святое Крещение, послужишь годика два при храме нашем. Ведь ты же – реставратор. А там – под венец с Сонькой. Хотя она против тебя и маленькая, но – ох-хо-хо, грехи наши тяжкие, – как говорят на Руси: «мышь копны не боится».
– Ой, батюшка Прокл, увольте меня от него. И боюсь я этого толстого негодного мальчишки.