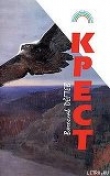Текст книги "Рассказы алтарника"
Автор книги: Валерий Лялин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
На следующий день в храме правил службу грузинский священник, отец Мелхиседек. Был праздник – Казанская. В этот день на клиросе пели все монастырские сестры. Пели хорошо, согласно, жалостным монастырским распевом. Пели по-русски: «Господи, пом-и-и-луй». И по-грузински: «Упалоше ми цале, Упалоше ми цале…»
Народу в храме стояло много, все больше грузинские крестьянки, которые молились по-восточному бурно, со слезами и воплями, воздевая к иконам руки. Были и русские, и даже несколько красноармейцев. После службы Варенька зашла в правый придел и приложилась к чудному, из белого резного мрамора, надгробию святой равноапостольной Нины.
Матушка Марфа – ветхая худенькая старица – была в великой схиме. Она имела дар молитвенных слез – большая молитвенница и постница. Ей было предсказано свыше о времени и дне ее кончины, и посему в келье был уже приготовлен некрашеный гроб с черным крестом на крышке, и в дальнем углу кладбища вырыта могила, прикрытая досками. Ее келейница – матушка Мария – была у нее в послушании и вела хозяйство схимницы. К матушке Марфе часто приходили окрестные крестьянки за наставлением и советами, оставляя у Марии корзины с приношениями, которые матушка Марфа раздавала сестрам.
Матушка Елизавета – еще крепкая жилистая старуха – несла послушание по заготовке для общинки дров, которые на себе таскала из леса. У нее хранились частично спасенные от разграбления и уничтожения церковные сосуды, священнические ризы и богослужебные книги. Она же знала, как построить новую келью или поправить старую. Хорошо знала Богослужебный устав и на клиросе была канонархом.
Матушка Олимпиада, как и Марфа, тоже была в великой схиме. Пожилая, полная, всегда с улыбкой на добром лице. У нее был какой-то благодатный легкий характер, исполненный любви ко всему сущему. Двери и окна ее кельи с самой весны были открыты, и залетавшие в них ласточки свили в келье под потолком несколько гнезд и даже выводили птенцов. И матушка уже не обращала внимания на беспрерывное мелькание перед глазами прилетающих и улетающих птиц. Господь ей дал редкий дар прозорливости. Она предсказала грузинке, что младший ее сын утонет. Мать не пускала его на реку, а мальчонка утонул в громадном кувшине из-под вина, врытом в землю и наполненном водой. Другой грузинке она сказала, что у нее под кроватью поселилась змея. И действительно, муж грузинки в тот же вечер убил эту змею. Она же предсказала, что коммунисты продержатся почти до конца века, а потом уйдут в преисподнюю, так же неожиданно, как и появились.
И к ней, как и к Марфе, всегда шел народ за наставлением и советом, и оставленные приношения она тоже раздавала сестрам.
Матушка Фомаида была слепой от рождения. Сестры приходили к ней по очереди читать Псалтирь, жития святых и Библию, в то время как Фомаида, быстро мелькая спицами, вязала на всю общину шерстяные носки и кофты. Были у нее заказчицы и из соседних сел и городка Сигнахи, которым она, в свою очередь, рассказывала то, что слышала от сестер. Научившись по слуху, матушка Фомаида пела на клиросе по памяти нежным, приятным голосом.
Матушка Иулиания была строга, великолепно знала церковный устав и на клиросе значилась головщицей, или, как теперь говорят, – регентом. Она была великая молитвенница и постница и достигла силы запрещать бесам. Поэтому ее часто приглашали в крестьянские дома, если что-то по этой части там было нечисто.
Прошло время, и из монастырских корпусов ушел военный госпиталь. В округе стало спокойнее и безопаснее. В корпусах теперь обосновалась районная больница. Варенька, которая несла в общине послушание быть всем слугой, пошла работать санитаркой в больничную аптеку. Мать игуменья благословила ее на это послушание, так как там давали продуктовый паек и небольшую зарплату.
Прошла зима, с гор в долины ручьями сошел снег, но советская власть не сошла вместе с ним, наоборот, еще больше укрепилась. Раза два в монастырскую общину приходила милиция. Монахини подносили веселым усатым милиционерам вина. Они пили за здоровье монахинь и во славу святой Нины и, не обнаружив ничего подозрительного, уходили с миром.
А сегодня игуменья имела с Варенькой длительный разговор о постриге в рясофор. Варенька так втянулась в ритм монашеской жизни, что ничего не имела против пострига. Она чувствовала, что осталась на свете одна-одинешенька. Что было раньше, она старалась не вспоминать, потому что это вызывало тоску и душевную боль. Наводить какие-либо справки о семье игуменья не благословляла, так как это было опасно. Отец Вареньки, жандармский полковник Дроздов, однажды участвовал в аресте опасного государственного преступника Иосифа Джугашвили, который теперь стал верховным правителем СССР. И если бы кто из местных властей узнал, что она дочь того самого полковника, то Вареньке было бы несдобровать.
В назначенный день пострига Вареньки из Цители-Цкаро приехал иеромонах Василиск. Он исповедал Вареньку, поговорил с ней и хотел было начать постриг, но она вдруг встрепенулась, схватила его за руку и попросила немного обождать. Она выбежала из храма, обогнула кладбищенскую ограду и спустилась в глубокий овраг, где протекала горная речка. Там она встала на плоский камень и, дыша полной грудью, смотрела на чистые хрустальные струи, смотрела, как в речке играет пятнистая форель, смотрела, как из леса вышла горная коза и напилась воды, а в небе над ней проплывали белые облака и кружили орлы.
Затем девушка вынула из кармана завязанное в платочек золотое обручальное кольцо, взглянула на него, прижала к губам и опустила в быстрый поток. Блеснув золотой рыбкой, кольцо сразу же ушло на дно. С ним ушли все молодые надежды на счастье, воспоминания о разлуке с милым, гонении, странствовании и обо всем-всем, что было. Как пели гусарские офицеры: «Все, что было, все, что мило, все давным-давно уплыло». Она вернулась в храм, и иеромонах Василиск в присутствии всех сестер совершил монашеский постриг, оставив ей имя Варвара.
Вошла во храм дворянка, невеста ротмистра князя Волкова Варенька, а вышла из храма смиренная инокиня – невеста Христова, матушка Варвара. После трудов в аптеке, где она до одурения делала порошки и мыла аптечную посуду, матушка Варвара несла еще послушание в храме у свечного ящика. Храм пока еще власти не закрыли, хотя неоднократно пытались это сделать. Но горячий грузинский народ не давал закрыть свой храм, который был национальной святыней. Храм был очень древним, ему было около тысячи семисот лет.
В горах обычно темнеет рано, и в древнем храме с крохотными оконцами, в сумраке, окрашиваемом только трепетными огоньками горящих перед иконами свечей и лампадок, какие-то тени загадочно играли на стенах и стояла удивительная тишина. В будние дни к вечеру народа здесь почти не бывало. И каждый раз, когда храм пустовал, матушка Варвара сподоблялась видения святой Нины, которая являлась в мантии, с посохом, медленно обходила храм и скрывалась в стене правого придела, где под спудом покоились ее мощи. Варвара об этом никому не говорила, даже самой игуменье, потому что сама сомневалась, было ли это хождение с посохом на самом деле, или это была только игра теней от трепетных свечных огоньков на сквозняке.
Однажды, когда матушка Варвара особенно устала от аптечных трудов и, задумавшись, сидела за свечным ящиком, она внезапно увидела в храме синие вспышки света, переплетающиеся зигзаги молний и медленное неясное просветление церковного пола. Каменные плиты становились прозрачными, как стекло. И перед ее глазами открылось удивительное подполье – усыпальница со стенами, украшенными древней цветной майоликой с цветами неземной красоты, корсунскими крестами и ликами херувимов. На высоком каменном ложе, покрытом ветхой золотой парчой, вечным сном спала святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии и другиня Божией Матери. Нетленная, с бледным прекрасным ликом, с сомкнутыми апостольскими устами, в мантии из голубого виссона, левой рукой прижимающая к сердцу Святое Евангелие, украшенное яркими кроваво-красными лалами, а в правой держащая чудотворный крест, сплетенный из виноградной лозы, – дар Пресвятой Богородицы. Вкруг каменного ложа стояли три высоких золотых светильника с горящими и несгорающими свечами. Из усыпальницы поднимался к церковному куполу и распространялся по всему храму чудный аромат, несказанное благоухание. Затем все стало темнеть, и видение, потускнев, исчезло. И опять во мраке мелькали только огоньки лампад.
Матушка Варвара очнулась и не могла сразу понять, то ли это было во сне, то ли наяву, хотя на следующий день вся деревня ходила в храм вдыхать чудный аромат, почему-то внезапно появившийся там.
Шли годы. Наконец больница ушла из монастырских зданий, но богоборческая власть сразу же устроила там музей достижений сельского хозяйства. Матушка Варвара была уже манатейная монахиня. Она постарела, и ей уже не надо было закрывать черным платом свое прекрасное лицо. Под рясой на теле она тайно носила из грубой шерсти связанную белую власяницу, а еще она имела молитвенный слезный дар. Не один десяток лет работая в больнице, она многому научилась от врачей и медсестер. Искусство исцеления страждущих пришло к ней как Божий дар и давалось ей очень легко. К тому же она была образованная девушка, в прошлой своей жизни окончившая Смольный институт благородных девиц.
Когда закрылась больница, матушка осталась без работы, но ей по возрасту и большому стажу дали скромную пенсию. Теперь она больше находилась в своей келье, куда приходили жители окрестных селений и даже приезжали из Армении и Азербайджана, прослышав про монахиню-якими, то есть искусную лекарку, при храме Нино-Цминдо. За ее праведную жизнь Господь послал ей благословение исцелять и взрослых, и младенцев. Молитвой, святой водой, маслом из лампады от святой Нины, целебными горными травами и хорошим мудрым советом матушка Варвара исцелила многих людей, в том числе и свою бывшую горничную Ксюшу, приехавшую из Баку, чтобы получить исцеление от праведницы. Когда в старой монахине она узнала свою барышню, то с плачем кинулась ей в ноги и рассказала матушке, что вся семья ее тогда была расстреляна чекистами. Они вместе поплакали, вспоминая давно ушедшее прошлое. Князь Волков остался жив и приезжал даже в Баку из Франции, разыскивая свою Вареньку, но Ксюша ничего не могла ему сказать, кроме того, что Варенька бежала из Баку. Погоревав, он, сам уже старенький, уехал к себе куда-то в Нормандию.
В восьмидесятых годах матушка Варвара еще была жива и через паломников передавала мне поклон, но, как мне писали из Грузии, в девяностом году смиренно и тихо предала свою душу Богу. На смертном одре матушка была в памяти, все крестилась и шептала: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». Потом вздохнула три раза и уснула вечным сном до радостного утра Воскресения. Она была ровесница века.
Отпевал ее архиепископ Бодбийский Афанасий. После, громадный, в черном облачении, с древней грузинской панагией на груди, он стоял перед раскрытой могилой, веером держа в руке старинные фотографии. Эти фотографии Варенька захватила с собой из Баку. Вся крышка гроба была уже устлана ими, и из могилы смотрели светлые глаза ребенка, и светящиеся счастьем глаза красавицы невесты рядом с гусарским ротмистром князем Волковым, и жандармский полковник Дроздов с женой и детьми, братом и сестрой Вареньки. Владыка бросил в могилу последнюю фотокарточку и повелел зарывать.
Таков грузинский обычай. Жизнь – кончена. Может быть, она могла быть другой, но история сослагательного наклонения не знает. Видно, так было угодно Господу Богу.
Аминь.
Человек на войне
Михаила Ивановича Богданова призвали в действующую армию только в начале 1943 года. Его не забирали раньше, потому что, во-первых, он не подходил по возрасту: ему было под пятьдесят, во-вторых, он служил в пожарной команде, а пожарники в блокадном Ленинграде были ой как необходимы, и, в-третьих, у него была многодетная семья – восемь детей мал мала меньше.
Но все же и его взяли, потому что к 1943 году немцы порядочно обескровили нашу армию, и уже убитым, раненым и плененным счет шел на миллионы. Поэтому и стали брать стариков. В основном-то они и вернулись с войны, в то время как цвет нации – молодежь – полегла в землю или томилась в немецком плену. Еще в предвоенные времена все пожарники обязаны были пройти медицинские курсы по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. Михаил Иванович когда-то эти курсы прошел и, отправляясь на сборный пункт военкомата, захватил с собой это свидетельство о медицинской подготовке.
Он был глубоко верующим православным человеком. И вера эта была не просто приложением к жизненному укладу, это был воистину православный образ жизни. Вся его многочисленная семья, состоящая из простых немудреных людей, от мала до велика, вся она жила в ритме недельного и годичного церковного круга. Утренние и вечерние молитвы справляли всей семьей, мясоеды сменялись постами, тихо и благоговейно отмечали все церковные праздники и события.
И когда в военкомате отцы-командиры, посмотрев его медицинский документ, зачислили Михаила Ивановича в санинструкторы, то он был вне себя от радости, что ему не придется убивать, а потому он не нарушит Божию заповедь – НЕ УБИЙ. Но война есть война, и ему волей-неволей пришлось убивать, чтобы самому не быть убитым.
Хотя Михаил Иванович уже успел побывать на двух войнах, Первой мировой и Гражданской, но его все равно заставили пройти курс молодого бойца. В том году призывались молодые ребята 1925 года рождения – поколение, впоследствии почти полностью погибшее в огне войны, и старый солдат не столько сам учился, сколько учил эту молодежь выживать на войне.
В начале лета Михаил Иванович со своей дивизией оказался на Орловско-Курском направлении. Был он сметливым и расторопным русским человеком, и поэтому перед каждым боем старший врач полка вызывал его к себе и вместе с ним прикидывал санитарные и безвозвратные потери живой силы, то есть тех, которые еще пили, ели, писали домой письма, смеялись, курили, читали Зощенко или «Как закалялась сталь». Кто-то из них завтра, расчлененный взрывом, превратится в разбросанные грязные куски мяса, которые будет собирать в пятнистую плащ-палатку похоронная команда, кому-то оторвет ногу, кому-то голову, кого-то хрипящего, с кровавой дырой в боку, понесут на носилках. И все это на казенном языке называется «санитарные потери».
Вот для этих самых санитарных потерь, которые сегодня еще были веселы, живы и здоровы, старший врач полка планировал с Михаилом Ивановичем, сколько надо заготовить перевязочного материала, сколько развернуть хирургических палаток полкового медицинского пункта, сколько понадобится транспорта для эвакуации раненых, а также какие требуется дать инструкции похоронной команде.
Сражение летом 1943 года на Орловско-Курской дуге было сущим адом. Земля буквально кипела и вздымалась от разрывов снарядов и мин и бурно перепахивалась гусеницами тысяч сшибающихся русских и немецких танков. И среди этой скрежещущей и взрывающейся стали в лавине огня металась слабая человеческая плоть, такая уязвимая, страстно желающая жить, но в этом дьявольском огненном котле преданная только смерти. Даже солнце скрылось в эти дни в тучах пыли и дыма, словно и оно не в силах было взирать на эту чудовищную бойню, которую устроили на Богом созданной земле люди.
И так изо дня в день, то ведя бои, то маршируя в походном строю по грязным болотистым дорогам, оставляя лежать в земле погибших товарищей, дивизия, в которой служил Михаил Иванович, пройдя с боями Белоруссию, вошла в пределы Польши. И в Польше также продолжались ожесточенные бои со стойкими солдатами вермахта, которые все еще были твердо верны присяге, генералам и своему «великому фюреру». Это была одна из лучших армий мира, но все же сила силу ломит, и немецкая армия, бешено сопротивляясь, медленно откатывалась на запад.
А Михаил Иванович, уже с широкой лычкой на погонах, в звании старшего сержанта, все по-прежнему вызволял раненых с поля боя.
В один из тяжелейших дней жесточайших боев с противостоящей отборной дивизией СС «Галичина» наша контратака захлебнулась и наступило затишье. Над полем кружило воронье, крадучись, обшаривали трупы несколько мародеров, то здесь, то там кричали раненые, по полю, пригибаясь, побежали санитары. Михаил Иванович где по-пластунски, где перебежкой передвигался по полю боя. Миновав обширную воронку, он приметил ее для гнезда, куда можно будет стаскивать раненых. Он подползал то к одному, то к другому лежащему телу и быстро определял, кто жив, а кто мертв. Наскоро остановив кровотечение и перевязав, он вместе с оружием стаскивал раненых в воронку. Сделав десять ходок, он заполнил ее ранеными бойцами. Отдышавшись, весь в испарине, он открыл свою фельдшерскую сумку и, достав всякую медицинскую снасть, начал кого подбинтовывать, кому поправил жгут, кому, прямо через одежду, сделал укол обезболивающего.
– Эй, дядя, смотри, эсэсовцы идут! – хрипло прокричал один из раненых.
– Кто может стрелять, ко мне, – скомандовал Михаил Иванович.
Таковых нашлось только двое. Михаил Иванович подтянул к себе автомат Судаева, положил рядом два полных рожка и несколько лимонок, которые собрал у раненых, и приготовился. Группа эсэсовских автоматчиков, пригнувшись, быстро приближалась к воронке.
«Ох, грех, грех! Сейчас учиню смертоубийство, – лихорадочно думал он. – Вот ведь держался доселе, а теперь надо их отогнать, надо спасать своих». Сколько раз он видел расстрелянных в гнезде раненых вместе с санитаром. «Господи, прости меня, окаянного», – прошептал он, прилаживая к плечу приклад автомата. Эсэсовцы уже успели подойти довольно близко. И он полоснул по ним длинной очередью. Некоторые упали, сраженные, остальные залегли. Началась перестрелка. Михаил Иванович, собрав все силы, метнул в сторону врага две лимонки. После взрывов немцы ответили тоже гранатой, которая точно упала в воронку. Граната была удобная для броска, с длинной деревянной рукояткой, она зловеще шипела. Санитар быстро швырнул ее назад. Граната, не долетев, взорвалась в воздухе.
– Выручайте, выручайте, братцы! – тоненько кричал один из раненых.
– Сейчас вызволят, – успокаивал их Михаил Иванович.
– Гля, братцы, уже отползают, вот уже побежали назад!
– Вот и наш взвод на помощь бежит!
Когда была возможность, Михаил Иванович уходил помолиться в небольшую рощицу. Он ставил на пенек медный складень деисусного чина и горячо, со слезами, молился – и за живых, и за убиенных, и за наших, и за немцев.
Как-то раз, направляясь в рощицу, в канаве у проселочной дороги он заприметил лежащий труп немецкого солдата. Это был совсем еще молодой паренек. Он лежал навзничь, широко раскинув руки, стальная каска свалилась с его головы, и легкий ветерок шевелил его белокурые волосы. Лицо солдата, уже чуть тронутое тлением, было искажено предсмертным страданием, по губам и глазам ползали крупные зеленоватые мухи. Сапоги с него были сняты, карманы вывернуты.
Михаил Иванович сходил за лопатой и стал копать рядом могилу. Свалив труп в яму и бросив на него каску и винтовку, он засыпал тело, аккуратно подровнял могильный холмик, прочитал над ним краткую заупокойную литию и пошел прочь.
Через полчаса, когда он на пеньке выпрямлял проволочные шины, необходимые для раненных в конечности, его вызвали к батальонному комиссару.
– Богданов, мне доложили, что ты похоронил фрица.
– Да, товарищ комиссар, было дело.
– А твое ли это занятие? И зачем ты его закопал, из санитарных соображений или из жалости?
– Из жалости.
– Так, значит, ты пожалел врага?
– Значит, пожалел.
– Так ведь это враг! Пусть его вороны расклюют и волки растащат, а ты пожалел.
– Это уже не враг, это убиенный человек, и его надо погрести, предать земле, ведь он тоже Божие создание.
– Ты что, верующий?
– Да, верующий!
– Так ведь Бога нет!
– Товарищ комиссар, что нам об этом говорить. Смерть витает над нами. Сейчас мы живы, а завтра нас тоже, может быть, уже закопают.
– Ну, ладно, Богданов, чтоб это было в последний раз. Солдат должен всегда ненавидеть врага – и живого, и мертвого. Ты понял?!
– Так точно, понял.
– Но все же ты должен понести наказание. За спасение от врага десяти раненых бойцов ты был представлен к ордену Славы, но за твой недостойный поступок придется представление к ордену отменить. Можешь идти.
Михаил Иванович шел, грустно размышляя: «Бог с ним, с этим орденом, зато доброе дело сделал, убитого похоронил».
Около санитарной палатки рядком на бревне сидели и курили легкораненые. Перед ними с винтовкой за спиной стоял незнакомый мордастый солдат и о чем-то оживленно с ними разговаривал.
Михаил Иванович подошел и прислушался. Разговор шел о вере.
– Так вот она, – говорил мордастый, – Богородица, была простая баба. Ну, родила она Христа, выполнила свое предназначение и шабаш! А вот православные ее в Царицы Небесные зачислили.
От этих слов и поношения Владычицы у Михаила Ивановича все закипело в груди.
– Постой, постой, что ты мелешь, дурак ты этакий?! Ты что – баптист? – наскочил он на нечестивца.
– Ну чо ты, чо, иди своей дорогой. Ну, хотя бы и баптист, а что такое?
– А вот что такое!
Старый пожарник, размахнувшись, так вломил обидчику Богородицы, что тот, громыхая винтовкой, покатился по земле.
– Ну что ты пристал, что пристал-то? – вытирая красные сопли, заскулил баптист.
Михаил Иванович поднес к его носу кулак величиной с небольшую дыньку и прокричал:
– Ах ты, гнида, убирайся отсюда, если я тебя еще раз здесь увижу, то все кости переломаю! А вы, ребята, сидите, уши развесили и врага Христова слушаете. Нехорошо, нехорошо.
– Да мы, дядя Миша, так ведь, от скуки.
В Польше, в районе реки Вислы, продолжались тяжелые, изнурительные бои. Михаил Иванович до того замотался, что спасался только тем, что, когда было немного времени, садился где-нибудь в сторонке и творил Иисусову молитву. Если бы не эта молитва, то он, доведенный до предела ежедневным зрелищем страдающей человеческой плоти, изуродованной и умирающей юности, наверное, тронулся бы умом. Хотя и теперь его часто мучила бессонница, да и во сне посещали видения и странные мерцающие зыбкие образы.
Сам он уже не выносил раненых с поля боя. Ему присвоили звание младшего лейтенанта, и он теперь уже сам был старшой, имея под своей командой взвод санитаров. Его делом была теперь сортировка и эвакуация раненых. Целый день, обходя шеренги лежащих на носилках бойцов, стараясь не смотреть в умоляющие о помощи глаза, он занимался сложным делом: оценкой их состояния. В сумке у него имелся целый набор цветных карточек, которые он прикреплял к повязкам: красные – срочная хирургическая помощь, желтые – во вторую очередь, синие – в третью.
Его полк, неоднократно почти полностью терявший весь свой личный состав, постоянно пополнялся. Бывало и так, что от полка оставалось полковое знамя, командир полка и фельдшер Богданов. Видно, по его молитвам Господь и Ангел Хранитель берегли его, так что он даже ни разу не был ранен. За тяжкий труд на поле боя, за спасение около сотни раненых он получил два ордена Славы, Красную Звезду, орден Отечественной войны и медали. Начальство благоволило к нему и даже разрешило носить бороду. Как-то, предельно утомленный, он заснул в палатке, на носилках с пятнами заскорузлой крови. И вот во сне видит, как из урочища Волчий ляс, вблизи немецких позиций, выходит ветхий старец – схимник с посохом, с куколем на голове. Он тихо ступает по минному полю и, встав около пенька, говорит Михаилу Ивановичу:
– Рабе Божий Михайло прииди завтра сюда на сретение со мной, и я поведаю тебе, как спасти свою душу и сохранить жизнь.
Михаил Иванович как бы ему отвечает:
– Честный старче, как же я приду на сретение с тобой, если там, в урочище Волчий ляс, минное поле?
– Приходи, сынок, не бойся. Эти мины не про нас поставлены.
– А кто ты, старче?!
– Когда придешь, скажу.
– А вот я тебя сейчас ожгу крестным знамением и посмотрю: от Бога ты пришел или от лукавого! – Михаил Иванович во сне три раза крестит старика, но тот не исчезает. – Значит, от Бога ты пришел. Ну и я тогда завтра приду в урочище Волчий ляс.
На следующий день в боях случилось затишье, и Михаил Иванович отправился в урочище. Вот здесь начинается минное поле, а вот, вдали, и полянка с пеньком, которую он видел во сне. Жутко было ему идти через минное поле. Мины в основном были противопехотные, но, вспомнив слова старца, что эти мины не про нас поставлены, он три раза перекрестился и, откинув всякое сомнение, тихой стопой двинулся к пеньку. Ему не раз приходилось вытаскивать раненых с заминированных полей, и у него уже выработалось тонкое чутье, куда безопаснее ступить, открывалось как бы второе зрение, и он по каким-то ему одному ведомым признакам различал, где земля была тронута, а где нет.
«Вот искушение! – думал он. – И куда же я прусь? Или ноги мне оторвет, или в плен попаду. Неужели я совсем спятил? А ну как старик не придет? Может, было мне просто сонное наваждение? Нет же, раз старец сказал, значит, я должен выполнить послушание».
Он перестал сомневаться и стал громко творить Иисусову молитву. Так незаметно и благополучно подошел он к пеньку и сел. Ожидать пришлось недолго. Из леса появился монах. Он был точно такой, какой являлся ему во сне. Лица почти не было видно, его скрывал низко опущенный куколь, облачение схимника, в крестах и надписях, волочилось краями по земле. Монах приближался, словно бы скользя по земле и не перебирая ногами. Без всякого вреда для себя он пересек минное поле. Приблизившись, он осенил Михаила Ивановича крестным знамением и благословил его, после чего заговорил тихим гласом:
– Я пригласил тебя сюда, на это опасное поле смерти, чтобы нашему сретению никто не помешал. Я знаю, что силы твои на исходе, что ты смертельно устал от войны, что тебе, православному, во сто крат тяжелее здесь быть, чем безбожникам. Я также знаю, что ты задумал недоброе, чтобы выйти из войны. Эти помыслы у тебя возникли от отчаяния и усталости. Не делай этого! Если сделаешь, то погибнешь сам и рассеется и погибнет твоя семья. Крепко молись и терпи, войне скоро конец. И ты невредимым вернешься домой и еще долгие годы будешь жить на белом свете, хваля Господа, а перед смертью Бог для испытания веры, как Иову праведному, пошлет тебе тяжелую болезнь. Благословение Божие да почиет на тебе.
– Скажи, кто ты?!
– Я – игумен Сергий.
– Живой или дух?
– Как видишь, живой.
И монах скрылся в лесу. Михаил Иванович в оцепенении сидел на пеньке. Двое саперов с миноискателями на плече проходили по краю минного поля. Один вдруг остановился.
– Слушай, Кузьма, кто-то из наших сидит на пеньке как раз посередке минного поля. Ну-ка, дай биноклю. Так и есть. Это же наш полковой фельдшер. Але! Иваныч, ты, что ли, там?! Эй, слышь меня? Мать-перемать! Куда ты вперся, старый мерин! Здесь минное поле! Как ты прошел, старый бес? Ангелы тебя, что ли, перенесли?! Сиди себе. Не вставай, не вставай! Не вертухайся. Сейчас вызволим. Мы сейчас к тебе проход сделаем… Ну, здорово, старина! С тебя банка спирта, а то опять тебя заминируем… ха-ха-ха! Пойдем отселева. Ступай за мной шаг в шаг.
Старик улыбнулся в усы:
– Ладно уж, будет вам спиртяга. – Посмотрев искоса, с лукавинкой на своих спасителей, он заголосил: – Ой, братцы, как же это меня не разорвало?! Какое-то помрачение нашло. Красивая полянка. Увидел, сердце зашлось. Даже не подумал, что здесь минная заградзона. Поперся. Но Бог сохранил.
– Бог-то Бог, да и сам будь не плох. А сохранил тебя потому, что ты знаешь, как передвигаться по минному полю. Ну, пойдем отселева. Ступай за мной шаг в шаг. Пошли.
Слушая рассказы Михаила Ивановича о войне, я всегда становился в тупик, когда дело доходило до встречи со старцем на минном поле. Я его спрашивал: «Да было ли это въяве, или, может, это призрак какой?» Он отвечал, что в это время дошел до крайности в своем психическом и физическом состоянии. И ему уже было безразлично, погибнет он на минном поле или нет. Даже казалось, что было бы лучше ему погибнуть. Он так устал от войны, крови, смерти, что даже завидовал мертвым, которые уже отдыхали от грохочущего ужаса войны, а он все еще не мог отдохнуть. И еще, он не мог совершенно определенно сказать, что было вначале: встреча со старцем или сон. А минное поле манило его, притягивало, и он пошел туда как на первое свидание.
– Ну, а старец был?
– Старец-то был.
– Настоящий или призрак?
– Старец настоящий. После я узнал, что в урочище был православный скит. В Польше тоже есть русские православные люди, но я до сих пор думаю, что ко мне выходил сам преподобный Сергий Радонежский.
Я больше не стал допытываться у Михаила Ивановича, потому что сам знал, что такое война, а на войне все бывает.
Когда еще только вошли в Польшу и ярость боев нарастала, а поток раненых увеличивался, Михаил Иванович вспомнил, что в Первую мировую войну в Галиции раненых приспособились вывозить с поля боя на двуколках. Вспомнил он об этом потому, что у одного хозяина-поляка увидел такую крепкую двуколку и договорился обменять ее на лошадь. Лошадей в обозе было много, и ему за бутылку медицинского спирта дали пару лошадей. Он оставил себе пегую мосластую кобылку, которую назвал Шваброй за ее лохматую гриву и густую челку, спадающую на глаза. Она была смирная, крепкая и послушная лошадь и хорошо ходила в двуколке, но погонять ее надо было немецким криком «Й-о, о-йат!».
Дело у Михаила Ивановича пошло споро. Лазая по местам боев, он собирал раненых в гнездо, подъезжал, грузил их в двуколку и быстро увозил. Не раз немецкие снайперы охотились за ним, но Господь его хранил. Один раз они отстрелили лошади ухо. Другой раз пуля попала в медаль «За отвагу», прямо против сердца. То ли пуля была на излете, то ли Бог спас, но она только покорежила медаль, а дальше не пошла. Так и застряла в медали, вызвав на груди багровый кровоподтек. Михаил Иванович с гордостью носил эту покореженную медаль и, щелкая по ней ногтем, говорил:
– Вот вам доказательство, что Бог есть. Жив Господь! А после любил рассказывать, как с поля боя тащил солдата, которому немецкая мина небольшого калибра, выпущенная из миномета, попала в плечевой сустав и, не разорвавшись, застряла там в мышцах. Спереди торчал стабилизатор, сзади головка. Михаил Иванович вынес солдата с поля боя с оружием и положил в стороне от гнезда. Сделав ему обезболивающий укол, он прочитал молитву: «Живый в помощи Вышняго в крове Бога Небеснаго водворится…» Перекрестился три раза, перекрестил раненого, перекрестил мину и с Иисусовой молитвой благополучно удалил взрыватель. За это его представили к ордену Отечественной войны II степени.