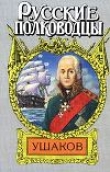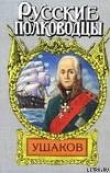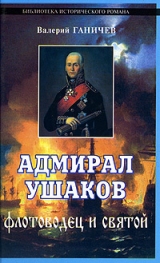
Текст книги "Адмирал Ушаков. Флотоводец и святой"
Автор книги: Валерий Ганичев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Граф Северный
В Европе с любопытством восприняли эту таинственную пару. Графа и графиню Северных принимали пышно и с почестями, долженствующими означать принадлежность к императорской фамилии. Опережающая их приезд молва оповещала – прибыл русский наследник престола и его жена. Но наследник ли? В голове Павла выстраивался закон о престолонаследии: «Дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать». Его мать, уже раз осуществившая нарушение традиции, была занята совершенно противоположными мыслями – она намеревалась полностью отстранить сына от наследования и заменить его великим князем Александром Павловичем: Павел чувствует окончательный разрыв с матерью, с Большим двором, нервничает, теряет опору, пишет в отчаянии в Смоленскую губернию своему главному советнику и вершителю предшествующей внешней политики России Никите Ивановичу Панину, который постепенно устранялся от власти. «Здесь у нас ничего нового нет… все чего-нибудь ждем, не имея ничего перед глазами. Опасаемся, не имея страха; смеемся несмешному. Так судите, как могут дела делаться, когда они зависят от людей, провождающих всю жизнь свою в таковом положении, расстраивающих все».
Он видит, что Екатерину все больше окружают наряду с льстецами, проходимцами, бездельниками люди предприимчивые, выдвинутые из глубин дворянства, из России, и приходит к чудовищному выводу: завести в империи наемные иностранные войска и флот, путем вербовки, может быть, в Польше, может быть (и ему это было больше по душе), в Пруссии, в других немецких княжествах. Хитрец Панин соглашается, но пишет: «…Для Отечества ничего не может быть счастливее, как сознание, что природный, высокий наследник престола его возрастет до настоящего возмужания, в недрах своего Отечества с прозорливейшим проницанием и неутомимой прилежностью… признает непременно государскою должностью самолично управлять и во всем надзирать над государственною обороною. Яко над единственною надежнейшею подпорою целости и безопасности оного».
Однако советы Панина уже были не нужны, союз с Пруссией и «Северный аккорд», который он выстроил, отошел в прошлое. Зародился союз с Австрией, продиктованный движением России на юг. Граф Фалькенштейн, то бишь император Иосиф II, появился в России инкогнито, встретился с Екатериной в Могилеве, побывал в Петербурге. Здесь, зная пропрусские симпатии Павла, поухаживал за ним и его второй супругой, прусской принцессой Марией Федоровной. Надо было обеспечить будущее. Явно рассчитывая на то, что это будет передано Павлу, он сказал тайному советнику Безбородко, что будущий император будет явным украшением века. «В свое время он и сделанное удержит, и недоконченное свершит». Понимая, что надо ослабить и пропрусские симпатии жены Павла, Иосиф пообещал Марии Федоровне покровительствовать ее родителям, сия дружба показалась цесаревне стоящей некоторого внимания, а симпатии к Пруссии несколько ослабели». Иосиф пригласил Павла посетить Вену и вообще заграницу. Принц загорелся желанием обратиться к своему душеприказчику Панину, как бы устроить эту поездку и встречу с любимым Фридрихом, королем прусским. Панин затеял интригу. Мария Федоровна составила план из семи пунктов, как «обработать» императрицу. Екатерина снисходительно наблюдала, оповещенная о малейших шагах Павла, дожидаясь, когда он окончательно попадет в ее сети. Павел пришел робко просить согласия и милостиво его получил. Когда разрабатывался маршрут, Пруссия конечно же была вычеркнута рукой матери. Вена – Неаполь – Париж и другие города были определены как места паломничества Павла. Цесаревич, раздосадованный запретом посетить Пруссию, воспринимал сначала свою поездку мрачно и меланхолично, да к тому же Мария Федоровна, прощаясь с сыновьями, три раза падала в обморок, чем вызвала брезгливый гнев Екатерины, не любившей этих немецких провинциальных сентиментальностей.
В Вене гремела музыка, давались концерты, балы в честь четы графа и графини Северных (так решили обозначить их в поездке), а Павел не проявлял должного любопытства к зародившемуся союзу и одному из его учредителей. Ему чудились косые взгляды, насмешки, издевка. Он даже вздрогнул, когда в одном месте в честь их пребывания запланировали сыграть «Гамлета». «Это что, намек?!» – чуть не вскричал он и потребовал отменить спектакль.
Однако почести были столь пышны, а церемонии блестящи, что он впервые стал ощущать преимущества своего сана, в котором ему отказывали в России. Он оттаивает, начинает интересоваться многим из того, что ему показывают. Именно тогда Иосиф II пишет своему брату герцогу Тосканскому:
«Великий князь и великая княгиня соединяют с насовсем необыкновенным талантом и с довольно обширными знаниями желание обозревать и поучаться и в то же время иметь успех и нравиться всей Европе… Ничем нельзя более обязать их, как доставляя им возможность осматривать все без подготовки и без прикрас, говорить с ними откровенно и без прикрас… хорошая музыка и хороший спектакль, в особенности если они непродолжительны и не затягиваются до позднего вечера, доставляют им, кажется, удовольствие. Военное и морское дело, конечно, составляют один из любимых предметов их занятий точно так же, как и торговля, промышленность, мануфактуры».
Да, Павел хотел понравиться Европе, он хотел показать себя достойным преемником великого своего деда Петра I. Позднее в Брюсселе он даже рассказывал историю о ночной встрече с тем. Там после ужина в покоях, когда избранные гости вспоминали о своих предчувствиях, снах, предзнаменованиях, в ответ на вопрос принца Де-Линя, связавшего впоследствии свою судьбу во многом с Россией: «Разве ему нечего рассказывать, или в России нет ничего чудесного?» – Павел покачал головой и, попросив сохранить это «в дипломатической тайне», рассказал о том, как однажды в лунную ночь, прогуливаясь с князем Куракиным по Петербургу, он заметил высокого и худого человека, завернутого в плащ вроде испанского и в военной надвинутой на глаза шляпе. «Он, казалось, кого-то поджидал и подошел ко мне с левой стороны, не говоря ни слова», – заинтриговал всех Павел. «Невозможно было разглядеть черты его лица, только по тротуару издавался странный звук, как будто камень ударялся о камень. Я сначала изумлен был этой встречей, затем мне показалось, что я ощущаю охлаждение в левом боку. Куракин же ничего не видел. Я дрожал не от страха – от холода. Какое-то странное чувство охватывало меня и проникало в сердце. Кровь застывала в жилах. Вдруг грустный голос раздался из-под плаща, закрывавшего рот моего спутника:
«Павел!.. Бедный Павел, кто я? Я тот, кто принимает в тебе участие. Чего я желаю? Я желаю, чтобы ты не особенно привязывался к этому миру, потому что ты не останешься в нем долго. Живи как следует, если желаешь умереть спокойно, и не презирай укоров совести: это величайшая мука для великой души».
Больше часу ходили они в молчании, поведал цесаревич собеседникам, наконец, ночные путники подошли к большой площади между мостом через Неву и зданием Сената. Незнакомец остановился и сказал наследнику:
– Павел, прощай, ты меня снова увидишь здесь и еще в другом месте, – затем приподнял шляпу, за которой он увидел орлиный взор, смуглый лоб и строгую улыбку прадеда – Петра Великого.
– Раньше чем я пришел в себя от удивления и страха, он уже исчез.
Собеседники изумились, когда цесаревич сказал, что на этом самом месте императрица приказала соорудить памятник, который изображает Петра на коне, и он скоро сделается удивлением всей Европы.
– Не я указал моей матери, что это место предугадано заранее призраком, – тихо закончил тогда Павел.
Да, такой рассказ должен был свидетельствовать отнюдь не о помутившемся разумом цесаревиче (подобные слухи периодически подбрасывались), а о его предопределении следовать стопами Великого Петра. Он ехал так же инкогнито, как и в конце предыдущего века император России, он ехал так же познать Европу, как тот – ощутить пульс науки и искусства, овладеть ими, как великий император. Но была и великая разница: Петр все пробовал сам, решал сам, махал топором, лазил на палубы и мачты, спускался в трюмы, чертил чертежи, опробовал, учился, применял у себя в России.
Павел же только созерцал и раздражался, что он не император. Хотя созерцать он пытался то, что пригодилось бы для будущего царствования. После Вены он побывал в Триесте, Венеции, Болонье, Риме. В Неаполе он встретился с горделивыми и чванливыми королями обеих Сицилии Марией-Каролиной и Фердинандом. Во Флоренции он в раздражении осудил завоевательскую политику матери и ее фаворитов, обещал разжаловать их в будущем и далее проехал через Ливорно, Парму, Милан, Турин во Францию. В Париже в его честь следовали приемы, празднества, балы. Версаль, Трианон, Шантильи горделиво распахнули двери. Его угостили даже смотром французских войск на Марсовом поле. Ни он, ни Мария-Антуанетта, ни Людовик XVI, ни королевский двор не знали, что всего через несколько лет королевская власть рухнет, рассыплется в прах Французская империя, а оставшиеся в живых французские аристократы побирушками придут ко двору русского императора просить помощи от разбушевавшейся революции и будут натравливать его на Францию. Но тогда в Европе звучала музыка, ярко вспыхивали свечи, сверкали бриллианты, королевские дворы встречали графа и графиню Северных.
На рейде в Ливорно встали в полукруг все корабли русской эскадры контр-адмирала Якова Сухотина. То ли по неизведанной случайности, то ли до причине старых сложившихся связей, то ли из-за особой отзывчивости ливорнцев и их правителей русские корабли и целые эскадры в XVIII веке заходили сюда довольно часто. Заходили, вставали на долговременную стоянку, килевались здесь и ремонтировались, получали мясо и вино, хлеб и крупу. В городе к русским морякам относились доброжелательно и гостеприимно. Нередко можно было встретить на приеме в ратуше, у богатого негоцианта, или в замке местного аристократа офицера или даже самого командующего эскадрой. А на городском карнавале, в прибрежной винарне танцевали, прижимая к себе веселых девушек, немного сдержанные, но добродушные и улыбчивые матросы. Лишь в церкви католической они не бывали, по греческому обряду молились на своих кораблях, у своих священников.
В апрельский, божественный, по утверждению ливорнцев, день, ибо именно в такой весенний день и мог только воскреснуть Христос, с эскадры никто не был отпущен на берег: ждали графа и графиню Северных. Ждали и хотели блеснуть мастерством постановки парусов, хождения в море, умения стрелять точно в цель, для чего вывезли и поставили на якорь ветхое судно греческого торговца, пообещав заплатить за рухлядь, доставить его грузы на фрегате. Ждали. Наблюдали в подзорные трубы за приморской дорогой. Как всегда в таких случаях, карета показалась неожиданно. Яков Филиппович Сухотин запутался в разноцветных коврах, выбегая из подготовленного к торжественному проезду к кораблям барказа, но четко доложил: «Эскадра ждет…» Граф Северный небрежно махнул рукой и проследовал сквозь кучу зевак, прослышавших о приезде какого-то знатного русского. Барказ приблизился к эскадре. А там, переливаясь от корабля к кораблю, гремело: «Ур-р-ра!» Трепетали флаги расцвечивания, на вантах расположились моряки. Вдоль бортов палубы с ружьями выстроились солдаты. Грянули пушки. Залп. Один, пять, десять, пятнадцать, двадцать. Всему городу стало ясно – особа знатная необычайно. Граф прошел по палубе вдоль строя, подал два пальца офицерам и, обернувшись к Сухотину, тихо сказал:
– Прикажите не кричать!
– Что? – не понял тот.
– Вопли пусть закончат, – зло сказал граф. Сухотин отдал команду, побежал дежурный офицер,
крик стал стихать, и лишь где-то там, на верху грот-мачты, добросовестно исполнял отданный раньше приказ одинокий моряк, не слыша, вероятно, ни себя, ни новой команды.
– Забавно, не правда ли, сударыня? – обратился к молчавшей доселе спутнице граф.
– Ах, Павел, может, мы сегодня на палубе этих бравых моряков откажемся от маскарада? – отвечала она совсем не о том.
– Верно, – решительно выдохнул цесаревич. – Щи у вас найдутся? Да не зовите нас больше сими кличками, вспомните, что я ваш генерал-адмирал, расскажите, как сюда дошли. Садимся здесь, – указал он на столы и кресла, установленные на шканцах.
Сухотин честно доложил, что эскадра 28 мая прошлого года снялась с Кронштадтского рейда и, сделав заход в Гельсинор, нигде больше не останавливалась, прошла в Ливорно, куда прибыла 15 августа.
– Стало быть, обошли всю Европу?
– Да, господин граф, простите, ваше императорское высочество. Сие есть пока высшее достижение для наших кораблей.
– Не думаю, – не согласился Павел. – Но, однако, что вы делаете ныне в Средиземноморье?
– Оберегаем корабли наши купеческие и иноземные от пиратских нападений.
– Сия политика – пыжиться до уровня всей вселенной – дорого обходится державе, – повернул голову к беззаботно внимавшей ему Марии Федоровне. Та согласно и быстро закивала. Павел же обратился к капитанам кораблей, что были уже ему представлены у трапа.
– Вот вы, – обратился он к напряженно сидевшему Ушакову, – почему на императорской яхте не захотели служить? Я ведь вас там видел?
– Море люблю, ваше императорское высочество, – добродушно ответил, улыбнувшись, Ушаков.
Павел улыбку принял, сам улыбнулся и нестрого спросил:
– Где же вы бывали? В каких походах и экспедициях?
– Здесь, в Ливорно, уже раньше с эскадрой Козлянинова. В Черном воевал с турками, в Белое море ходил, из Архангельска на фрегате возвращался, командовал «новоизобретенными» кораблями Донской флотилии.
– Изрядно вас бросало, однако. Ну и какова плата? Ушаков обернулся к Сухотину, тот объяснил сам.
– Тысячу рублей единовременно и по сто пятьдесят рублей столовых ежемесячно.
Павел и Мария Федоровна переглянулись.
– Богато живет флот! Расходы чрезмерные.
– Нет, ваше императорское высочество, – не согласился Сухотин, – не богато, а тяжело. Восемьсот человек в госпиталях, двадцать восемь умерло, и просим вас исходатайствовать нам помощь, а их семьям вспомоществование.
Павел задумался. Он не знал, главное или второстепенное флот, хотя и был приписан к нему. По совету Панина он хотел обо всем подумать самостоятельно. Тот советовал ему заниматься и изучать лишь то, на что должно обращать внимание, «не отвлекаться в сторону, к предметам, не имеющим отношения к плану. Не тревожиться тем, что недостойно возбуждать беспокойство». «Побольше бодрости, со временем все дается, и терпение и прилежание», – напутствовал Панин. Да где он? А вести разговор с подданными он решил не лицемеря. Еще в Риге он обрушился на беспорядки в военном ведомстве, резко заметил: «Если бы мне надо было образовать себе политическую партию, я бы мог умолчать о подобных беспорядках, чтобы пощадить известных лиц. Но будучи тем, что я есмь, для меня не существует ни партий, ни интересов, кроме интересов государства… Я желаю лучше быть ненавидимым за правое дело, чем любимым за неправое». Вот и этим морякам сказать надо, что не все у них в порядке, не все отлажено. Стал делать замечания, они согласились, ибо где же корабль без недостатков. Стал расспрашивать про тактику морского боя, они здесь отвечали бойчее и четче. Обратился к Сухотину:
– Если перед вами вражеская эскадра, как вы выстраиваетесь?
– В кильватерную линию.
– А если я захочу по-другому?
– Это невозможно.
– Объясните.
– Сие заведено уставом.
– Ну а если изменить устав?
– Невозможно. Но вы ведь…
Ушаков, который чувствовал почему-то неизъяснимое волнение, сделал шаг вперед и решительно перебил Сухотина:
– Думаю, что сие возможно, ваше императорское высочество! На это надо просто решиться.
– Ну и решайтесь, капитан, думаю, с вашей решительностью вам никто этого не запретит.
Павел хлопнул в ладоши, снял шляпу и протянул ее камердинеру.
– Все, хватит. Голова кружится, а цесаревне худо. Давайте обедать. Стрельбы отменим.
На шканцы стали выдвигать столы, кресла, подавать блюдо за блюдом. Капитан и свита отступили в сторону, освобождая место для трапезы. Ушаков оперся о поручни и задумчиво глядел в бирюзовую зыбь генуэзского моря. Скоро им предстояло снова устремиться вдаль, в опасный и бурный поход, что приведет домой, на родную землю, в Кронштадт, Петербург, а может, и в Рыбинск и Бурна-ково, в отцовский дом, на Волгу.
Ложа Нептуна
Друг и соученик Ушакова флота капитан Пустошкин пригласил его к себе домой на холостяцкую квартиру:
«Попьем доброго вина, да я тебе об одном важном деле поведаю». Кронштадтский ветер порывисто стучался в окна, в камине потрескивали сосновые чурки, на столе стояло несколько бутылок французского вина да хорошие заедки. Говорили о разном: о порядках на флоте, о последних дальноморских переходах, о политических событиях в разных странах, о надвигающихся грозах в Черноморье. Но, похоже, Пустошкин не спешил поведать о своем важном деле. Вел он себя как-то возбужденно, пил чарку за чаркой, часто подходил к камину, шевелил угли и, присев на корточки, подолгу смотрел в огонь, словно бы высматривая в нем что-то потаенное. После очередного удара ветра в окно решительно встал, подошел к Федору Федоровичу и посмотрел ему в глаза испытующе. Ушаков молчал, а Пустошкин, словно продолжая прерванный разговор, сказал:
– А ты, Федор, зря их сторонишься, там много достойных людей. Достойных и почтенных, не то что…
– Не то что я, хочешь мне сказать, Павел, – слегка подался вперед Ушаков.
Пустошкин досадливо дернулся.
– Да нет. Не то что твои бомбардары да мичмана, с которыми ты непрестанно возишься. Ведь в жизни одними пушками да парусами не обойдешься. Об истинном ее смысле следует попечься.
Ушаков откинулся назад, положил руку на спинку кресла и раздумчиво согласился:
– Сие верно. Да я и думаю на сей счет немало. Молюсь. Исповедуюсь. А что касаемо мичманов да прочих морских служителей, так то все для дела корабельного, для слаженности всеобщей. Сие для Отечества и флота выгодно. Научишь их образцово исполнять – то они долг державный исполнят достойно.
– Думаешь, то наше дело, о котором ты наверняка слыхал, для государства не полезно? Еще как полезно! Вот послушай, что в одном из наставлений сих почтенных людей пишется.
Пустошкин встал, подошел к конторке у своего письменного стола, щелкнул ключиком и вытащил длинную разноцветную бумагу. Что-то поискал в ней глазами, удовлетворенно кивнул и, положив перед Федором, зачитал вслух, ведя пальцем по строчкам:
– «Высочайшее существо вверено положительнейшим образом власть свою на земле Государю, что и лобызай законную власть над уделом земли, где ты обитаешь: твоя первая клятва принадлежит Богу, вторая – Отечеству и государству. Человек, скитающийся без просвещения и убегающий общества, был бы менее способен к исполнению намерений Провидения и к достижению всего блага, ему предоставленного. – Пустошкин возбужденно взмахнул руками и снова ткнул пальцем в текст:
– Существо его расширяется посреди ему подобных, разум его укрепляется с течением различных мнений. Но по единому соединению произвел бы беспрерывный бой о личной пользе и насыщении развратных страстей и вскоре бы невинность пала перед силою или коварством. И так нужны были для поступков его законы, а для сохранения оных начальники!»
Ушаков постукивал пальцами по спинке кресла, выдавая некоторое волнение. С иронией бросил:
– Да начальников-то надо мной и так хватает. Пустошкин еще раз замахал на него руками:
– Ты опять не о том…
Затем подбежал к столу, налил бокал вина, залпом выпил его и, склонившись, зашептал:
– Федор, ты не представляешь, какая мы сила. – И оглянувшись, зашептал еще тише: – Вице-адмирал Барш, Самойло Карлович Грейг, наш славный предводитель при Чесме, при самом Чернышеве состоящий, флота капитан первого ранга Алексей Григорьевич Спиридов. А обер-цолнер при Кронштадтской таможне, тоже птица немалая. Да уж, если говорить по-дружески, без сокрытия, то сам граф Иван Григорьевич Чернышев во франк-масонский орден входит!
Ушаков не посмеивался. Он и виду не подал, что почувствовал прикосновение к важной тайне. Важной, конечно, хотя Петербург и особенно Кронштадт были переполнены слухами о таинственных масонах. Говорили, что их возглавляет Самуил Грейг, умело вовлекая в свои ряды многих флотских офицеров. Встретился он как-то с одним бывшим учителем из Морского шляхетного корпуса, тот ему намекнул, что их корпус стал гнездом масонов, воспитатели не о деле морском пекутся, а учеников старших вовлекают в таинственную ложу Нептуна. Об этом и спросил Пустошкина, не таясь, в открытую:
– Пошто учителей-то корпусных от дел отрываете? Им бы кадетов учить, а они в песнопения ударились, таинства проповедуют, Нептунами непонятными заделались…
Пустошкин подозрительно посмотрел на Ушакова, но не увидел, по-видимому, в нем шпионских устремлений и, успокоившись, простодушно ответил:
– Конечно же мы желаем действовать среди юношества и посему вербуем педагогов, и не только из Морского, но и из Пажеского корпуса. – Он опять перешел на шепот: – Кураторы Московского университета Мелесиано, Херасков, Голенищев-Кутузов – наши крупнейшие масоны. Ну, а что касается тех, кто в ложе сией Нептуновой большинство составляют, то это моряки, морские офицеры, тебе известные. Наш знак нептуновской ложи – якорь в треугольнике. Я – ученик, то первая ступень в нашей ложе, совершенствует сердце. Товарищ – то вторая ступень, совершенствует ум, а мастер – то высшая ступень – дух. Я, Федор, искренне верю, что надо совершенствовать сердце, ум, дух всем нам.
– Ну, а почему же все это надо в потаении делать, почему не на виду, удалясь от взора всего общества морского?
– Эх, Федор, ну неужели не видишь ты, что люди завистливы, коварны, глупы. Что их вести надо сильною и мудрою рукою.
– Но не монаршья ли это обязанность, а то более – Божий промысел?
Пустошкин вздохнул, он, наверное, и сам колебался, вступая в ложу, убеждал себя, что там должны быть все достойные и порядочные люди, которые продумали смысл жизни и свое место в ней. Потому и на Ушакова наседал, понимая, что он-то и есть самый порядочный и достойный. Не будь его в этом тайном сообществе, Павел бы чувствовал, что оно ущербно и зыбко. Поэтому он просяще и дружелюбно обратился к Федору, не отвечая на вопрос:
– Приходи к нам, не оставайся в стороне, не кажись гордецом.
Ушаков же задумался. Было что-то в этом увлекающе опасное, таинственно грозное, однако неприемлемое для него. В то же время он чувствовал, что открыто и сразу выступать против народившейся в русском военном флоте силы вряд ли стоит. Надо приглядеться, разобраться да и решить для себя, что значит сия ложа Нептуна. Пустошкин же наседал, просил подумать и под конец вечера, выпив еще один стакан вина, резко склонился к нему и горячо зашептал:
– Федор, я тебе покажу тайный красивый обряд. Мы будем посвящать в ложу. Твоя душа будет увлечена. – И, поднеся палец к губам, почти неслышно сказал: – Никому. Завтра в шесть вечера.
Когда он заехал за Ушаковым в четыре часа на следующий день, то был бледен и задумчив, кусал губы. Тихо сказал:
– Федор, я нарушаю завет ради тебя. Но ты друг мне, и я хочу поделиться тайной. Надо, чтобы ты незаметно сел в нашем зале на балконе за драпировкой. А мы будем внизу в зале посвящать в ложу Нептуна Павла Васильевича Небольсина. Еще раз прошу тебя, не обнаруживай себя.
– Может, не стоит, Паша, вон ты как волнуешься, – усмехнулся Ушаков.
– Надо, Федор. Сия клятва и видовище тебя тоже повлекут к свету…
В дом, куда подъехали, вошли с заднего входа. Поднялись по какой-то темной лестнице. Павел шагнул вперед, раздвинул тяжелый занавес и, образовав щель в зал, подвел к ней Ушакова. Шепнул:
– Садись, Федя. Привыкай очами и духом. Что бы не случилось – молчи. Я за тобой зайду потом.
Темнота постепенно в зале рассеялась, Федор стал различать чуть серые обводы больших окон, пробивающийся в дальнем углу свет, прислушивался к непонятным шорохам там, внизу. Вдруг дверь распахнулась и в нее со свечами в руках вступили люди в длинных балахонах; они столпились кругом, обступив выступившее из темноты великолепной работы золоченое кресло. Вошло еще трое, они постелили ковер, поставили рядом ромбический стол, положили на него обнаженный меч и установили на подставке большую книгу в окладе, по-видимому, Евангелие. Зашуршало вдоль стен, Федор понял, что там рассаживаются вновь пришедшие. Все затихло, и через мгновение красивые мужские голоса запели, четко, разборчиво:
О радость, о любовь, о свет,
О мудрость, кроткая, благая,
О дух, зри тройственный завет:
Престол, ковчег, святых святая,
Расторгнув мудрости покров,
Зри связь и сущность всех миров.
Под песнопение медленно и торжественно вступил в зал человек невысокого роста в лазоревом камзоле. Он сел в кресло, и за его спиной высветились: треугольники, циркуль и пятиконечная звезда. Песнопения кончились, и человек, ударив молотком, лежавшим на поручне, о стол, густым голосом обратился к теням:
– Говорю я, Великий мастер! Высокопочтенные и почтенные братья и сочлены! Шествуя в неразрывной цели вольного каменщичества по единым стезям истинного пути к Соломонову храму, мы, члены ложи Нептуна, можем с великим удовольствием отметить, что с сего времени наша ложа является не только членом Союза национальной ложи, о чем нас уведомил Великий мастер князь Гагарин, но можем считать себя членами сообщества всех европейских Вольных каменщиков! О чем нас уведомили из Европы!
Хор завершил его речь стройным пением:
Связуйся крепче, узел братства,
Мы счастливы, нам нет препятства
Для добрых и великих дел!
Мастер снова стукнул молотком.
– Введите посвящаемого! Кто поручился за него? От сцены ответили силуэтные тени:
– Брат второй ступени Степан Иванович Ахматов.
– Брат третьей ступени Николай Иванович Барш.
Дверь снова открылась, и Ушаков, с удивлением рассматривающий все это собрание, еще раз подивился: в зал зашел полуобнаженный человек с завязанными глазами. Мастер стукнул молотком и в наступившей тишине приказал вошедшему:
– Стой здесь. Правда ли, что ты решил войти в Союз избранных?
Полуобнаженный потянулся в сторону голоса:
– Да, это так.
– Скажи тогда, что знаешь о Великом мастере Адонираме.
– О, этот мастер был прислан в Иерусалим по просьбе самого Соломона Тирским царем как самый искусный в своем деле. Он знал все науки, а особенно геометрию, и опыт его помог бы построить святилище Соломона. Он и установил особые «прикосновения», «знаки и слова» для рабочих, мастеров и товарищей…
– Хорошо. Сие ты знаешь. Пройди вокруг ложи раз первый и не пади духом от испытаний.
Полураздетый мгновение поколебался, а потом шагнул влево, нащупывая ногой ковровую дорожку. Пламя свечей как бы последовало в другую сторону от его движения. Вдруг громкий треск ворвался в напряженную тишину, полураздетый упал на одно колено, схватился рукой за повязку, но не сорвал ее, а медленно поправил. Затем так же осторожно продолжил прохождение круга. Он еще раз споткнулся о какой-то предмет, брошенный ему под ноги, но устоял и через минуту остановился на прежнем месте.
– Что ж, ты прошел первый круг испытания. Скажи мне, какие свободные науки, в которых каменщик прилежать должен?
– Стихотворство, музыка, рисование, арифметика, геометрия, астрономия, архитектура, – ответил полураздетый…
– Хорошо. Скажи мне о свободе, что есть она для Вольных каменщиков.
Полураздетый нетвердо отвечал, а колеблющиеся язычки свечей выхватывали из темноты то циркуль, то отвес, то треугольник, то пятиконечные звезды, разбросанные по ковру.
– Достаточно. Ступай второй раз…
Когда полураздетый шел по своему мрачному кругу испытаний, чувствовалось, что он ожидал внезапных толчков, ударов и поэтому был напряжен, его тяжелое дыхание доносилось даже до балкона. И действительно, у него на пути оказывались то бревна, то ломающиеся доски, то крупные булыжники.
Когда он в третий раз пошел в свой путь посвящения, то на половине пути был остановлен фигурами, объявившими себя надзирателями и потребовавшими отдать часть своей крови ордену. Ушакову показалось, что полураздетый сказал какие-то слова, затем в тишине что-то забулькало, раздался звук падающего тела. Надзиратели подтащили и поставили полураздетого на прежнее место испытания. Было тихо, слышалось потрескивание свечей.
Молчание длилось долго. Мастер почему-то не задавал вопросов. Раздался бой часов, и он встрепенулся.
– Мы, будущие братья твои, говорим, что ты выдержал испытание, и ждем от тебя клятвы на мече.
Полураздетый потоптался, сделал шаг к столу, нащупал меч и сдавленным голосом начал:
– Я клянусь и обещаю перед лицом Великого Строителя Вселенной на этом мече, символе чести, хранить нерушимо все тайны, которые будут мне вверены этой Почетной ложей, а также все, что я там увижу и услышу! Никогда ничего о том не писать, не получив приказания. Я обещаю и клянусь любить своих братьев и помогать им по мере сил. Я обещаю и клянусь повиноваться общим постановлениям масонства и особым правилам ложи Нептуна. Я согласен, чтобы мне перерезали горло, если когда-либо буду повинен в предательстве и открою тайны ордена.
В зале повеяло холодом. Мастер стукнул молотком:
– Брат наш, отныне знай: общечеловеческое выше национального, всечеловечество – выше государства, а звание «гражданин мира» достойнее звания гражданина государства, и для подвига любви нет различия между эллином и иудеем.
Молоток стукнул еще раз, и полураздетого облачили в белый передник, он сам натянул перчатки.
– Сними повязку, – властно потребовал Мастер стука. – Отныне ты видишь лучше. И зрение твое должно видеть пользу для братьев в первую очередь…
Еще длились песнопения, еще горели свечи, а Ушаков уже задернул занавес и тихо вышел во двор.
Через час, не дав ничего вымолвить вбежавшему Пустошкину, взял его за руку и твердо сказал:
– Паша, дорогой друг мой, прошу тебя, не заводи никогда со мной разговор о вступлении в ряды ваши. Я для себя сегодня твердо решил: играми бойких политиков не заниматься, в дворцовых интригах не участвовать, в тайные общества не вступать, всего посвятить Богу, царю, Отечеству и морю. Не проси меня, не уговаривай. Ты меня знаешь.
Пустошкин Ушакова знал хорошо, поэтому минуту постоял с опущенной головой и пошел к выходу. У дверей обернулся; Ушаков, опережая его вопрос, кивнул:
– Не бойся, Паша. От меня никто и слова не услышит. Ты меня знаешь…
Пустошкин кивнул и вышел…