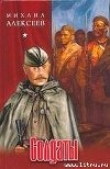Текст книги "Список войны"
Автор книги: Валерий Поволяев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Иссиня-белый, резкий луч прожектора проскользил над их головами и двинулся дальше: люди, находившиеся по обе стороны передовой, не спали.
Линию фронта удалось пересечь благополучно – сделали это в то самое время, которое можно назвать «между волком и собакой», когда совершенно ничего не видно, всё расплывается: ночь ещё не отступила, не уползла в глухие, покалеченные снарядами распадки, полные поваленных деревьев, а утро не подошло, воздух сделался слепым – в пятнадцати шагах ничего не видно.
Да и народ, бодро полосующий свинцовыми очередями пространство, к этой поре скис – солдатские головы сделались тяжёлыми, руки одеревянели, тела подмяла усталость, в общем, фронт поспокойнел. Затягивать дальше было нельзя, и Мустафа ткнул рукой в сторону неровно подбритой осколками травы:
– Шнель!
Пленный сжался в колобок, но с места не стронулся – видать, заколодило что-то в нём, воспротивилось судьбе, Мустафа и такой вариант предусмотрел: незамедлительно выдернул из своего объемного «сидора» мягкую бельевую верёвку, петлёй протянул у пленного под мышками, затем накинул на голову и соорудил ещё одну петлю. Потом, молча сопя, первым полез в бритую траву.
Деваться немцу было некуда, он покорно пополз следом, также засопел: то ли возмущение свое выразил, то ли дыхание у него заклинило. Мустафа нервно подёргал за конец верёвки:
– Шнель! Давай, не застревай, оберзитцпердаччи!
И откуда у него словечко такое звонкое выскочило – «оберзитцпердаччи», он и сам не понял. Видать, услышал где-то, слово застряло в мозгу, а теперь проявилось.
Пленный засипел протестующе, но команде подчинился, пополз проворнее.
То ли их действительно услышали, то ли это была случайность, но сбоку – оттуда, где гнездился прожекторный луч, – длинной очередью ударил пулемёт. Мустафа мигом вжался лицом в траву, в землю, ощутил резкий дымный запах, шибанувший в ноздри, – пули шли низко. Пленник ткнулся головой в его ноги и также затих, словно бы сапоги Мустафы были самым надёжным прикрытием на земле, железным или каменным.
За первой очередью прогрохотала вторая. Мустафе показалось, что под ним, в такт выстрелам, даже задёргалась земля, сердце в груди Мустафы сдвинулось с места и, рождая боль, поползло к горлу.
Когда стихла вторая очередь, Мустафа неожиданно понял: пальбы больше не будет, стреляли для острастки – подоспело время, вот пулемётчик и нажал на гашетку. Мустафа дёрнул за верёвку, подавая команду пленному:
– Шнель!
Пленный на команду не среагировал, он даже не шевельнулся, Мустафа испуганно обернулся:
– Ты чего, фриц? Тебя что, убили?
А пленный продолжал физиономией своей втискиваться в сапоги Мустафы, прижимался к земле. В сером недобром сумраке Мустафа увидел его глаз – один, второй был прикрыт стеблями травы, – глаз был живой. Мустафа это понял и вновь требовательно дёрнул за верёвку.
– Фу, и напугал же ты меня!
Немец на этот раз подчинился Мустафе, заработал локтями, коленками, пятками: пулемёт, конечно, опасно, но гораздо опаснее этот странный русский, хотя на русского он похож мало, – в общем, злить этого человека нельзя…
Они проползли метров тридцать, соскользнули в низинку, пахнущую гнилью, и Мустафа неожиданно увидел перед собой тёмную, пьяно качавшуюся фигуру в каске-большемерке. Непонятно было, немец это или наш. Хотя нашим здесь рановато, вот когда начнётся наступление, тогда и будут.
Немец. Это был немец, вылезший из окопчика охранения размять ноги и помочиться. Из наших окопов эта низинка не просматривалась, поэтому фриц так безбоязненно и решился пустить звонкую струю под какую-то кочку.
Сделав дело, немец беззаботно потянулся. Огляделся. Мустафа напрягся, приготовил нож. Стрелять было нельзя. На своё счастье немец не заметил Мустафу, ещё раз потянулся и исчез, спрыгнув в свою ячейку. Мустафа перевёл дух.Надо было двигаться дальше. Он поелозил ногами, отлипая от влажной глины, привычно дёрнул верёвку и, задерживая в себе дыхание, чтобы, не было слышно ни сипа, ни стона, ни хрипа, пополз дальше. Пленный немец, покорно поволокся следом.
Линию фронта они одолели благополучно – Мустафе повезло. Во всём повезло – немцы могли десяток раз обнаружить его и убить, но не обнаружили и не убили – это во-первых, во-вторых, пленный мог заартачиться, метнуться к своим окопам, поднять тревогу, взорвать линию фронта, превратить серый рассвет в рыжий ад, но он этого не сделал – кишка оказалась тонка у господина инженера (а в стрелковом батальоне, ещё до приезда Горшкова, с немцем малость побалакали и сообщили Мустафе, что взятый им «язык» – инженер по связи), превратился он в варёный огурец и позволил доставить себя без особых проблем в русские окопы, в-третьих, командир стрелкового батальона был ранен и, поскольку находился без сознания, то не передал своему заму, что в зоне их действия должен появиться разведчик артполка, идущий с той стороны, – в общем, Мустафу не ожидали, а раз не ожидали, то запросто могли угостить горячим свинцом и его самого, и пленника…
В общем, повезло Мустафе.
Инженер-связист, очень похожий на располневшего одесского лавочника, по фамилии Тольц, оказался ценным кадром, многое ведал и про штабы дивизий, расположенных на этом участке фронта, и про то, как они связаны друг другом, в какой подчинённости, – после допроса к Семёновскому приехали два командира из штаба армии и увезли с собою пленного. Майору же Семёновскому наказали оформить орден на человека, взявшего этого «языка».
Семёновский не выдержал и завистливо пожал руку старшему лейтенанту:
– Ну, Горшков, на этот раз ты попал точно в десятку, – начштаба панибратски подмигнул. – Как, говоришь, фамилия твоего мастака. Который так лихо сработал, а? Велено оформлять на орден, – Семёновский многозначительно приподнял указательный палец.
Про орден старший лейтенант уже слышал, назвал фамилию Мустафы. Майор записал её, записал имя, спросил про отчество.
– Отчества у него нет, – сказал Горшков. – Не знает он своего отчества.
– Детдомовский, что ли?
– Детдомовский, – подтвердил Горшков, – ни матери, ни отца не помнит, сгинули в Гражданскую.
– Ладно, без отчеств люди тоже живут и очень неплохо себя чувствуют, – произнёс Семёновский неожиданно примирительным тоном.
– Товарищ майор, разрешите поправить вас…
– Ну? – Семёновский сложил брови удивлённым домиком, приподнял их. – В чём дело?
– Вы неправильно записали имя моего разведчика. Он у нас Мустафа, вы сделали его Мастуфой. Мустафа, вот как надо.
– Один хрен, что в лоб, что по лбу, – недовольно проговорил Семёновский, раздражённо хрустнул костяшками пальцев, но всё-таки исправил «Мастуфу» на «Мустафу», недобро покосился на старшего лейтенанта: – Так тебя устраивает?
– Так устраивает, товарищ майор.
– Ладно, можешь быть свободен. Орден оформлю как только, так сразу, – назидательно произнёс Семёновский и, поймав недоумённый взгляд начальника разведки, пояснил: – Как только получу подтверждение из штаба армии о том, что твой Мустафа действительно приволок ценную птицу, так сразу вручу Красную Звезду.
– А если в штабе армии не подтвердят, тогда что, товарищ майор?
– Тогда Мастуфа твой пролетел мимо.
– Не Мастуфа, а Мустафа.
– Я же сказал – один хрен! Он же у тебя не православный… Еретик небось?
– Не знаю, я не спрашивал.
– В таком разе, он тем более пролетит. Понял, Горшков? Всё, можешь быть свободен.
Старший лейтенант на это невольно покачал головой и ушёл. Конечно, Семёновский – не единственная спица в колеснице, и на него есть управа, – можно пойти, например, к командиру полка или дальше – к начальнику разведки дивизии, либо ещё дальше – к начальнику разведки корпуса, но тогда Семёновский закусит удила и не даст Горшкову спуска ни в чём – будет преследовать до самого Берлина… Вот такая натура у майора.
Так что лучше скользкий вопрос этот спустить на тормозах и сделать так, чтобы и волки были сыты и овцы целы, и небо над головой голубело безмятежно.
Придётся явиться к майору с каким-нибудь трофейным подарком, и сделать это надо сегодня, либо завтра. Послезавтра может быть поздно…
Пока Горшков находился в штабе, погода испортилась, откуда-то из дальних далей приползли дырявые, мокрые от воды облака, пролились на землю мелкой противной влагой. За первой грядой облаков, будто в масштабном наступлении, приполз второй вал, грохоча жестяно, громко, добавил ещё воды, тропки в лесу, где располагалось артиллерийское начальство, расклеились, поплыли, сделались вязкими. Лес стал грязным.
– Тьфу! – отплюнулся старший лейтенант. – А ещё называется лето!
Впрочем, вполне возможно, что лето на войне таким и должно быть – ни на что не похожим, ржавым, капризным. Про себя Горшков решил, что если Семёновский зажмёт орден Мустафы, то надо будет обращаться к начальнику разведотдела дивизии; подполковник Орлов – мужик душевный, разведчиков, подчинённых своих, ценит, авторитета у него этажа на два больше, чем у Семёновского, так что Семёновский, если затеется дуэль, должен иметь бледный вид и синие губы. Иного выхода у Горшкова нет, только этот. Неужели Семёновский всё-таки зажмёт орден Мустафы?
Тревожно что-то сделалось Горшкову, воздух над головой потемнел, налился пороховым смрадом, показалось, что дождь, который только что закончился, сейчас начнёт лить снова, старший лейтенант поднял голову, скользнул взглядом по облакам – дряблым, источающим сырость, – понял, что дождь действительно вот-вот посыпется опять, поморщился недовольно – не нравились ему сегодня действия погодной канцелярии, поправил ремень на гимнастёрке и направился к взлобку, где были вырыты землянки разведчиков.
У землянок его встретил Охворостов.
– Ну что, старшина, порядок в танковых войсках?
– В танковых не знаю, а у нас порядок – ни одного происшествия. Тьфу-тьфу! – старшина суеверно плюнул через левое плечо.
– Как там Мустафа?
– Спит. Разбудить?
– Не надо. Пусть спит хоть до завтрашнего вечера.
– Чего в штабе нового, товарищ старший лейтенант?
– Как всегда, майор Семёновский держит себя на уровне заместителя командующего армией – по обыкновению недоступен, гневлив, высокомерен.
– Это он умеет делать. Науку шарканья подошвами изучил на «пять». Подчинённого может раскардашить тоже на «пять». Специалист.
– Ладно, старшина, утро вечера мудренее. Посмотрим, что будет завтра.
– Завтра будет то же, что было вчера, товарищ старший лейтенант, – тут Охворостов неожиданно смутился и добавил: – Это не я сочинил – песню однажды такую услышал.
– Сочинили её, наверное, какие-нибудь махновцы. Что-то я не слышал такой песни… Пока отбой, Егор Сергеич, отдыхай, – тут Горшков увидел Пердунка, запоздало вымахнувшего из землянки разведчиков и с мурлыканьем подкатившегося под ноги к командиру.
На груди, которую Пердунок тщательно вылизывал каждый день, трофейными красными чернилами, которые немцы использовали в качестве штемпельной краски, кто-то из ушлых разведчиков, – наверное, Арсюха Коновалов, – нарисовал звезду.
– Краснозвёздный кот – это что-то новое в нашей армии.
Горшков взял Пердунка на руки, хоть и грязен был кот, пыль слетала с него плотными кудрявыми слоями, и блохаст был – насекомые поедом ели его. Пердунок даже на руках командира не мог сидеть спокойно, дёргался, сопел по-собачьи, кусал себя, ёжился, прицеливаясь к чему-то, норовил потереться шкурой об изгибы пальцев, – а старший лейтенант не брезговал им, и никто из разведчиков не брезговал, не уклонялся от общения – все брали кота на руки, отдавали ему последнюю еду, а один сообразительный умелец – вона! – даже пометил Пердунка красной звездой… Чтобы не потерялся.
– Пошли домой, – сказал коту Горшков.Против этого Пердунок не возражал.
Ночью с немецкой стороны принеслись два снаряда, один за другим легли в лощину, в трёх сотнях метров от землянок разведчиков, срубили несколько деревьев, вывернули огромную груду земли, но вреда особого не причинили. Лес только изуродовали.
Горшков выскочил из землянки, вгляделся в темноту, где бегали проворные мелкие огоньки – пламя, спрятавшееся в просохшей после дождя траве, пыталось разогреться, передвинуться на другое место, но шансов у него не было никаких, это было ежу понятно, поэтому старший лейтенант лесного пожара не боялся.
Вытянув голову, он пробовал сообразить, откуда же конкретно снаряды пришли и из какой такой дали, если бы узнать это, то можно было бы самим сделать пару ответных залпов и заставить фрицев поджать хвосты, но узнать это было непросто, снаряды вообще могли прийти с нашей стороны, из тыла, по ошибке, и Горшков, подавленный усталостью, решил, что самое сейчас – продолжить сон, и вновь нырнул в землянку.
Днём Горшкова вызвал к себе Семёновский, ткнул рукой в табуретку:
– Сидаун плиз!
– Я бразильскому не обучен, товарищ майор.
– Я тоже, – сказал Семёновский, – но это ничего не значит. Звонил Орлов из штаба дивизии, также о душе твоего Мастуфы беспокоился…
– Мустафы, товарищ майор.
– Я и говорю – Мастуфы. Резолюция такая – через полмесячишко приводи своего Мастуфу в штаб с заранее прокрученной в гимнастёрке дыркой… Для ордена. Разумеешь. Горшков?
– Так точно!
– Ну а на сем – бывай, – Семёновский улыбнулся, показал мелкие, плотно росшие зубы и отпустил старшего лейтенанта.
Всякий раз, когда Горшков общался с Семёновским, у него внутри возникали холод и злость – вытаивали из пустоты и поднимались наверх, царапали горло острыми углами, причиняли боль, – старший лейтенант пробовал понять начальника штаба и не понимал, хоть убей – не получалось у него это… Видать, были они сработаны с Семёновским из разного теста.
– Вы только, товарищ майор, не напишите случайно в орденской книжке «Мастуфа»…
– Не учи учёного! – Семёновский грозно взнялся над хлипким письменным столом, поставленным в землянке, – Горшкову показалось, что майор взнялся над самим собой, в тёмных глазах начальника штаба вспыхнул жёсткий свет, но старшему лейтенанту страшно не сделалось, он лихим чётким движением козырнул, также лихо и чётко оторвал ладонь от виска и покинул штабную землянку.
Хлопот был полон рот и главная забота из всех одна, прежняя – пополнение. Абы кого в разведку ведь не возьмёшь, люди с блестящими комсомольскими характеристиками, активисты политкружков и передовики установления власти пролетариата во всём мире здесь не проходят, как не проходят и «прилежные люди», стукачи и вертухаи – для службы в разведке нужны совсем другие качества, чем у этих людей… Увы! Где брать пополнение, Горшков не знал. Точнее – знал, но кто ж отдаст толкового бойца на сторону, какой командир? Толковые бойцы всем нужны. Всюду. Всегда.
У землянки разведчиков на опрокинутом ведре сидел босоногий Мустафа, блаженно шурясь, оглядывал сонными глазами округу. Пальцы на босых ногах у него шевелились словно бы сами по себе, жили своей жизнью.
Напротив Мустафы на земле расположился Пердунок и влюбленным взглядом поедал разведчика: кот не хуже Горшкова знал, какое дело сделал Мустафа и какого большого кобеля приволок в расположение части. Но не это было главное: кобели и впредь будут попадаться на крючки разведчиков, и произойдёт это ещё не один раз, – главное было другое: Пердунок приволок Мустафе свою добычу – крупную шелковистую мышь, он угощал разведчика обедом, ставя его в один ряд с собою.
Только вот Мустафа что-то не очень торопился вцепиться зубами в мышь, либо кинуть её на сковородку, и этого кот не понимал: еда-то первосортная, вкусная, свежая! Не тухлятина какая-нибудь…
Старший лейтенант сообразил, в чём дело, присел на корточки, погладил кота по пыльной голове:
– Спасибо, Пердуночек, спасибо, мой хороший. Забирай свою мышь, сегодня все сыты… – Горшков обращался к коту, будто к малому ребёнку, и голос у него был терпеливый, уговаривающий, словно он боялся обидеть Пердунка.
Пердунок, прежде чем попасть к разведчикам, пережил немецкую оккупацию, голодуху видел на расстоянии вытянутой лапы, наблюдал, как люди ели не только мышей – ели друг друга, отваливая части попостнее – слишком жирным было всякое человеческое мясо, – и набивали человечиной чугунки, – многое наблюдал и недоумевал теперь, почему Мустафа отказывается от вкусного подаяния…
Когда командир дал отбой, Пердунок сожалеюще вздохнул, подхватил мышь, прикусил её поудобнее зубами и исчез. Горшков сел рядом с Мустафой, огляделся.
За бледной кисеей, покрывавшей небо, неровным белым пятном просматривалось солнце. И хотя тепла оно не сулило – просто никак не могло сулить, светило вообще выглядело по-зимнему, – было тепло, кожу под гимнастёркой даже покалывало, отсыревшее дно низины дымилось, это испарялась болотная вонь, запах её ощущался довольно сильно… Неудачное место они выбрали для землянок, но не Горшков выбирал его, другой человек – сам Сосновский.
Мустафа, сидя на ведре, шевельнулся, сполз чуть в сторону, устраиваясь поудобнее.
– Есть какие-нибудь новости насчёт наступления, товарищ старший лейтенант? – спросил он.
– Конечно, есть, – ответил Горшков. – Ищи шило!
– Зачем?
– Чтобы дырку в гимнастёрке для ордена проковырять.
– Да ладно, товарищ старший лейтенант, – не поверил Мустафа. – Разыгрываете.
– Точно, точно!
– Дырку, если понадобится, мы без всякого шила приготовим. Зубами просверлим, – Мустафа улыбнулся неожиданно счастливо – наконец-то он поверил Горшкову, вновь по-ребячьи забавно пошевелил пальцами ног, сладко потянулся. – Хорошо-то как, товарищ старший лейтенант!Горшков вновь оглядел распадок, остановил взор на припыленной дымкой низине. Природа русская – ненавязчивая, нет в ней кричащих резких красок, как, допустим, в природе южной, но очень уж она мила, неприхотлива, почти нет людей, которым она не приглянулась бы, не легла на сердце – во всякую мятежную душу эта природа приносит спокойствие. И в первую очередь тому человеку, который среди этой природы вырос.
Через месяц, уже после наступления, Мустафе вручили орден. Мустафа раскрыл непрочную, наполовину бумажную, наполовину матерчатую книжицу и улыбнулся печально: имя в его наградной книжке было написано так, как захотел когда-то майор Семёновский: «Мастуфа»…
С лёгкой руки Мустафы одиночный поиск решил совершить Арсюха. Проворный, ловкий, с косящим взглядом – ухватить за глаза его было совершенно невозможно, Арсюха верил в свою удачу, понимал, что он нисколько не хуже Мустафы, способен приволочь туза более крупного, да и места для орденов у него на гимнастёрке будет побольше, чем у башкирца, а значит, и возможностей больше, и брюки он умеет гладить лучше, и пилоткой обзавёлся офицерской, шевиотовой (а Мустафа довольствуется солдатской, сшитой из рубчика и будет ходить в ней, пока от пилотки не останется одна дыра, а в центре дыры будет красоваться звёздочка); в общем, сказано – сделано – тёмной ночью Арсюха ушёл на ту сторону.
Возврат Арсюха запросил через два дня. Все детали он обговорил с Горшковым, место неплохое для возвращения выбрал – высыхающее болото, обозначенное на карте не самым лучшим именем – Змеиное.
Но сколько разведчики ни высматривали змей на болоте, так ни одной и не обнаружили: либо передохли гады, либо умели хорошо маскироваться, но название как вошло во все штабные донесения, бумаги и карты, так и осталось.
Горшков сам пошёл к пехотинцам встречать Арсюху. Ночь выдалась тёмная, почти беззвёздная, лишь кое-где сквозь чёрную наволочь просвечивали неровные ломаные сколы, схожие с кусками бутылочного стекла, в деревьях пронзительно кричали цикады, нагнетали тревогу, напряжение буквально висело в воздухе словно песок, лишь только на зубах не скрипело.
С Горшковым в окопе находился старший лейтенант с обожжённой щекой и седыми висками – командир стрелковой роты.
– Ночь в самый раз для перехода, – сказал командир роты, – повезло вашему товарищу…
– Рано говорить, повезло или не повезло, – угрюмо произнёс Горшков, – вот когда снова будет на этой стороне, тогда и поговорим.
– Тоже верно, – согласился с ним командир роты. – Надо по деревяшке постучать, – он стукнул себя по темени костяшками пальцев.
Участок фронта был тихий – ни немцы тут впустую не палили, не разбойничали, не сотрясали воздух, ни наши, если уж и завязывалось что-нибудь горячее, то по делу. Внезапными налётами друг на друга особо не тревожили, местность была тщательно заминирована, так что проход Арсюхе прокладывали целых два сапёра, пропотели они основательно, прежде чем проложили надёжный коридор.
Перед самым рассветом откуда-то с севера приволокло облако гари – видать, где-то бушевал большой пожар, вместе с гарью приполз сырой, пробирающий до костей холод. Цикады разом умолкли. Командир роты невольно поёжился:
– Осенью запахло.
– А что… Пора уже. До осени календарной совсем немного осталось.
На этом разговор прекратился. Горшков напряжённо, до звона в ушах вслушивался в пространство, засекал звуки, приносящиеся с той стороны, морщился, когда чернота неба расползалась гнило под светом ракеты и ночное пространство делалось прозрачным, пытался что-нибудь разглядеть, но в прозрачности этой ничего, кроме собственного носа, не было видно. Горшков так же, как и командир стрелковой роты, ёжился, приподнимал плечи и угрюмо затихал, продолжая вслушиваться в ночь.
Затем присел на дно окопа, включил трофейный фонарик и, отогнув рукав, посмотрел на часы. Было три сорок пять ночи. Часа через полтора начнёт светать.
В это время раздался жирный, словно бы смоченный маслом хлопок, за ним – отчаянный прощальный крик, вверх взвился плоский красный столб огня, на нейтральную полосу с грохотом опустилось несколько тяжёлых комков, потом противной дробью прошлись комки мелкие, каменно-твёрдые, и всё стихло. Горшков всё понял. Застонал, уткнулся лбом в грязный, холодный, как намерзь, край окопа.
Не может быть, не может быть…
– Всё, старлей, не придёт твой человек – сказал командир стрелковой роты, – погиб он.
Горшков промолчал, затем вновь неверяще, будто пробитый осколком, ткнулся лбом в край окопа. Сглотнул твёрдый горький комок, возникший в глотке, затем приподнялся и долго всматривался в холодную встревоженную темноту.
Немцы после взрыва всполошились, открыли частый пулемётный огонь. Жаркие тяжёлые струи кромсали воздух, всаживались в землю, ворошили её, от ударов пуль окоп вздрагивал нервно. Наши молчали, молчание это было погребальным реквиемом по Арсюхе.
Всё, нет больше разведчика Арсюхи Коновалова…
Позже выяснилось, что Арсюха лицом в грязь не ударил, захватил штабного офицера, но при переходе через линию фронта сплоховал, вышел за границы коридора, отмеченного сапёрами, и подорвался. А может, пленный, поняв, что шансов убежать больше не будет, вскочил внезапно, метнулся в сторону, либо просто шарахнулся в испуге и угодил на мину.
Что именно произошло, угадать уже не удастся, а по позе убитых, лежавших на нейтрально полосе, понять ничего было нельзя. Тем более, издали. Немец лежал лицом вниз, неловко подогнув голову под себя, словно собирался бодаться с матушкой-планетой, Арсюха распластался вольно, будто живой, свободно раскидав руки в стороны – ну, ровно бы уснул на несколько минут, сейчас протрёт глаза и поднимется, одной ноги и одной руки у разведчика точно не было, а умертвил его крохотный осколок, всадившийся в висок, ничтожный железный обломок, отодравшийся от корпуса мины – вошёл осколок в голову Арсюхе и навсегда утихомирил его.
Два дня пытались разведчики выволочь Арсюхино тело с нейтральной полосы, но немцы не давали этого сделать – открывали такую пальбу, что и небу и земле становилось тошно, потом до них дошло, что русским не надо мешать – пусть уберут тело, которое уже начало здорово припахивать, и своего также надо убрать, зарыть в землю, не то штабист уже вздулся и так воняет, что солдаты скоро побегут с этого участка фронта, – дышать становится нечем.
Немцы привязали к плоскому, похожему на школьную линейку с заострённым концом штыку белую тряпицу – обрывок простыни и, вскинув эту немытую тряпицу над своим окопом, начали размахивать ею в воздухе.
К командиру роты, на которого навалилась отчаянная простуда и он, сидя в окопе на снарядном ящике, пил травяной взвар – говорят, полезный, но взвар не помогал, – прибежал солдатик, исполнявший обязанности вестового, и захлебываясь рвущимся из груди кашлем, доложил:
– Товарищ командир, немцы сдаются… Белый флаг выбросили.
– Такого быть не может, – размеренным горячим голосом – не своим, простуженным, – произнёс командир роты, – просто не должно быть!
– Честное слово – сдаются!
– Это они просят не стрелять, хотят убрать своего дохляка с нейтральной полосы.
– Что делать, товарищ командир?
– Не стрелять, передай мою команду по роте, – пусть фрицы убирают. А потом мы заберём своего.
– А если они захотят убрать нашего?
– Зачем он им?
– Ну всё-таки?
– Тогда стрелять. Но нашего они трогать не будут, это точно. Даю голову на отсечение.
Немцам дали беспрепятственно убрать своего убитого, после чего двое бойцов из стрелковой роты вытащили тело Арсюхи, закатали его в рваную, просечённую пулями и пропитанную кровью плащ-палатку, ни на что, кроме погребального савана уже не годную, и приволокли в свой окоп.
Когда Арсюхино тело уже находилось в окопе, прозвучал одинокий выстрел, первый в паузе перемирия, – прозвучал он с немецкой стороны.Природа после этого выстрела посмурнела, увяла, и сам день увял, сделался серым, стало видно, что здорово подступает осень, она находится совсем уже близко – и трава стала жухлая, ломкая до костистости, и краски земли потускнели, и небо стало невесёлым, каким-то очень уж холодным.
Через час прибыл Горшков с Мустафой и старшиной Охворостовым, старшина горько кривя губы, посмотрел на убитого, покачал головой:
– Эх, Арсюха, Арсюха… И что тебя, дурака, понесло за орденом? Сидел бы сейчас в землянке, трофейный кофий глотал бы, ан нет – понесло…
Рот у старшины устало дёрнулся, кончики губ сползли вниз, задрожали, он повернулся и попросил командира пехотинцев севшим скрипучим голосом:
– Пусть ваши ребята помогут нам вытащить тело из окопа.
– Будет сделано, – пообещал тот и, переступив всем корпусом, поменяв позицию, словно у него, как у волка, не поворачивалась шея – очень уж старший лейтенант был простужен, на шее у него сидела целая горсть чирьев, – крикнул в глубину окопа: – Зябликов!
– Старшину Зябликова – к командиру!
Пехотинцы помогли разведчикам оттащить тело Арсюхи метров на сто, в выщербленный снарядами лесок и вернулись к себе, а Горшков с Охворостовым потащили труп дальше. Старшина по дороге отирал пот, обильно появляющийся на лбу и, не переставая, вздыхал:
– Эх, Арсюха, Арсюха!..
Могилу Арсюхе Коновалову вырыли на высоком месте, где росли сохранившиеся после жестокого артобстрела сосны, – удивительно было, как они уцелели, когда снаряды сплошным ковром накрыли рослый лесной холм, – на могиле соорудили земляную пирамидку, которую украсили деревянным щитком: «Здесь похоронен разведчик 685-го артиллерийского полка Арсений Коновалов». Внизу поставили две даты – рождения и гибели.
– Вот что берёт человек с собою на тот свет – две даты, – скорбно вздохнул старшина, – больше ничего, – отошёл от щитка на несколько метров, прикинул кое-что про себя и, вернувшись, нарисовал над Арсюхиной фамилией звёздочку.
У могилы выпили – Горшков налил в каждую кружку немного спирта, откупорил фляжку с водой.
– Помянем нашего Арсюху. Пусть земля будет ему пухом.
Выпили молча. Запивать никто не стал – научились пить спирт всухую, не боясь сжечь себе горло.
– Вот и всё, – тихо и горько произнёс старшина, – кончилась война для нашего Арсюхи. Всё!
Кроны сосен тяжело зашевелились, на макушку могилы свалилась большая шишка.
– Считайте, что памятник готов – целая композиция получилась, – Довгялло улыбнулся скорбно, вновь протянул старшему лейтенанту свою кружку. – Давайте ещё понемногу, товарищ командир. Арсюха любил это дело…Горшков молча налил спирта в подставленную кружку.
Утром к Горшкову прибыл посыльный из штаба – мрачный грузин с плохо выбритым чёрным лицом, похожий на большого растрёпанного грача.
– К начальнику штаба, – невнятно пробурчал он, – вызывает.
Ранний вызов к Семёновскому всегда сулил что-нибудь неприятное. На этот раз Семёновский даже головы не оторвал от бумаг.
– В двенадцать часов дня прибудет пополнение, – сказал он, – готовься встретить. Будешь первым смотреть бойцов. Остальные – потом.
Судя по всему, майор находился в худом настроении, если бы находился в хорошем, обязательно бы что-то добавил, какое-нибудь хлёсткое, а то и обидное словцо вставил, не упустил бы момент, но, видать, не до этого было Семёновскому. Он вяло мотнул в воздухе рукой, отпуская старшего лейтенанта.
Пополнение – это добрая новость. Новость вызвала прилив сил, старший лейтенант был готов скакать молодым козленком, – после Мустафы он взял ещё двоих разведчиков, но вскоре должен был отдать их в расчёты – оба раньше служили в артиллерии. Хотя ребята были подходящие… Но Семеновский посчитал, что разведчики обойдутся без них, – всё равно ведь стрелять из пушек не умеют и расчёта из разведчиков не составишь. Хотя разведчики и носят в своих петлицах артиллерийские эмблемы, два скрещенных пушечных ствола, в будущем году, говорят, во всей Красной армии введут погоны, – разведчики будут носить скрещенные пушечки и на погонах.
Пополнение привезли на грузовиках и выстроили на берегу большого, чистого, исходящего тёплым парком озера. Все эти люди – и молодые, ещё не нюхавшие пороха, и старые, знающие, почём фунт лиха на фронте, прибыли в артиллерийский полк. Все останутся тут.
Старший лейтенант прошёлся вдоль строя, оглядывая лица. Разные тут лица – и такие, что нравились, и те, что не нравились, мягкие и жёсткие, открытые и с хитринкой, с двойным дном, простые и такие, что «без поллитра» не разгадаешь.
– Я – командир разведки полка, – сказал Горшков, – мне нужны люди. Такие, что не спасуют, когда окажутся по ту сторону фронта, умеющие метко стрелять и беспрекословно выполнять приказы… Возможно, среди вас есть знающие немецкий язык, это в разведке приветствуется очень даже. Есть такие? – старший лейтенант вновь прошёлся вдоль притихшего строя. – А?
Строй молчал.
– Значит, нет. Жаль!
– Есть! – неожиданно раздался напряжённый школярский голосок из глубины строя.
Старший лейтенант приподнялся на носках сапог – ему сделалось интересно. Попробовал отыскать глазами этого выдающегося храбреца, нащупать его, но попытка оказалась тщетной. Горшков машинально пробежался по пуговицам: проверил, застегнут ли у него воротничок гимнастёрки, и произнёс восхищённо:
– Очень лихо!– Есть хорошее правило, товарищ старший лейтенант, – вновь прозвучал школярский голосок, – сам себя не похвалишь – как оплёванный сидишь.