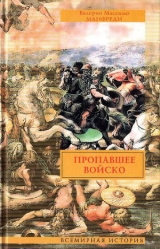
Текст книги "Пропавшее войско"
Автор книги: Валерио Массимо Манфреди
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
При мысли обо всем этом становится легко понять, как тяжело и грустно человеку покидать подобное место и живущих там людей, говорящих на твоем языке, верящих в одних с тобой богов, любящих то же, что и ты.
На третий день Ксен отчалил от пристани маленького городка у моря. А вместе с ним – еще пятьсот человек, воинов, вооруженных с ног до головы, прибывших в порт по отдельности, группами с разных сторон. Их ждала небольшая флотилия, состоявшая из судов, по виду напоминавших рыбацкие.
Отплыли ночью, не дожидаясь рассвета: когда стало подниматься солнце, они уже были в открытом море, а очертания родной земли пропали за горизонтом.
Воины не знали, кто поведет их навстречу самому великому приключению в жизни – приключению, в ходе которого откроются места, города и народы, о которых даже помыслить было нельзя.
Другие отряды ждали в секретных местах, чтобы потом собраться воедино по ту сторону моря, там, где ждал молодой царевич, охваченный дерзким желанием стать самым могущественным человеком на Земле.
Тем временем в Спарте подготовили и обучили того, кто возьмет на себя командование греческой частью армии, того, кто, выполняя распоряжения царевича, воплотит в жизнь его честолюбивые планы. Па самом деле он будет действовать в интересах своего города, города воинов в красных плащах, но никто и ни при каких обстоятельствах не должен этого знать. Для простых смертных он являлся одним из множества беженцев, кочующих туда-сюда по миру и не имеющих постоянного пристанища: его якобы разыскивали за убийство, и над ним висел смертный приговор, а за поимку обещали вознаграждение. Это был жесткий человек, твердый как железо, висевшее на поясе даже тогда, когда он спал. Его звали Клеарх, но, возможно, имя тоже являлось вымышленным, как и все, что рассказывали об этих воинах, продавших свои мечи и жизни в обмен на мечту.
4
Клеарх был среднего роста, пятидесяти с лишним лет. Он всегда очень тщательно ухаживал за черными волосами с проседью на висках. Когда не надевал шлем, то собирал их на затылке кожаным ремешком. Главнокомандующий никогда не расставался с оружием: носил поножи, панцирь и меч с того момента, как вставал, и до того, как ложился спать: казалось, эти предметы из бронзы стали частью его тела. Говорил только по необходимости и никогда дважды не повторял приказ. Лишь немногие из тех, кем он командовал, знали его прежде.
Человек из ниоткуда.
Однажды утром, в начале весны, Клеарх появился перед выстроившимися отрядами в городе Сарды, в Лидии, запрыгнул на кирпичную стену и заговорил, подняв руку:
– Воины! Вы собрались здесь, потому что царевичу Киру нужна армия, чтобы бороться с варварами внутри государства. Он хотел иметь в своем распоряжении лучших из лучших – именно поэтому вас собирали со всей Греции. Мы подчиняемся не приказам нашего города или нашего государства, а приказам чужеземного царевича, нанявшего нас. Будем сражаться за деньги, а не за что-нибудь еще, – отличная причина, скажу я вам, лучших не знаю.
Однако не думайте, что вам будет позволено вести себя как вздумается. Тот, кто нарушит приказ или окажется виновен в нарушении иерархии или в трусости, будет немедленно предан смерти, и я лично исполню приговор. Клянусь, вы скоро начнете бояться меня больше, чем врага. Вина за ошибки, допущенные при исполнении моих приказов, будет возлагаться прежде всего на ваших военачальников. Никто не сравнится с вами в храбрости, упорстве и дисциплинированности. Если победите, вас наградят так щедро, что сможете оставить это ремесло и жить безбедно всю оставшуюся жизнь. Если проиграете, от вас ничего не останется.
Воины слушали не шевелясь и, когда он закончил, долго не покидали площадь. Стояли неподвижно, до тех пор пока военачальники не приказали разойтись.
У Клеарха не было воинского звания, позволявшего повелевать этой армией, но все ему подчинялись. Впалые щеки, короткая черная борода, очень черные проницательные глаза, сверкающие доспехи и черный плащ на плечах – все соответствовало образу главнокомандующего. Силой своей личности он, казалось, не соответствовал заявленной цели похода: слишком жесткий, слишком властный, слишком яркой наружности и поведения. Во всем он казался человеком, словно специально созданным для того, чтобы осуществлять невозможные предприятия, и уж никак не для того, чтобы проводить незначительные карательные операции против непокорных племен.
Никто не знал, есть ли у него семья, но друзей не было точно. Впрочем, как и рабов: два воина – личных помощника – подавали ему еду, которую он всегда вкушал один, под навесом. Казалось, главнокомандующий неспособен на чувства или, если он все же их испытывал, ему отлично удавалось это скрывать, за исключением гнева. Ксен в ходе кампании несколько раз оказывался рядом с ним и видел его в бою: Клеарх наносил врагам удары и разил без устали, с уверенной, спокойной силой, без промаха. Казалось, жизни, что он отнимал у других, подпитывали его собственную. Убийство не доставляло ему наслаждения – лишь ровное удовлетворение, как человеку, который методично и точно выполняет свою работу. Весь его вид внушал страх, но во время битвы эта бесстрастная решимость, ледяное спокойствие наполняли остальных уверенностью в себе и в победе. Под его началом состояли все воины в красных плащах, лучшие в армии. Любой, кто бросал им вызов, платил за это сполна.
Из военачальников Ксен лично знал Проксена из Беотии, своего друга, что предложил ему последовать в Азию. Это был человек, вызывавший симпатию и честолюбивый: он мечтал завоевать великие богатства, почести, славу, но в ходе длительного похода показал, что немногого стоит и привязанность Ксена к нему стала ослабевать. Одно дело – гулять под портиками на городской площади или нить вино в таверне и рассуждать о политике соревнуясь в остроумии, и совсем другое – в изнурительном походе делить с остальными голод и страх и сражаться за выживание. Дружба редко выдерживает столь серьезные испытания. Их взаимное расположение быстро угасло, превратившись в равнодушие, смешанное с досадой, если не в откровенную неприязнь. Ксен также был знаком с другими полководцами: в частности, одним из них он сначала восхищался, а потом глубоко презирал. Думаю, даже ненавидел и желал смерти. Нелюбовь к нему Ксена дошла до такой степени, что он стал приписывать этому человеку дурные поступки, в коих тот не был виноват, и подлости, которых он, вероятно, никогда не совершал.
Этого полководца звали Менон-фессалиец. Я познакомилась с ним, после того как последовала за Ксеном; он произвел на меня сильное впечатление. Немного старше Ксена: тридцати с небольшим лет, – светлые прямые волосы ниспадали ему на плечи и часто закрывали лицо, так что видны оставались лишь серо-голубые глаза. Он любил выставлять напоказ сухопарое, мускулистое тело: мощные руки, изящные кисти – скорее как у музыканта, чем как у воина. Однако когда эти кисти держали рукоять меча или копья, становилось понятно, что за ужасная сила в них заключена.
Я часто видела, как Менон по вечерам бродил по лагерю с копьем в одной руке и кубком вина в другой, предоставляя как женщинам, так и мужчинам возможность любоваться собой. Тело его ничем не было прикрыто, кроме короткого плаща из легкой ткани, и когда фессалиец проходил мимо, в воздухе чувствовался аромат восточных благовоний. Однако, как только настало время сражаться, этот военачальник превратился в кого-то вроде кровожадного дикого зверя. Но все случилось много месяцев спустя, после того как армия собралась в Сардах.
Много раз спрашивала я себя о причинах ненависти Ксена к Менону: мне доподлинно известно, что молодой фессалийский военачальник не вступал с ним в открытое противостояние, между ними не было ни спора, ни ссоры. В конце концов пришла к убеждению, что сама невольно стала этой причиной. Однажды вечером, когда воины ставили палатки, готовясь к ночлегу, я пошла за водой на речку, неся амфору на голове, подобно тому как в прежние времена ходила к колодцу в Бет-Каде. Менон внезапно появился на берегу, неподалеку от меня, и, пока я наполняла амфору водой, расстегнул пряжку плаща и на мгновение предстал передо мной нагим. Я сразу же опустила голову, однако каким-то образом все же чувствовала на себе его взгляд. Наполнив амфору, отправилась было обратно в лагерь, но он окликнул меня.
Я услышала за спиной плеск воды: он входил в реку, – и остановилась, но оборачиваться не стала.
– Раздевайся, – предложил он, – искупайся вместе со мной.
Признаюсь, какое-то время колебалась – не потому, что желала такого рода близости, а потому, что его чин, высокое положение внушали мне робость и я хотела по крайней мере показать, что внимательно слушаю.
Полагаю, Ксен стал свидетелем этой сцены, видел, как я остановилась, внимая словам Менона, а я не заметила. Наверное, его беспокоили какие-то подозрения. Он никогда ничего не говорил мне, потому что был слишком горд для этого, но но мелким деталям я пришла к выводу, что в наших отношениях появилась определенная натянутость.
Неподалеку, отдельным лагерем, стояло остальное войско Кира, большая его часть: многотысячная армия из Азии, с побережья и из внутренней ее части, пехота и конница, – разномастная толпа, собравшаяся из разных мест, где каждое племя подчинялось собственному вождю. Кир имел дело только с их предводителем, косматым великаном по имени Арией, который всегда ходил в одной и той же кожаной тунике и заплетал длинные, до пояса, волосы в косы.
От него шел какой-то тяжелый дух, и он, вероятно, сознавал это, потому что, беседуя с Киром, всегда держался на подобающем расстоянии.
Менон-фессалиец навещал его, частенько наведываясь в лагерь азиатов по неизвестным мне причинам, но Ксен всегда говорил, что между этими двоими существует физическая близость, что Менон – любовник Ариея.
– Он занимается этим с варваром! – кричал Ксен. – Ты можешь себе представить?
Разумеется, его смущала не сама возможность разделить ложе с мужчиной, а то обстоятельство, что мужчина этот – варвар.
– Но я ведь тоже из варваров, – воскликнула я, – однако ты ложишься со мной в постель и, кажется, тебе даже правится!
– Это совсем другое дело. Ты женщина.
«Какая непоследовательность!» – думала я про себя. И никак не могла понять, но со временем все же разобралась. Ксен и такие, как он, считали, что это нормально – когда мужчины занимаются любовью между собой. Но они оба должны быть греками, а с варварами подобное поведение считалось позорным. Именно в этом Ксен обвинял Менона: в том, что тот делит ложе с человеком, от которого воняет, который моется не каждый день, не пользуется скребницей и бритвой. Но, полагаю, своими обвинениями он хотел заставить меня поверить в то, что Менон играет роль женщины для косматого варвара, воняющего, как козел. Он хотел, чтобы Менон в моих глазах перестал выглядеть мужественным, потому что воспринимал его как соперника.
Фессалиец не привлекал меня – хотя и являлся самым красивым из всех мужчин, каких видела за свою жизнь, – потому что я была так сильно влюблена в Ксена, что больше никого вокруг не видела. Однако он вызывал мое любопытство, он завораживал: мне хотелось поговорить с ним, быть может, расспросить о чем-нибудь. Подобные люди, подготовленные, созданные только для убийства, внушали мне трепет. В каком-то смысле все они походили друг на друга, были, можно сказать, одинаковыми. Вероятно, именно поэтому некоторые из них занимались любовью между собой. Думаю, их ужасное ремесло, состоявшее в том, чтобы нести смерть, делало их особенными, единственными в своем роде – до такой степени, что они не могли потерпеть в своей постели того, кто сводит их труд на нет, – например, женщину, которая способна дарить жизнь, а не смерть.
Однако, возможно, все это только мои фантазии и домыслы. Мне все казалось таким странным, новым, необычным. И это было лишь начало.
В армии существовали также и другие военачальники, одного из них звали Сократ-ахеец: старше тридцати пяти лет, крепкий, с каштановыми волосами и бородой и густыми бровями. Я видела его в строю всякий раз, когда Клеарх производил смотр войск. Он всегда стоял слева. Иногда обедал в нашей палатке, когда я подносила мужчинам и убирала пустую посуду, и мне удавалось поймать несколько фраз из его беседы с Ксеном. Насколько я поняла, у него была жена – несколько раз прозвучало ее имя, – и дети. Когда ахеец говорил о семье, взгляд его становился серьезным, в глазах появлялась грусть. Следовательно, Сократ испытывал какие-то чувства, привязанность. Быть может, он занимался этим ремеслом, потому что у него не было выбора, или же ему пришлось подчиниться кому-то более могущественному.
У него был друг, также высокопоставленный военачальник, Агий-аркадиец. Их часто видели вместе. Они сражались на одних и тех же войнах, в одних и тех же кампаниях. Однажды Агий спас Сократу жизнь, накрыв его щитом, когда тот упал, пронзенный стрелой. А потом оттащил в безопасное место под обстрелом лучников. Друзья были очень привязаны друг к другу, это становилось заметно по их разговору, по шуткам и воспоминаниям. Оба надеялись на то, что поход, в который они отправились, закончится скоро и без особых потерь, после чего станет возможно вернуться к семьям. У Агия тоже были жена и дети: мальчик и девочка, пяти и семи лет: он поручил их заботам родителей-землепашцев.
Я радовалась, видя, что даже самые неумолимые воины тоже люди и чувства их похожи на чувства тех, кого я знала в прежней жизни. Вскоре заметила, что таких множество. Молодых мужчин, которые под доспехами и шлемом прячут сердца и лица – такие же, как у юношей из наших деревень, – испытывающих страх перед тем, что их ждет, и в то же время огромную надежду на то, что смогут коренным образом изменить жизнь.
В остальном Сократ и Агий были простыми и довольно сдержанными. С Ксеном их связывали хорошие отношения, но не дружба, в том числе потому, что он не состоял в рядах воинов, ни от кого не зависел, не имел на плечах ответственности военачальника и не был обязан кому-либо подчиняться. Он находился в лагере вследствие того, что не мог быть в другом месте, так как родной город отверг его.
– Ты скучаешь по нему? – спросила я однажды. – По твоему городу?
– Нет, – ответил он. Но глаза говорили обратное.
Ксен относился к своей работе очень старательно: каждый вечер, когда разбивали лагерь, он зажигал в палатке лампу и что-то записывал – по правде сказать, недолго: я как раз успевала приготовить ужин, и все. Однажды попросила прочесть то, что он написал, и была разочарована. Это оказались скупые общие заметки: пройденное расстояние, отправной пункт, пункт назначения, указания на то, есть ли вода и возможность пополнить запасы провизии, названия городов и еще кое-что.
– Но ведь мы видели столько прекрасного. – Я вспомнила ручьи, цвет гор и лугов, облака, полыхавшие в лучах заката, памятники древних городов, полуразрушенные от времени. – А сколько он, должно быть, видел до того, как повстречал меня, продвигаясь вперед по бескрайней Анатолии.
– Все это останется в моей памяти. А то, что я пишу, предназначено, чтобы остаться в памяти всех.
– А какая разница?
– Это просто. Красота природы или памятника – вопрос восприятия каждого из нас. Что кажется прекрасным мне, кого-то другого может оставить равнодушным. А вот расстояние между городами – данные достоверные и неоспоримые для всех.
Ксен говорил верно, но мне от его рассуждений делалось грустно. Я не понимала, что у его записей особая задача, не предусматривающая чувства. Дневник, что он вел, в будущем мог использовать кто-нибудь, вознамерившийся снова пройти тот же самый путь. Однако меня поражал сам факт того, что Ксен грамотен. В наших деревнях никто не умел писать. Истории передавались из уст в уста, каждый рассказывал их по-своему; я была уверена в том, что проход по нашим местам армии Кира и мое бегство уже стали темой для повествования и старики, особенно некоторые из них, наделенные этим талантом, передавали его совершенно по-разному. Подобное явление весьма часто встречается в маленьких местечках, где никогда ничего не происходит и естественное человеческое любопытство редко находит удовлетворение.
Я тайком наблюдала, как летописец окупает перо в чернильницу, а потом быстро водит по белому листу папируса. Эти листы стоили очень дорого, больше, чем еда и вино, больше, чем железо и бронза, поэтому Ксен сначала писал углем на белой каменной табличке, и лишь тогда, когда был уверен в том, что действительно хочет перенести текст на папирус, брал перо. Он писал маленькими буквами, плотно подгоняя строки друг к другу, чтобы они занимали меньше места, выводил знаки очень тщательно, чтобы их последовательность выглядела идеально прямой и ровной. После того как знаки оказывались на листе, они в любой момент могли превратиться в слова – как только Ксен останавливал на них взгляд. Это было чудо, и мой возлюбленный заметил, что письмо очень интересует и завораживает меня. Я знала, что в храмах, посвященных богам, и в царских дворцах есть писцы, но никогда не видела своими глазами, как это делается. Многие из воинов, если не сказать большинство, умели писать, и я не единожды наблюдала, как они чертят знаки на песке или на коре деревьев. Их грамота была простой, как алфавит финикийцев с побережья, поэтому его казалось легко освоить, и однажды я, набравшись храбрости, попросила Ксена научить меня.
Он улыбнулся:
– Зачем ты хочешь научиться писать? К чему тебе это?
– Не знаю, но мне нравится думать, что мои слова останутся жить после того, как голос умолкнет.
– Причина хороша, но не думаю, что хороша идея.
На том наш спор и окончился.
Однако искусство Ксена завораживало меня до такой степени, что я все же начала чертить знаки на песке, на дереве, на скалах, зная, что некоторые из них сотрет ветер, другие – вода, но иные останутся там на годы, быть может, на века.
Вернусь к повествованию. Покинув Сарды, армия двинулась вдоль реки Меандр, вверх по течению, и, добравшись до плоскогорья, расположилась лагерем в очень красивом месте – в тех краях находится один из летних дворцов Кира. Там есть пещера, в которой бьет родник, а к своду прикреплены кожа дикого зверя. Ксен рассказал мне историю, которой я никогда прежде не слышала.
В той пещере жил сатир – наполовину человек, наполовину козел – по имени Марсий. Это лесное существо защищало пастухов и их стада, а в жаркие летние дни сидело на берегу реки и играло на флейте, простом инструменте, сделанном из тростника. Флейта изливала сладчайшую мелодию, более нежную и глубокую, чем пение соловья. В этой песне ощущалась тенистая прохлада и запах мускуса, слышалось журчание горных источников, шелест ветра в листве тополей. Сатир так сильно любил свою музыку, что утверждал, будто никто не может сравниться с ним, даже Аполлон, которого греки считали богом – покровителем музыки. Аполлон услышал это и внезапно явился к Марсию, днем, в конце весны, сияя, словно солнце.
– Ты бросаешь мне вызов? – вскричал он в гневе.
Сатир не испугался:
– Я не имел такого намерения, но горжусь своей музыкой и не боюсь ни с кем соревноваться. Даже с тобой, о Лучезарный.
– Бросать вызов богу – очень опасно, ведь если ты выиграешь, то обретешь безмерную славу. И наказание, в случае если проиграешь, должно оказаться соответствующим.
– Каким же оно будет?
– Я сдеру с тебя кожу живьем. И сделаю это собственными руками. – Проговорив это, Аполлон показал Марсию очень острый кинжал из чудесного металла, ослепительно блестевший.
– Прости, о Лучезарный, – возразил сатир. – Но как я могу быть уверен в том, что суд будет беспристрастным? Ты ведь ничем не рискуешь. А я рискую жизнью, мне грозит страшный конец.
– Нас рассудят девять муз – верховные божества гармонии, музыки, танца, поэзии, – покровительницы самых высоких проявлений, единственные, кто может сопрячь мир смертных с миром бессмертных. Их количество нечетно, а посему ничьей не выйдет.
Марсия столь увлекла возможность соревноваться с богом, что он ни о чем другом не подумал и принял условия поединка. Или, быть может, бог, ревностно относившийся к своему искусству, отнял у него разум. Соревнование состоялось на следующий день, с наступлением вечера, на вершине горы Аргей, белой от снега.
Первым выступил Марсий. Он поднес к губам флейту из тростника и заиграл самую сладостную и звучную мелодию. Птичьи трели умолкли, даже ветер стих, и на леса и луга опустилась полнейшая тишина. Лесные создания восхищенно слушали песнь сатира, чарующую музыку, в который были заключены их голоса, все звуки и шорохи леса, серебряное журчание водопадов и звон капель в пещерах, трели жаворонков и плач птицы-зорьки. Эхо многократно усилило и отразило песню на просторах огромной одиноко стоящей горы, и мать-земля дрожала от него до самых сокровенных своих глубин.
Флейта Марсия издала последнюю пронзительную, высокую ноту, угасшую в завороженной тишине.
И тогда настал черед Аполлона. Его фигура была едва различима в пылающем сиянии заката, в руке бога вдруг появилась кифара, пальцы легли на струны, и с них сорвался звук. Марсий знал голос кифары и понимал: у его флейты больше красок, больше тонов, больше пронзительности и глубины, – но инструмент бога содержал все это в одной-единственной струне – это и гораздо больше. Из-под пальцев Аполлона полились рокот моря и грохот грома – с такой мощью, что гора Аргей задрожала до основания, а с крон деревьев с шумом слетели целые стаи птиц. Как только гул угас, задрожала еще одна струпа, потом еще одна, потом еще одна, их голоса смешались, слились в стремительное, страстное дыхание, соединились в хор, звучавший с удивительной ясностью, с величественной силой. Новые звуки пускались вдогонку за предыдущими, а потом сливались воедино, все быстрее и быстрее, переливаясь, как серебряные струи, и слышался в них глубокий голос рога и сияющие всплески высоких нот.
Сам Марсий стоял, околдованный, темные глаза его наполнились слезами, в них застыло удивление и восхищение. Музы без колебаний присудили победу Аполлону. Все, кроме одной, Терпсихоры, покровительницы танца. Ее тронула участь лесной твари, и она не стала присоединять свой голос к голосам подруг, не побоявшись бросить вызов лучезарному богу. Однако ей не удалось избавить от жестокого наказания того, кто посмел вступить с Аполлоном в святотатственное состязание.
Внезапно за спиной бога появились два крылатых гения, схватили Марсия и привязали к большому дереву, а потом опутали ноги, чтобы он не сбежал. Напрасно сатир просил о пощаде. Аполлон спокойно и методично освежевал его, живого, невзирая на крики, – содрал человеческую и козлиную кожу и оставил, обезображенного, истекающего кровью, в лесу, на съедение диким зверям.
Каким образом его сухая шкура оказалась висящей в пещере над источником, носящим имя Марсия, неизвестно; быть может, это всего лишь умелая подделка, автор которой сшил вместе человеческую и козлиную кожу. Но история все равно ужасная, мучительная, и у нее может быть лишь один смысл: боги ревностно относятся к своему совершенству, красоте и бесконечному могуществу. Одна только мысль о том, что кто-то может хотя бы приблизиться к ним, омрачает их и заставляет изобретать ужасные кары для того, чтобы расстояние между ними и человеком навсегда осталось непреодолимым. Однако если дело обстоит так, значит, они боятся, искра разума в нашем хрупком и смертном существе пугает их, наводит на мысль о том, что однажды – быть может, очень не скоро – мы станем подобными им.
На плоскогорье истории цвели пышным цветом, как маки, от которых становились красными луга и склоны холмов; во многих рассказывалось о Мидасе, царе Фригии, попросившем бога Диониса превращать в золото все, чего он касался, и в результате чуть не умершем от голода. Бог забрал у него пагубный дар, но сделал так, что у Мидаса отросли ослиные уши, в память о нелепой просьбе, – этот недостаток царь скрывал под широким колпаком, и знал о нем только цирюльник, но никому не должен был рассказывать, под страхом смерти. Тайна казалась бедняге столь огромной и так жгла язык, что ему страшно хотелось кому-нибудь ее доверить. Он не мог этого сделать, потому что хорошо знал – передаваясь из уст в уста, она вскоре достигнет ослиных ушей царя, и тогда цирюльник решил поведать ее земле. Выкопал ямку на берегу реки и пробормотал в нее: «У Мидаса ослиные уши», – после чего зарыл ее и осторожно убрался восвояси. Однако из ямки вырос тростник, который при каждом дуновении ветра шелестел: «У Мидаса ослиные уши…»
Рассказывают еще одну историю о царе Мидасе. Жил-был один селен, [2]2
В греческой мифологии – старый сатир, наставник Диониса. – Примеч. ред.
[Закрыть]состоявший в свите Диониса и обладавший удивительными знаниями, но заставить его поведать свои секреты представлялось возможным лишь одним способом – угостив его вином, до которого он был большой охотник. И тогда Мидас подмешал вино в воду источника, а селен выпил ее столько, что опьянел, и Мидасу удалось его связать и держать при себе до тex пор, пока тот не рассказал все свои секреты.
Ясно, что в армии в ту нору царил совершеннейший покой. Никто ни о чем не беспокоился, враг не показывался в поле зрения, а жалованье платили аккуратно. Поэтому оставалось время на басни. Однако сто с лишним тысяч человек не могут передвигаться незаметно. И вскоре произошли тревожные события, предвестники того, что поход пробудил огромную силу и разозлил ее. Великий царь в Сузах наверняка обо всем узнал.








