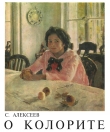Текст книги "Цвет и Контраст. Технология и творческий выбор"
Автор книги: Валентин Железняков
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
В современных цветных фильмах довольно часто используются черно-белые кадры старой кинохроники или же, если этого требует творческое и цветовое решение, черно-белые кадры «вирируются» в какой-либо цвет. Если используется старая кинохроника, то весь материал необходимо заново контратипировать (лучше на цветную пленку дубль-негатив) с тем, чтобы градиент полученного цветного контратипа был близок по своей величине к градиенту основного цветного негатива фильма. В дальнейшем при тиражировании для массовой печати или при переводе фильма на видео это сильно облегчит дело. Если же некоторые сцены цветного фильма снимают на черно-белую негативную пленку, то черно-белый материал необходимо проявлять до такого же градиента, что и весь цветной материал фильма, только в этом случае будет соблюдено некое тональное единство при стыковке этих материалов (грубо говоря, уровень черного и уровень белого у них должен совпадать). Только надо учитывать, что у черно-белой негативной пленки нет маски и для того, чтобы в дальнейшем не возникли проблемы при одновременной печати черно-белого и цветного негатива на цветную позитивную пленку, необходимо снимать черно-белый негатив с заведомо двукратной передержкой. Он будет очень хорошо печататься на цветной позитивной пленке, несмотря на свой непривычный вид из-за повышенной плотности. Таким же способом, т.е. на основе одинаковых градиентов, возможно объединение разных типов цветных пленок в одном фильме (например, «Коdак», «ЛН», «ДС» и какой-нибудь еще). При этом градиенты всех пленок должны быть по возможности приближены к градиенту «Коdак». Только в этом случае возможно тональное единство, что является очень важным параметром фильма.
Когда говорят, что одной из главных задач, стоящих перед кинооператором или фотографом, является определение экспозиции, то это совершенно неверно. Экспозицию определяют не на съемочной площадке, а во время пробы пленки. На съемочной площадке требуется совсем другое – сделать так, чтобы экспозиция очередного кадра не отличалась от выбранной на пробе, т.е. той, которая была определена заранее раз и навсегда. Недаром говорят, что каждый кинооператор стремится к тому, чтобы все кадры фильма печатались на одном свету, т.е. фактически все имели бы одну, одинаковую экспозицию.
Во время пробы пленки определяют экспозицию, необходимую для того, чтобы на данной пленке в негативе получить требуемые плотности. Это зависит от силы освещения (яркости), светочувствительности пленки, градиента обработки, относительного отверстия объектива, щели обтюратора и частоты съемки. Далее, во время ежедневных текущих съемок надо поддерживать такие условия, чтобы плотности негатива соответствовали тем, которые были получены во время пробы, а это возможно только в том случае, если экспозиция (т.е. количество освещения, получаемое светочувствительным материалом) будет постоянной. По крайней мере на тех участках съемочных объектов, которые идентифицируются со средне-серым полем (18%). Разумеется, задача эта в практическом плане совершенно недостижима – слишком много факторов на съемочной площадке и вне ее, которые не позволяют этого добиться – но стремиться к этому надо. Фотографическое качество негатива – это есть возможно более полное приближение негативов всех кадров фильма к ранее выбранному эталону с ранее выбранной на пробе экспозицией. Правда, некоторые опытные кинооператоры сознательно идут на отклонения в негативе для достижения определенных художественных эффектов, но это уже «высший пилотаж», и в этом, помимо всего прочего, сказывается индивидуальный почерк мастера.
Чтобы закончить характеристику хорошего негатива, рассмотрим таблицу 5, в которой приведена структурно-количественная модель сквозного кинематографического процесса, включая перегонку на видеоноситель и просмотр окончательного изображения на телевизионном мониторе.
Таблица 5
Структурно – количественная модель сквозного кинематографического процесса
1. Объект съемки: равноконтрастная шестипольная серая шкала, интервал яркостей которой равен оптимальному визуальному контрасту (ОВК). (картинки пока нет, на днях повесим)
2. Негатив: снятый на пленке, соответствующей балансной норме освещения (Т0цв) и проявленный в стандартном режиме до градиента =0,55 (среднее значение по слоям). При этом DD»0,165 (картинки пока нет, на днях повесим)
3. Позитив: отпечатанный с этого негатива на средних значениях светового паспорта (25-25-25) и проявленный в стандартном режиме так, чтобы сквозная гамма соответствовала условиям правильного тоновоспроизведения. (картинки пока нет, на днях повесим)
4. При перегонке на видеоноситель: установка телекино настраивается по негативу серой шкалы, при этом регламентируется значение видеосигнала каждого поля шкалы в единицах «IRE» (картинки пока нет, на днях повесим)
5. При просмотре на мониторе: надо настроить его таким образом, чтобы яркость каждого поля серой шкалы соответствовала определенной величине яркости «EV». (картинки пока нет, на днях повесим)
Примечания: 1. Просмотровый монитор настраивается в темной комнате.
2. Для правильного тоно– и цветовоспроизведения на всех стадиях сквозного процесса необходимо строго соблюдать все перечисленные выше параметры трех основных полей – 1, 4 и 6.
На этой таблице весь сквозной кинематографический процесс представлен в виде взаимодействия градиентов и оптических плотностей, но способен ли кинооператор в процессе творчества, работая над композицией и освещением кадра, представлять будущие тональные соотношения и насыщенности цветов в виде плотностей? Надо ли учиться «думать плотностями»? Скорее всего, нет. Прежде всего надо научиться соотносить различные участки объекта с визуально воспринимаемыми участками равноступенной серой шкалы, т.е. думать не математическими выражениями оптических плотностей, а оттенками серого, светло-серого, белого, темно-серого и черного. А затем ясно представлять себе, какие участки объекта следует передавать белым, какие серым, а какие черным, независимо от их цветности. Светлотные различия важнее.
После того как мы определили главные признаки оптимального (или, как говорят, «хорошего») негатива и позитива, на нескольких конкретных примерах разберем разные варианты экспонометрических расчетов. Посмотрим, как следует изменять условия экспонирования для того, чтобы светлотные различия цветных участков в изображении зрительно воспринимались точно так же, как в объекте, но при этом негатив всякий раз оставался добротным, т.е. печатался на оптимальном номере копировального света (илл.43).
Аналогом готового изображения, светлотный контраст которого, как выяснилось, не может быть больше величины ОВК, служит равноступенная серая шкала.
Визуально воспринимаемые яркости полей этой шкалы соответствуют светлоте различных участков изображения и, следовательно, светлоте предметных цветов этих участков.
Оптимальный визуальный контраст, если выразить его в виде инструментально измеренных яркостей, выглядит так: «0» – это ключевая яркость (mid tone). Обычно это светлые полутени на лице и рефлексы. «+1» – яркость в 2 раза ярче ключевой. Это света на хорошо освещенном лице. «+2» – это яркость белого, но с проработкой фактуры (например, белого костюма). Эта яркость в 4 раза больше ключевой, т.е. +2 stops, или 2 деления диафрагмы объектива. «-1» – яркость в 2 раза меньше ключевой. Обычно это тоже полутени или тени на лице. «-2» – это яркость в 4 раза меньше ключевой (тени на лице). «-3» – это густые чистые тени или черное, но с проработкой фактуры. Эта яркость в 8 раз меньше, чем ключевая, которую мы обозначили как «0». Здесь показано, как меняется светлота и насыщенность предметных цветов объекта в зависимости от условий экспонирования (по лицу или по фону). Хорошо видно, что при выборе условий экспонирования надо всегда учитывать особенности зрительной адаптации при восприятии снимаемого объекта, контраст которого превышает величину ОВК.
Итак, если опорный белый для пленки или телевизионной камеры выбран правильно, то главным условием верной передачи предметных цветов объекта является такое размещение этих цветов на экспозиционном уровне, которое соответствует визуальному восприятию этих цветов в объекте по светлоте. В этом случае изображение будет восприниматься так же, как сам объект. А это и есть условие психологически точного подобия. На этом заканчивается технологическая часть экспонометрии. Что касается сознательных отклонений от технологии, для достижения особой выразительности, то это относится уже к области творческого выбора.
Разбеливание предметного цвета на участках цветного изображения, например в бликах и светах, широко используется в живописи. Это полностью соответствует визуальному восприятию предметных цветов. Поэтому в кино, фотографии и телевидении тоже не стоит избегать этого приема, относя его к искажению цвета.
На картине А.Дюрера «Павел и Марк» красный и зеленый хитоны в бликах имеют один и тот же цвет. Это не вызывает у зрителя недоумения, хотя в тени эти два костюма имеют разный цвет. Дюрер фактически вывел блики в разбелку, т.е. за пределы уровня «белого», но так как фактуры цветные, а не белые, то цвет все-таки остался, хотя и сильно изменился.
Как уже говорилось, это выражает закономерность психофизиологического восприятия цветного объекта, когда зрительный анализатор адаптирован так, что тени оказываются как бы в ключевой зоне яркости. Вообще, в нормальном, дневном цветном изображении «ключ» – это полутени и рефлексы, а не света. Именно полутени имеют наиболее полно выраженный предметный цвет, а света и особенно блики всегда разбелены, ведь цвет воспринимается в довольно узких рамках по сравнению с восприятием светлотных различий.
Блики в цветном объекте, особенно цветные блики, могут иметь яркость в 2-2,5 раза выше, чем предполагаемый при расчете экспозиции уровень «белого», и это воспринимается затем в готовом изображении совершенно нормально, т.е. так, как это видел глаз. Но для того чтобы усвоить это, нужна определенная тренировка, надо научиться видеть и понимать свое сетчаточное изображение, отвлекаясь от сложных перцептивных представлений, которые только мешают этому. Как известно, опытные живописцы владеют этим отвлечением в совершенстве. Из этого видно, как восприятие влияет на воспроизведение цвета, как много зависит от выбора: что принять за уровень белого при экспонометрических расчетах. Художественная, а точнее, психологическая проблема в экспонометрии сводится к тому, чтобы определить характер адаптации зрения при восприятии объекта и точно так же адаптировать пленку (а точнее, весь сквозной кинематографический процесс). То, что воспринималось в объекте как «ключевая» яркость (близкая по светлоте к среднему серому), то и на экране должно выглядеть точно так же по светлоте. То, что воспринималось как густая тень, где почти нет цвета, то и на экране должно выглядеть почти черным. А то, что от яркого света почти не имело цвета (например, блики), то и на экране должно быть разбелено, должно почти утратить свой предметный цвет.
В цветном изображении только тогда цвет может быть воспроизведен правильно, без искажений, когда он воспроизводится на том же светлотном уровне, на каком он воспринимался нами визуально. Любые отклонения от этого правила с целью получения художественного эффекта не могут быть случайными, а должны носить осознанный и целенаправленный характер.
Широко известен творческий прием съемки днем «под ночь», так называемая «американская ночь» (Day for night). Он основан на том, что непривычно меняются светлотная и цветовая адаптации пленки. Объект снимают с четырехкратной недодержкой, при этом белое (например, белый костюм) становится уже не белым, а приобретает «ключевую» светлоту (делается серым). Лицо имеет светлоту в два раза темнее ключевой, т.е. это темно-серый тон, имитирующий густую тень, но с полной проработкой деталей. А густые тени (т.е. то, что визуально воспринималось как почти «черное с фактурой») оказываются в полном провале, но это и требуется при имитации «под ночь». При этом блики на лице от искусственной электрической подсветки усиливают впечатление ночной съемки. Вдобавок из-за отсутствия на объективе конверсионного фильтра Wratten 85 (при съемке на натуре на пленке, сбалансированной под полуваттный свет) лица практически получаются почти серыми, бесцветными, а фон голубоватым.
Необходимо обратить внимание на одно правило, относящееся к воспроизведению цветов максимальной насыщенности: любой насыщенный цвет может быть воспроизведен системой только в том случае, если экспонометрический режим обеспечивает ему (за счет величины зональных плотностей в негативе) такую же светлоту в изображении, с которой он визуально воспринимался на объекте. (илл.44,цв.).
Проще говоря, насыщенные зеленый и красный должны экспонироваться в ключевой зоне, желтый – в зоне, расположенной на характеристической кривой между ключом и белым. А фиолетовый – в зоне, расположенной между ключом и черным. Если не соблюдать это правило, то неизбежно наступит искажение цвета за счет изменения его светлоты.
Несовершенство цветоделительных процессов, недостатки маскирования и субтрактивного синтеза в позитивном изображении, т.е факторы, считающиеся ответственными за цветоискажения, – все это меркнет рядом с искажениями, которые вносит неверная тональная адаптация. Вот в каком смысле можно понимать слова Н.Крымова о том, что «только тот цвет виден, который освещен». Правда, по сравнению с живописцами у нас в запасе есть одна техническая возможность, о которой следует упомянуть.
Когда в начале этой главы мы говорили о том, что каждый цветной участок снимаемого объекта в результате адаптации зрения занимает строго свою светлотную нишу, свой светлотный уровень, то в качестве примера приводили случай, когда мы наблюдаем цветные легковые машины то сверху, на фоне темного мокрого асфальта, то снизу, на фоне светлого пасмурного неба. В каждом из этих случаев светлота и насыщенность цвета машин воспринимаются совершенно по-разному, так как при этом создаются разные условия для адаптации глаза. Однако на пленке мы можем получить такой эффект, который не может увидеть глаз, если не будет менять угол зрения. Для глаза цвет машин с верхней точки размещается в светлотной зоне, расположенной между ключом и белым, а с нижней точки, из-за адаптации глаза по яркому небу, тот же самый цвет машин перемещается в другую светлотную зону, которая расположена между ключом и черным, и поэтому мы не можем увидеть этот цвет таким же, как в первом случае. С пленкой происходит абсолютно то же самое, если ее в обоих случаях адаптировать так же, как автоматически адаптировался глаз. Но ведь можно, снимая с нижней точки на фоне пасмурного неба, настолько открыть диафрагму, чтобы плотности, которыми выражается цвет машин, переместились по характеристической кривой вверх, ближе к «белому», и в позитиве получился бы точно такой цвет, каким он воспринимался с верхней точки, т.е. ярким и насыщенным. Пасмурное небо при этом совершенно разбелится и потеряет фактуру, но это не так важно, если в данном случае для нас важнее правильно передать цвет машин.
Этот прием широко используется при съемке зимой в пасмурную погоду, когда яркости снега и пасмурного неба выводятся за уровень белого (они как были белыми, так ими и останутся потом на экране), зато лица персонажей и костюмы тоже перейдут в следующую яркостную зону, ближе к белому, и их цвет передастся более правильно по отношению к тому, что мы знаем о цвете костюма. Такого же результата можно добиться и на телевизионной камере, если отключить автомат экспозиции и открыть диафрагму объектива вручную.
Итак, экспонометрические расчеты состоят из решения двух задач: 1) художественной и 2) инженерно-технической. Именно в таком порядке они и решаются. Любой компьютер способен решить лишь вторую задачу, потому что решение первой вложено в его алгоритм как некая постоянная величина, исключающая свободу художественного выбора. Этого не избежали конструкторы устройств для автоматического определения экспозиции. Таков типичный путь решения вопросов массовой культуры – поднять техническими средствами уровень решения проблемы до среднего профессионального, и было бы нелепо возражать против этих попыток, поскольку за ними стоят самые благие намерения. Но не следует все-таки забывать, что индивидуальный изобразительный почерк обязательно предполагает определенное нарушение средней нормы, и каждый художник сам выбирает для себя пределы этих нарушений.
В заключение рассмотрим различные характеристические кривые пленок, на которых снят и отпечатан один и тот же объект, с контрастом, равным ОВК (илл.45 а,б).

Илл. 45 а (1, 2,3) На графиках показано, как влияет контратипирование на качество изображения.
На каждой кривой нанесены точки, означающие: «уровень черного» (-3 Stop) – точка 1; «ключ» (0) – точка 2; «света на лице» (+1) – точка 3 и «уровень белого» (+2) – точка 4. С оригинального негатива напечатан позитив, а затем негатив контратипирован, и с него вновь отпечатан позитив, илл.45 а. То, что происходит с изображением, хорошо видно на кривых. Это еще один довод в пользу строгой технологии. На илл.45 б показано расположение основных экспозиционных точек на характеристических кривых разных негативных пленок. Цветовая температура при съемке не всегда соответствовала балансовой норме пленки.

Илл. 45 б (1, 2,3) На графиках показано, как влияет изменение Тцв на качество изображения.
Объектом съемки служили серая шкала и лицо актрисы на крупном плане: белые и черные детали костюма были в кадре, т.е. все четыре основные точки экспонометрических замеров контролировались при съемке. А затем их послойные плотности в негативе и позитиве измерялись денситометром «Макбет» и наносились на характеристические кривые. Для наглядности в кадр был введен также кусок черного бархата; видно, что его послойные плотности в негативе не совпадают с уровнем черного или пределом цвета.
Что же касается точки уровня черного в позитиве, то видно, что она располагается на характеристических кривых довольно далеко от трех других основных точек. Получается, что в зоне большого контраста, несмотря на ее солидную протяженность, располагается не так уж много градаций цветного изображения. Ведь в позитиве вся эта зона (от ключа до черного) – довольно темная и цвет в ней тоже темный, сильно искаженный с колориметрической точки зрения. Отсюда очень важный вывод: изображение, которое должно иметь активный, яркий, цвет, должно быть достаточно светлым.
Как уже отмечалось, экспонометрия при съемке телевизионной камерой основывается на тех же принципах, которые рассматривались выше. Оптимальный визуальный контраст (ОВК) так же лежит в основе передачи тонов снимаемого объекта, а автоматические экспозиционные устройства телевизионных камер, как и зрительный анализатор человека, в качестве критерия для величины светлотной адаптации берут самые светлые участки изображения на матрице камеры (т. е. уровень белого). Что касается уровня черного, то он так же отстоит от уровня белого на 5 ступеней диафрагмы при оптимальной настройке камеры. Наличие «зебры» на дисплее видоискателя помогает оператору контролировать уровень сигнала в самых ярких участках изображения. «Двойная зебра», которой снабжены современные камеры, очень удобна, потому что одну «зебру» можно установить на 70 IRE (для съемки лиц), а другую на 100 IRE для съемки других кадров. «Двойная зебра» частично выполняет функцию монитора уровней сигналов, осциллоскопа. Кроме того, изменение настройки камеры при помощи специальной карты позволяет менять градиент изображения в довольно широких пределах от контрастного лунного пейзажа до мягких сумерек над озером. Информация о параметрах настройки камеры, сохраняющаяся на карте, позволяет быстро вернуться к первоначально выбранному контрасту изображения, если это потребуется для сохранения тонального единства, несмотря на то, что режим настройки в процессе последующих съемок был изменен. Как и в фотографии, изменение сквозного контраста изображения – это довольно сильное выразительное средство, и им нужно пользоваться умело.
ГЛАВА 5. ОСВЕЩЕНИЕ
Значение освещения для передачи цвета трудно переоценить. В сущности, мы и видим только то, что хотя бы как-то освещено, да и сам цвет – это тоже следствие взаимодействия освещения и зрения. Гегель писал в своей «Эстетике»: «Если мы теперь спросим, каков тот физический элемент, которым пользуется живопись, то это – свет как всеобщее средство видимого проявления предметности вообще»36.
В эстетике, где свет и цвет выступают как самостоятельные и независимые друг от друга эстетические категории, проблема взаимосвязи света и цвета имеет свои особенности. Это подтверждается, прежде всего, разделением изобразительного искусства на графику, где основным элементом выразительности служит тон в виде контраста темного и светлого, и на живопись, где действительность изображается через многоцветье красок. Примерно так же соотносятся между собой черно-белое и цветное кино, фотография и телевидение. Если же черно-белое изображение подвергнуть более глубокому анализу, то можно прийти к выводу, что и посредством черного и белого можно выражать цветовые качества предметной действительности. Но при этом цветное изображение так же имеет дело не только с цветом, но и со светлотными различиями: свет и цвет как бы вступают между собой в различные взаимоотношения и нередко как бы борются за право играть главную роль в арсенале художественных средств. До сих пор в лексиконе художников, когда речь идет о живописи, часто понятию «свет» противопоставляется понятие «цвет». При этом первому обычно отводят главную роль в моделировке объемной формы предметов и создании эффектов определенной глубины, а второму приписывают функцию преимущественно украшательскую, декоративную. Например, в истории живописи длительное время цвет рассматривали как свойство поверхности, а свет как что-то чисто внешнее, накладываемое на эту поверхность. И сегодня многие по-прежнему убеждены, что дело обстоит именно таким образом. В действительности же цвет точно так же, как и свет, участвует в моделировании формы и в построении пространства, и светотень не может быть бесцветной.
Обычно мы рассматриваем свет как антипод тени. Художники раннего Возрождения в Италии создавали свои сюжетные композиции всегда как бы в залитой светом среде. Они не чувствовали, что мир вообще погружен во мрак и лишь различные источники света делают его видимым. И только после открытия и использования «чиароскуро» это стало очевидным для большинства художников. Караваджисты и вслед за ними Рембрандт совсем иначе трактовали свет, чем художники раннего Возрождения. Свет у них выступал в роли формообразующего элемента, как средство выразительности.
Леонардо да Винчи рекомендовал художникам располагать источник света таким образом по отношению к оси зрения, чтобы светлый фон размещался за теневой стороной предмета, а темный – за светлой. Дальнейшее развитие этого правила привело к возникновению известного приема – прикрывать источник света каким-либо предметом, находящимся между ним и зрителем. Этот прием широко использовал в своих картинах Латур. Однако подобное правило не стало незыблемым. Джошуа Рейнольдс в своих лекциях, читаемых студентам Академии, говорил: «Если бы Леонардо дожил и увидел то превосходное и великолепное впечатление, которого впоследствии добились как раз обратным приемом – присоединением света к свету, тени к тени, – то он, без сомнения, был бы этим восхищен»37.
И все же художники-живописцы чаще всего изображали предметы при боковом освещении – оно наиболее четко выявляет объемную форму, фактуру, пространство и цвет. При боковом освещении предмет делится на две части – освещенную и затененную, которые находятся между собой в сложном взаимодействии. С одной стороны, они как бы отрицают друг друга, а с другой – стремятся к единству, основой которого служит принадлежность общей объемной форме.
Все современные виды изобразительных искусств, несмотря на различную технику воспроизведения видимой действительности, подходят одинаково к проблеме освещения. Поэтому многовековой и необыкновенно обширный опыт живописи в этом деле всегда будет полезен для фотографии, кино и телевидения. А.Головня в известной книге «Свет в искусстве оператора» писал: «Именно художественные задачи определяют сейчас техническую систему освещения. Установка света только для общей видности объекта и возможностей экспонирования устарела и никого сейчас не удовлетворяет. В современном художественном фильме каждый кадр является как бы картиной, изобразительная конструкция которой слагается из подбора тональностей и фактур декораций и костюмов, реквизита, мебели и соответствующего их освещения. Освещением подобранных фактур в кадре создается заданная гармония тонов, образующих изображение»38.
Лучше не скажешь, но только добавим, что давно замечена одна интересная закономерность: каждый начинающий профессионал, приступая к изучению освещения в кинематографе, неизбежно проходит весь путь, которым шел мировой кинематограф в освоении света как выразительного средства. Видимо, иначе в искусстве и не бывает.
Впрочем, в искусстве развитие не всегда идет от простого к сложному, эволюционизм в изложении истории искусств порой только затемняет суть дела. Говоря о системах операторского освещения при съемке, не следует представлять себе дело таким образом, будто лет 80 тому назад, т.е. в 20-е годы, вся творческая технология была на примитивном уровне. Нет. Во-первых, светотехническое оборудование, которое для этого использовалось, вполне соответствовало задачам освещения в немом кинематографе, а во-вторых, изобразительные результаты, которые были достигнуты лучшими кинооператорами немого кино, прочно вошли в арсенал мирового кинематографа как выдающиеся достижения. Недаром, вспоминая изобразительную культуру кино и фотографии 20-х годов, мы чувствуем, что многие изобразительные приемы утрачены, в том числе и по линии выразительности освещения. Хотя осветительная техника, которая сегодня используется, не идет ни в какое сравнение с тем, что было в немом кино. Можно сказать больше: великолепная современная техника в неумелых, нетворческих руках парадоксальным образом приводит к примитивному результату, и сегодня мы это ясно видим на примере телевидения. Бездумное использование осветительных приборов рассеянного света, которые освещают объект в студии со всех четырех сторон, для того чтобы можно было снимать несколькими камерами с разных направлений, привело к тому, что такую световую атмосферу, строго говоря, даже нельзя назвать светом. Это просто техническая равномерная засветка всех поверхностей и всех объемов. Стоит вспомнить, что существует «чиароскуро», которое выражается в том, что на любом освещаемом предмете всегда есть света, тени, полутени, блики и рефлексы. В гармоничном единстве этих признаков освещения и есть весь смысл освещения, как оно понимается в изобразительном искусстве последние 600 лет. Ради того, чтобы можно было ставить телекамеры с любого направления, освещением уничтожаются тени, полутени, блики и рефлексы и, таким образом, уничтожаются объем и фактура снимаемых объектов. Изображение становится предельно невыразительным и плоским, оно выполняет только информационную задачу.
Надо сказать, что в свое время кинематограф тоже переболел этим. Я хорошо помню время, когда считалось, что образность, выразительность изображения мешает объективному, честному и беспристрастному изложению сюжета. Этот резкий поворот на сто восемьдесят градусов не оправдал себя. Ведь кино – разное, и изображение должно быть всякое. А телевидение, которое на вызов времени по-своему отвечает тем, что больше всего боится быть пристрастным, скоро поймет, что оно, прежде всего, должно быть разным. И тогда придется вспомнить об образности и выразительности изображения – одного из основных компонентов передачи. Тогда и пригодится хорошо забытое старое, о котором пойдет речь в следующем разделе этой главы.