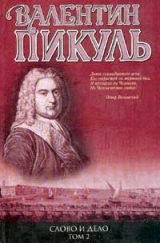
Текст книги "Слово и дело. Книга 1. Царица престрашного зраку (др. изд.)"
Автор книги: Валентин Пикуль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
– Не бойся, народ. Сама благодать снисходит с небес, воззря на кротость и милосердие государыни Анны Иоанновны…
И напрасно толковал на улицах народу ученый Татищев:
– Сие не знамение свыше, а натура стран полярных – Aurora bolearis! Сияние таково из селитренных восхождений происходит, и в странах нордских его столь часто видят, что никто не боится…
Но русский народ не верил – ни Феофану, ни Татищеву. Ни попам, ни ученым.
Сердце народное – Москва – чуяло беду горькую за всю Россию.
– Беда нам, беда! – волновались на улицах. – Быть крови великой… Выбрали дворяне царицу не нашу, а каку-то курвянскую!
* * *
Рвали кони в пустоту ночи, звонко и безмятежно стыли леса.
Самодержавие победило, и Бирен мчался на Москву.
Рядом съежилась горбунья-жена, да сверкали из глубин возка глаза митавского ростовщика Лейбы Либмана.
– Гони, гони! – торопился Бирен. – Скорей, скорей…
В звоне колоколов наплывала на них утренняя Москва.
Эпилог
А пока вельможи на Москве спорили и бумаги писали —
«В Рязани при воеводе подъячий нерехтец Крякутной фурвин зделал как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, от него сзделал петлю. Сел в нее, и нечистая сила подняла его выше березы, и после ударила его о колокольню. Но он уцепился за веревку, чем звонят, и остался тако жив. Его выгнали из города, он ушел на Москву, и хотели его закопать живого в землю или сжечь».
Летопись третья
«Императрикс»
Да здравствует днесь императрикс Анна,
На престол седша увенчана…
Восприимем с радости полные стаканы,
Восплещем громко и руками,
Заскачем весело ногами
Мы – верные гражданы!
Песнь сочинена в ГамбургеТредиаковским (1730)
Глава первая
Только было собрался Иоганн Эйхлер пофлейтировать – тут и начались страхи его. Вперли дюжие мужики бюро дубовое, железом крепленное. Треснули паркеты под тяжелиною.
– На что мне стол? – удивился Эйхлер.
Но вошел следом Розенберг, а за ним кузнец волочил цепь. Покороче той, которою был Эйхлер прикован когда-то к постели лысой старухи графини. Да пошире, да пострашнее!
– Секретов не ведаю, – отбрыкивался Эйхлер. – Я человек свободный, в чине титулярном… Не губите меня!
– Счастье имеет различные пути, – учтиво отвечал ему Розенберг. – Смиритесь, и быть вам после в чине коллежском…
Холодное железо обхватило лодыжку музыканта. Протянулась цепь от Эйхлера к столу: теперь далеко не разгуляешься.
– Зачем в ковы берут? – убивался Иогашка, катаясь по полу. – Не опасен я! Что знал о Долгоруких – все уже выдал. А коли еще вспомню, так донесу обо всем, не таясь…
А кузнец знай себе ухал молотом. Плющилось ржавое железо, в кольце сжалась нога. Задвинули под кровать Эйхлеру парашку, чтобы не имел нужды человек, и Розенберг потрепал несчастного парня по плечу дружелюбно.
– Велено, – объявил, – носить вам еду от стола вице-канцлера. А вина и пива подавать, сколько желательно…
Розенберг доложил Остерману, что Эйхлер сидит на цепи.
– Вот и хорошо, – резво поднялся Остерман. – Поезжайте ныне к имперскому послу, графу Вратиславу, и скажите от моего имени, что у меня все готово… Сегодня же я буду иметь важный разговор с императрицей – о Сенате! О Кабинете!
* * *
Близился день коронации, а к нему – загодя – на колокольне Ивана Великого ставили баки с вином, красным и белым, откуда на Красную площадь трубы протянули к двум фонтанам. С такой страшной высоты напор вина будет силен – забрызжет вино ключом! Анна Иоанновна просила показать короны прежние – не понравились они ей, и князю Одоевскому, хранителю палаты Оружейной, сказала:
– Ты, князь Василь Юрьич, обстарайся… утешь меня, вдовицу горькую! Желательно мне алмазов более, блеску бы! Уж порадуй…
Всего собрали 2579 бриллиантов и 28 громадных самоцветов, – не было короны богаче, чем корона Анны Иоанновны! А на Дворе монетном Татищев начеканил впрок несколько мешков с жетонами памятными – из серебра и золота, дабы одаривать ими верноподданных. До коронации же Анна Иоанновна по такой моде ходила: шлафрок на ней был ярко-голубой или светло-зеленый, а голову она красным платком повязывала, на манер бабы крестьянской. Стирать ничего не давала: коли засалится – выбрасывала (охотники найдутся: подберут живо). В апартаментах были ковры и шкуры на полу разложены. Анна Иоанновна полежит, бывало, помечтает и снова ходит… Двери она перед собой кулаками раскрывала (так удобнее)…
Разлетелись двери во фрейлинскую.
– Ну, девки, – сказала, – молчать вам не след… пойте!
Тоненько завела княжна Черкасская (невеста Кантемира), ладком подхватили чернавки Ягужинские и прочие:
Буду приносить жалобу на тех,
Кто меня лишил веселостей тех…
Выдали замуж, бедну, за того —
Всегда не хотела слышать про него.
Было бы с него счастие с того,
Ежели б плевати мне всегда на него…
Анна Иоанновна похаживала, подбоченясь, табакеркой в руках поигрывая, когда сказали ей, что Остерман внизу топчется.
– Андрея Иваныча допускать до моей особы всегда!
Уже прослышано было, что Бирен ничего черного не любит. Вице-канцлер решил угодить императрице: был он сейчас в кафтане бледно-розовом, скрипела тонкая парча, переливаясь муаром, а кривые ноги Остермана облегали чулки цвета фиолетового.
– Будем говорить душевно, открыто, – начала Анна. – Ведаешь, сколь злодеев противу меня объявилось? И власть монаршую, будто овцу поганую, остричь желали… Что делать-то с ними надо! Кого сначала травить – Долгоруких или Голицыных?
Остерман такого вопроса давно ждал:
– Великая государыня, под Долгорукими яма не нами вырыта, с них и следует начинать. Но вот Голицыных покамест возвысить надобно, дабы, поднимая одно семейство, другое уронить способнее!
– Да в уме ли ты? – всплеснула Анна руками. – Дмитрий-то Голицын есть злодей мой главный. Топор по шее его плачет!
– Время топора не пришло. По коронации вам, государыня, еще милости оказать следует. И сильны Голицыны в общенародье, как люди грамотные, за то их и Петр Великий жаловал, не любя…
– А фамилия Долгоруких шатка, – поразмыслила Анна. – Кажись, спихнуть-то их нам и нетрудно станется?
– Однако, – придержал ее Остерман, – невеста государя покойного, княжна Екатерина Долгорукая, брюхата от царя ходит. Утроба пакостная носит в себе претендента на престол российской…
– Блументросту скажу! – зарычала Анна Иоанновна. – Пусть вытравит из нее семя Петрово, семя охальное… Блудница она!
– Но, – закончил Остерман тихо, – покуда Долгорукая плода не произведет, трогать ее фамилию неудобно… Выждем!
Анна Иоанновна села на постель. Тяжко обдумывала.
– Волю взяли, – заговорила, – бумаги писать. Эвон, все так и кинулись на перья, проектов всех теперь на возу не увезти… С Сенатом-то, – спросила, – как быть? Просило меня шляхетство, чтобы сенаторство в двадцать одну персону иметь… Куды их столько?
– Ваше величество, Сенат непременно надобен.
– А верховных министров – куды деть?
– В Сенат! – отвечал Остерман…
– Ой, не мудри, Андрей Иваныч! Выскажись, как на духу.
Остерман чуточку улыбнулся – с лаской:
– Сенату быть, но лучше бы… не быть! Коллегиальное правление, матушка, тем и невыгодно, что при нем всегда противные и разные мнения бывают. А для власти самодержавной необходимо лишь одно мнение – ваше. Единоличная сатрапия всего удобнее, лишь доверенные персоны должны замыслы монарха своего ведать.
– То дельно говоришь, Андрей Иваныч! А… Сенат?
– Сенат можно создать, как и просило шляхетство. Но дел важных сенаторам не давать, дабы несогласий заранее избегнуть.
– А кто же тогда Россией управлять будет? От чтения бумажного я временами в меланхолию впадаю жестокую, справлюсь ли?
И тогда Остерман, побледнев, разом облокотился на стол:
– Кабинет вашего императорского величества, – сказал он.
Анна с постели соскочила, разрыла пуховые подушки кулаками.
– Думаешь ли? – спросила. – Кабинет сей опять Верховным советом обернется! Опять кондиции каки-либо изобретут в пагубу мне!
– Никогда этого не случится, ежели доверите Кабинет персоне, уже не раз доказавшей вашему величеству свою нижайшую преданность…
Остерман только пальцем на себя не показал, но было ясно, чего он домогается, и царица его желания разгадала…
– И ладно, коли так, – приободрилась Анна. – Дела сами к рукам твоим липнут, Андрей Иваныч… Ты уж не дай мне пропасть. А есть ли у тебя человечишка верный, дабы он канцелярию мою тайную берег, яко глаз свой?
– Ваше величество, – снова кланялся Остерман, переливаясь муаром одежд, – коли человек к делам тайным цепью прикован, то поневоле становится верным. А тайно содеянное – тайно и осудится! Велите лишь – и все исполнится по воле вашей…
– Постой, – спохватилась Анна. – А может, в Кабинет моего величества Ягужинского подсадить? Верен и пострадал за нас!
– Шумлив больно, – поморщился Остерман.
– Тогда его в генерал-прокуроры вывесть, пущай над Сенатом глаз свой острит… Око-то у него зрячее!
– Воля ваша, – ответил Остерман. – Но самобытных людей не жалую и вам советую их беречься. Сами ведаете, государыня, каково некрасиво, ежели полк солдат в ранжире одинаков, а един солдат выше всех на голову… Зачем благообразие нарушать?
Остерман ушел, замолкли за стеной фрейлины, пением утомленные. Анна Иоанновна вышла к ним и отвесила каждой по оплеухе.
Заплакали тут девки ранга фрейлинского:
– Да мы более кантов не знаем… Всю тетрадку вам спели!
Тогда Анна Иоанновна распорядилась:
– Теи песни, в которых про чувствия нежные поется, разучить вам новые. Чтобы пели вы неустанно! Да и рукам вашим работу дать надо. Эй, где Юшкова? Раздать пряжу девкам: пусть поют и прядут, чтобы хлеб мой не даром трескали…
* * *
Верховный тайный совет уничтожили, а Сенат – это маховое колесо империи – со скрипом провернулось…
Секретарем же в Сенате стал Иван Кирилович Кирилов, грамотей и атласов составитель, человек в дальние страны влюбленный, о путях в Индию мечтающий. Водрузил он на столе «Зерцало», и в Грановитой палате воссели (не выбранные, а назначенные) лютейшие враги: бойцы за самодержавие и ярые противники его. Сидели они сейчас, глазами к драке примериваясь, а на них из-под зеленого козырька зорко посматривал Остерман: «Ну-ну! Кто кого?..» Еще и дел не начали, как пошло поминание обид прежних, подковыки да затыки, шпынянье и ругань.
Поднялся канцлер Головкин, долго крестился на киоты:
– Учнем, господа, высокий Сенат, с помощью божией. За первое изволила ея величество указать нам о благочестивом содержании православныя веры и прочая, что касается до церкви святой, и станем мы за то благодарить ея императорское величество…
Старик Дмитрий Михайлович Голицын глаза ладонью закрыл, будто молясь безгласно, а про себя думал: «Вот оно, началось… Усердствуя в делах церковных, желает Анна глаза нам замазать, чтобы мы Бирена не замечали!» Тут канцлер велел Кирилову часы песочные перевернуть, чтобы отсчитать по часам время «для мысли». Голицын смотрел, как тихо и равнодушно сеется песок под стеклом, и думал: «Страну экономически подъять надобно, а дела церковные единым росчерком повершить можно… Неужто мне, мужу зрелому, баловством этим заниматься?» И неожиданно встал.
– Пойду, – сказал. – Домой съеду… неможется мне!
В спину ему дребезжаще прозвучали слова Остермана:
– Не желаешь ты, князь, государыне услужить нашей…
Уехал. Остальные сидели и думали. О делах молитвенных. О возобновлении крестных ходов по губерниям. О том, чтобы за колдовство людишек огнем жечь, и прочее. Прошло полчаса…
– Песок весь! – доложил Кирилов. – Кончай мыслить!
Явилась однажды в Сенат и Анна Иоанновна, ей реестр дел зачитали вслух, а она прослушала. И велела тот реестр к себе «наверх» отнести, и тогда рассмотрит. За что сенаторы с мест своих вставали и благодарили покорнейше. И вдруг Анна Иоанновна воззрилась на Василия Лукича Долгорукого зраком престрашным. Попался, дракон старый! Шагнула вперед, руку вытянула и Лукича за нос схватила (а нос у него большой был!).
– А ну встань, Лукич, – велела Анна, и Лукич встал.
Носа сенатора из руки не выпуская, ея величество высочайше изволила вокруг палаты всей обойти. Потом под портретом древним Ивана Грозного остановилась.
– Небось знаешь, – спросила, – чья парсуна висит тут?
– Ведаю, – заробел Лукич, дрожа. – То парсуна древняя царя всея Руси – Ивана Василича Грозного…
– Ах, Грозного? – усмехнулась Анна. – Ну, так я грознее самого Грозного буду… Хотя я и баба, – продолжала она, – но не ты меня, а я тебя за нос вожу. Вас семеро дураков верховных на мою шею собралось. Но я вас всех провела, как и тебя сейчас… за нос! Уйди, Лукич, теперь. Сиди дома тишайше и моего приказа о службе жди… Я тебе новый пост уготовлю – высоко сядешь!
Были перемены и при дворе. Бенигна Бирен заступила место статс-дамы; сестра ее, девица Фекла Тротта фон Трейден, во фрейлины определилась. Пальцы сестер вдруг засверкали нестерпимо – Анна щедро одарила их бриллиантами. Рейнгольд Левенвольде был обер-гофмаршалом, а Густав Левенвольде, более умный, стал обер-шталмейстером (лошадями и конюшнями двора ведал). Но самое главное место при дворе – место обер-камергера, которое ранее занимал Иван Долгорукий, – оставалось пусто, и шептались люди придворные: «Для кого оно бережется?» Не было еще занято и место генерал-прокурора. «Кто сядет? – волновались вельможи. – Неужто опять горлопан Пашка Ягужинский?.. Ой, беда, беда!»
А по Москве, тряся бородой и звеня веригами, вшивый и грязный, прыгал босыми пятками по сугробам Тимофей Архипыч:
– Дин-дон, дин-дон, царь Иван Василич… Православные, почто хлеб-то жрете? – спрашивал он, во дворец пробираясь. – Рази вам, русским людям, хлеб надобен? Вы же, яко волки, один другого сожираете и тем всегда сыты бываете…
Тимофея Архипыча никто не смел тронуть: он считался блаженненьким, утром раненько прибегал на Москву из села Измайловского, и Анна Иоанновна его чтила, сама – своими руками – бороду ему расчесывала. Вовсю гудели колокола, сверкали ризы, императрица молилась истово… «Дин-дон, дин-дон, царь Иван Василич!»
Но однажды, отмолясь, с колен воспрянула – в рост, гневная.
– Не желаю, – объявила, – корону возлагать на себя, пока в доме моем скверна водится – Долгорукие! Но милосерд – на я, пусть все знают о том: семейство князя Меншикова, от коего столь много зла претерпела я, из ссылки березовской вызволяю!
* * *
Бирен выходил в русский мир осторожно – на цыпочках. Для начала в передних показался. Шагнул в другие комнаты. Уже и до лестниц добрался. Но улиц еще стерегся. Ходили там по морозцу люди совсем непонятные ему – мужики да солдаты… И с разлету хлопали двери, в страхе опять затворенные.
– Я знаю русских, – говорил. – Они ненавидят нас, немцев…
Раскладывал пасьянсы и чистил ногти. Длинные, розовые, острые. А по картам выходило: валетные хлопоты и дама под тузом. Нехорошо! От обидной тоски на царицу пробовал было с женою сойтись. Но не получилось. И тогда разбросал он все карты – в злости и ревности:
– О, женская неверность! Залучила меня в эту страну, где все чужие для меня, а сама другого к себе приблизила…
Да, пока он отсиживался в деревне, Густав Левенвольде снова сблизился с императрицей. Теперь он нагло смеялся над Биреном, говоря ему: «Мы же тебя звали! Надо было ехать…»
Лейба Либман тем временем долги курляндские собирал.
– А когда вы, господин Бирен, мне отдадите? – спрашивал.
– Отстань! Отдам позже… – хмурился Бирен.
– Но, сидя взаперти, с чего разбогатеете?..
И вдруг случилось чудо: приполз сиятельный князь Алексей Черкасский да Бирена за руку сразу – хап, да губами ее – чмок, чмок, чмок… Смотрел снизу, словно собака, ласки отыскивая:
– Высокородный господин Бирен! Зачем света московского прячетесь? Не угодно ли ко мне в четверток на блины пожаловать?
Бирена даже в пот кинуло: ему? На блины? К такому вельможе? Да в Митаве-то фон дер Ховен далее крыльца своего не пускал… И Бирен тоже нагнулся, чтобы руку Черкасского поцеловать, но Черепаха застыдился, руку свою спрятал:
– Что вы, сударь… недостоин! Почту за честь…
А вот беседовать им было не о чем.
– Охоту держите? – спросил Бирен, любезничая. – Слышал я, что псарни у вас богатые.
– Только прикажите, – засуетился Черкасский, – и завтра же в вашу честь охоту устроим!
– Благодарю, князь. Однако после дороги…
– Издержались? – подхватил Черкасский. – Так не угодно ли позаимствовать? Или в презент принять? Буду рад…
Бирен посмотрел на него, как кот глядит на необъятную крынку со сметаной: справлюсь ли в одиночку?
– Я, князь, – ответил, подбородок гордо вздернув, – делами денежными не ведаю. Да… На то у меня есть личный фактор Лейба Либман, которого и прошу вас принять завтра…
После князя Черкасского явился канцлер Головкин. Гаврила Иванович спины не ломал, руки Бирена не искал, но предупредил:
– Известно стало, что был у вас князь Черкасский, спешу предостеречь: наговорщик он и хулы разной распространитель. Да и скаредностью известен. Ежели вы в деньгах охоту иметь будете, прошу вас только ко мне обращаться…
– Хорошо, – сказал Бирен. – А нет ли у вас арапчат побойчее, чтобы не воровали? А для жены моей – калмычку бы почище…
Головкин обещал все исполнить. Потом притащился фельдмаршал заика Трубецкой, и Бирен вдруг почувствовал, что обрел силу:
– Я устал. Пусть фельдмаршал немного обождет…
К мужу вошла горбатая Бенигна, шепнула на ухо:
– Эрнст, соберись с духом. Перемени парик и натяни перчатки. Тебя желает видеть его величество – самоедский король!
– Какой?
– Самоедский…
Раздался треск в дверях, и вошло чудовище… О, ужас! На длинных ногах, обтянутых узкими рейтузами, покоился круглый, как арбуз, живот. А почти над самым животом росла голова. Голова умника: лоб громадный, в шишках, глаза блестят, бородка острая, седая – словно у герцога Ришелье… Это странное чудовище расшаркалось перед дамой, предъявив владетельные грамоты:
– Мое королевство на острове Соммерс, а титул короля заверен императором Петром Великим, кроме того, я – магистр богословия.
Бирен опешил, но с грамот свисали подлинные печати.
– Проследуем же к императрице, – склонился он учтиво…
Анна Иоанновна, увидев «короля», закричала:
– Лакоста! Ах ты старая песошница! Как рада я, что ты явился. А то мне скушно без шутов… Ну-ка распотешь меня!
Бирен растряс в руке душистый платок, зажал им нос:
– Вонючий паук! Как ты смеешь портить воздух в присутствии ея величества? А я, осел, поверил твоим грамотам… Как ты, подлый дурак, попал во дворец?
– Да все через вас, через умников, – отвечал Лакоста, а царица, довольная шутом, хохотала. – Трещать же мне велел великий Блументрост. И можно сдерживать ревность, злость, отчаяние, зависть. Но только не это… Ваше величество, – поклонился шут Анне, – королю за все, что он сделал, полагается достойное!
Бирен возвратился в свои покои. А в узком проходе дворца (не избежать, не разойтись) шагал прямо на него, стенки обтерхивая, Алексей Жолобов… Человек ужасных нравов! Кулаками дрался, стулья из-под Бирена нагло выдергивал. И вот – встретились…
– Хорошо тогда сапоги мне вычинил, – сказал Жолобов Бирену с усладой в голосе. – Опосля тебя долго еще трепал… И верно, что приехал ты, гнида, на Москве сапожники завсегда нужны!
Бирен огляделся: «Какое счастье, что никто не слышит…» И побежал от митавского знакомца прочь. А в спину ему – хохот:
– Зачем спешить-то? У меня и эти сносились… Почини!
Бирен бомбой влетел в гофмаршальские комнаты.
– Дружище, – сказал, – а какое место занимает Жолобов?
Рейнгольд Левенвольде встал и оглядел себя в зеркалах:
– Жолобов – президент статс-конторы… Что тебя взволновало?
– Добрый Рейнгольд, – взмолился Бирен, – не могу я видеть этого негодяя при дворе. В твоей власти запретить ему…
– Ты плохо понимаешь мою власть, – ответил Левенвольде. – Я ныне кое-что да значу… Вот и сегодня, помнится, в Сенате искали человека на иркутское губернаторство? Могу услужить тебе: Жолобова не будет не только при дворе, но даже в Европе…
Вечером Бирен уже зевал, пресыщенный, когда вбежал в покои Лейба Либман с лицом, искаженным в растерянности:
– Боже! Мы совсем забыли о фельдмаршале Трубецком!
– Как? – подскочил Бирен. – Он еще не ушел?
Горбатая Бенигна послушала полночный бой часов:
– Хоть он и фельдмаршал, но разве можно быть таким настойчивым? Не пускай его сюда, я уже раздета…
Бирен открыл двери, и спина русского фельдмаршала согнулась в потемках перед ним надвое, переломленная в поклоне.
– Ну, сударь, – спросил Бирен, – что вам угодно?
– Явился почтение свое вашей особе свидетельствовать…
– А-а-а, – загордился Бирен. – Это очень хорошо. Только те, кто желал оказать почтение, еще раньше вас пришли…
И двери захлопнул. Трубецкой сыскал Лейбу Либмана, просил выручить. Митавский ростовщик был догадлив.
– Вы опоздали, – пожалел он боярина. – А теперь, видите, какая скопилась очередь к моему господину?
И показал фельдмаршалу список долгов, собранных им с курляндцев. Трубецкой по-немецки, да еще без очков, ничего не понимал. Разглядел только – цифры, цифры, цифры…
– Запишите и меня в сей брульон, – попросил, вытягивая кошелек с золотом. – А вас я не обижу… Сколько дать?








