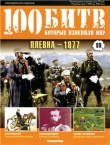Текст книги "Баязет"
Автор книги: Валентин Пикуль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Время обеда Никита Семенович назначил на шесть часов вечера. Но, когда офицеры явились в парадный шатер, разбитый перед валом крепости, Клюгенау жестоко высмеял их точность:
– Господа, вы разве настолько голодны? Приезжать к столу в назначенный час – верх бестактности по восточным обычаям. Идите обратно по казармам и возвращайтесь хотя бы через час. Чем важнее гость, тем дольше он должен заставить хозяев поджидать себя…
Чтобы не ударить лицом в грязь, офицеры опоздали на целых полтора часа и опять были первыми. Но вскоре показались и гости, окруженные толпою слуг, которые несли за ними мягкие сиденья, тазы, опахала и неизбежные кальяны. Когда гости прошли в шатер, только тогда – не раньше! – перед ними появился Хвощинский.
В краткой речи он сказал о благородстве целей, которые преследует Россия в этой войне за освобождение болгар, обещал жителям Баязета спокойствие и защиту и закончил речь длинной цитатой из Корана.
– Мы уважаем вашу веру, – сказал он, – но нам непонятно, как вы, мусульмане, свято чтящие Коран, сами же и нарушаете одну из его заповедей. Война противу неверных, как вы нас называете, Кораном запрещена, ибо вы, мусульмане, будучи слабее и малочисленнее христиан, подвергнете тем самым себя и свою веру опасности быть истребленными до конца…
В продолжение своей речи Хвощинский сидел перед турками на стуле, а они слушали его стоя. Мало того: на почетное место, как раз напротив старшего эфенди, он посадил прапорщика Латышева (как смеялись потом, за его отменную скромность). Однако в ответной речи мюльтезим Баязета, неряшливый старик с уродливым шрамом на черепе, сказал примерно следующее:
– Мы, слава аллаху, не напрасно прожили свою жизнь, ибо под старость имеем счастье созерцать тот божественный свет, который исходит от лица прекрасного Хвощин-паши, а это самое большое удовольствие из всех удовольствий, какие могут быть известны правоверному. И – да велик аллах! – на моих глазах сбывается пророчество Магомета: османы будут побеждены христианами, а вскоре затем последует конец вселенной!..
Гостей оделили богатыми подарками (особенно радовали турок русские меха), после чего пригласили к столу. Усаживаясь рядом с кадием, Некрасов спросил его:
– Скажите, почему вы не защищали Баязет?
Хитрый судья ответил не сразу:
– Карс знаменит у нас крепостью своих стен, Эрзерум – храбростью жителей, а Баязет славен хорошенькими женщинами. Какой же вы хотели от нашего города защиты?..
Сначала подали чай в маленьких чашечках. Потом денщики-мусульмане, одетые в новые мундиры, внесли на подносе громадную гору белоснежного риса, напоминающую по форме очертания Арарата, в вершину которого был воткнут русский флажок, и это, видно, опечалило турок.
– Да, скоро конец вселенной, – печально завздыхали турки и, вконец отчаявшись, стали есть рис не руками, а вилками.
На столе появились ароматные приправы-хуруши.
Облитые миндальным соусом фазаны, варенные в меду цыплята и, наконец, как лакомство, подали тушеное мясо новорожденного теленка.
– Просто жаль все это пахтать без водки, – огорчился Ватнин и незаметно куда-то вышел; за ним под каким-то предлогом ненадолго удалился Штоквиц, следом потянулись поодиночке и остальные.
Глаза гостей уже затуманились от сытости, они быстро облизывали пальцы, масло стекало с их подбородков на дареные меха и халаты синего шелка. Но вот на столе опять быстрая смена блюд: вяленые апельсины и миндаль, обсыпанный сахаром, рахат-лукум, халва и мороженое…
На следующий же день в Баязете можно было наблюдать такую картину: по улицам пылили стада овец, турки таскали узлы, громыхали арбы, груженные домашним скарбом, – это мусульмане, убедясь в безопасности, разбирали обратно по своим домам имущество, спрятанное у армян и евреев. Иногда слышались признания такого рода:
– Спасибо тебе, Марук, – кланялся турок армянину. – Ты сделал добро мне, и я отплачу тебе. Вот скоро придет Фаик-паша, и вас будут грабить. Но ты не бойся, Марук: я тоже приму твое добро в своем доме!
В этом зловещем «скоро» было что-то странное, во что не хотелось верить.
6
Некрасов не выдерживал, как правило, первым.
– Восточная нега, – говорил он, устраивая возню в потемках. – Карафины с благовонными мастиками и страстные жены в шальварах… Фонтаны и кальяны! Минареты и шербеты! Одалиски и сосиски!.. О-о, господа проклятые поэты! Доколе же вы будете обманывать бедных обывателей? Нет, я больше не могу – пойду спать на крышу…
Забрав одеяло с подушкой, он уходил. За ним поднимался Штоквиц и, зажигая свечи, освещал офицерскую казарму. Совершая быстрые перестроения, клопы целыми легионами спешно покидали поля кровавых битв. Однако на смену им с воинственным шуршанием выползали неорганизованные толпы тараканов. Варварские набеги продолжались всю ночь; из жуткого мрака, озаряемого пламенем спичек, раздавались вопли истязуемых, и к рассвету в казарме оставался один лишь барон Клюгенау, который уверял, что его «никто не кусает».
– Вам, казакам-то, на Зангезуре да в палатках хорошо, – позавидовал как-то Евдокимов. – А знаете ли вы, что значит красить стены? Если не знаете, то пойдемте – я вам покажу.
В турецкой пограничной казарме, где разместились солдаты Крымского батальона, одна стенка была грязно-бурого цвета: это осатаневшие от бессонницы солдаты били клопов каблуками.
– До потолка догоним! – убежденно заявил фельдфебель. – Пущай нехристи радуются, что у них даже стены в русской крови…
Впрочем, солдаты, размещенные в крепости и казармах, еще были счастливы. Хуже было поселенным в домах местных обывателей. Под одной крышей с людьми ютились буйволы, лошади и овцы. Бывало и так, что внизу мычали коровы, а наверху селился знатный эфенди со своими женами. Испарения животных и жестокий смрад нечистот поднимались кверху, удушая спящих солдат…
Но это были лишь мелочи, на которые тогда старались не обращать внимания. Самое главное – Баязет был взят, русский флаг развевался над фасами древней крепости. Постепенно даже турецкие названия исчезли с языка: Ватнищево, могильный Холм Чести, штабная Некрасовка, бивуак Исмаилка, а склады саперного имущества и телеграфных столбов, завезенных Клюгенау, солдаты прозвали даже обидно для барона – Клюшкина будка.
С Теперизского перевала вернулась карабановская сотня. Под вопли муэдзинов, кричавших свой «эзан», на перекрестке дорог, возле мусульманского кладбища, солдаты играли в чехарду и городки. Гарнизонный оркестр, разместясь на крыше караван-сарая, пугал правоверных шустрыми мазурками, вальсами Штрауса и «Камаринской» Глинки.
– С ума вы тут посходили, что ли? – сказал Карабанов, одичавший после пустыни, и потрогал давно не бритую, впалую от усталости щеку: он не узнал Баязета…
Казаки спешивались. Лошади после перехода были утомлены до такой степени, что некоторые из них даже садились на задние ноги, подобно собакам, издавая при этом стон, похожий на тихий вой. Их не расседлывали уже несколько дней; с подпаренными и набитыми спинами они уже отказывались идти рысью и сегодня утром не могли догнать двух пеших турецких редифов.
– Что с ними? – спросил Хвощинский.
– Здравствуйте, господин полковник, – ответил Карабанов, устало покачиваясь. – Думал, что не дойдем… Дефиле крутые и кремнистые: на спусках кони упираются и теряют подковы.
– Идите спать, – разрешил полковник. – Заводите сотню прямо в крепость и где хотите, там и располагайтесь до завтра. А то смотреть на вас и то страшно…
– Спасибо, господин полковник!
Введя свою сотню внутрь цитадели, Андрей распоряжался подыскиванием конюшни для лошадей. Изможденные кони ложились на каменные плиты двора, гладко обтесанные рабами. Высохшими от усталости мордами лошади тянулись к барьеру фонтанного бассейна, они словно чуяли, что именно здесь должна быть вода.
Тут на сотню налетел откуда-то Исмаил-хан Нахичеванский, и, как видно, не совсем трезвый: от него изрядно попахивало «ангеликой».
– Почему у коней хвосты не подрезаны? – набросился он на урядника Трехжонного. – Куда, вонючка, смотрел? Смотри на хвост! Совсем не такой хвост, как надо…
– А какой надо, ваше сиятельство? Хвост как хвост!
Карабанов, сплевывая тошнотную слюну, подошел к ним, чтобы прекратить этот глупый разговор.
– Светлейший хан, – сказал он с нарочитой вежливостью, – наши лошади все время под седлом. Если милиция, которой вы имеете честь командовать, и собирается показываться туркам с хвоста, то мы, наоборот, следим за гривами.
– Запомните, поручик, – ощетинился Исмаил-хан, – ваша репутация как сотника целиком зависит от лошадей.
– Запомню, – пообещал Андрей. – К сожалению, хан, ваша репутация вообще очень часто зависит от скотов…
Подвернулся ему урядник.
– А тебя кой черт за язык тянет? – в гневе зашипел Карабанов. – Отвечай мне, коли спрошу. А какого ляда с ханом тебе болтать? Стой и молчи в портянку… Болван иерихонский!
Поручик швырнул охапку соломы возле ног Лорда и бросился на нее головой. Закрыв глаза, Андрей еще успел подумать, что сильно изменился за эти дни; потом его вскинуло в седло и помчало куда-то, и желтые листья закружились в воздухе, и Аглая пошла к нему навстречу, еще издали протягивая руки…
– Ишь, разорался, – сказал Дениска Ожогин, когда Карабанов заснул. – Видать, полковничиха-то наша не дала ему в Игдыре, вот и блажит теперь!
– А ты откель знаешь про то? – спросил конопатый Егорыч.
– Да Сашка Лихов в разъезде был, так видел, как он в окно к ней сигал.
– Хрен с ними, – мрачно заключил урядник. – Дело господское. Да и баба она в соку – только давай. А его высокоблагородие уже не тот гвоздь. Спим, станишные. Завтра небось нашего брата опять в горы погонят…
Но на этот раз погнали не их: полковник Хвощинский решил дать казакам отдых и вывел две сотни из крепости, расположив их на постое у Зангезурских высот, чтобы оградить город с запада, куда, петляя и залезая в горы, бежала дорога через Каракилис и Алашкерт, до самого Эрзерума.
Началась жизнь палаточная – вольная. Однако если в дежурстве, то закон: после водопоя кони оседланы, мундштуки надеты, людям спать в амуниции, ружья держать в козлах. Казакам прислали из степных заводов молодых лошадей – «неуков», очень злых и норовистых. Уманские сотни сторожили от набегов баранты овец и верблюдов, неустанным гарцеванием и джигитовкой втравливали «неуков» в подседельную жизнь. И вскоре в бахвальстве носились сорвиголовы через плетни, и ямы, запрыгивали ногами в седла, с хохотом брали товарища в стремя, который на полном аллюре наливал чихиря из фляги в чепурку и давал выпить наезднику.
Карабанов поначалу боялся за казаков, потом – ничего, привык.
– Только шеи себе не сверните, ухари, – просил поручик (сам же он, признавая лишь высшую школу верховой езды, от лихой джигитовки удерживался, чтобы не осрамиться).
Жизнь на высотах Зангезура была и сытнее, чем в крепости, да и Дениска Ожогин еще приворовывал для приварка. Гуртоправы – люди степные, глаз у них зоркий, как у орла-беркута. По вечерам загоняют баранту в глубокую падь, старый гуртовщик окинет стадо одним взором и сразу скажет:
– Нема одной овцы!
Станут считать – все налицо. Назавтра снова выйдет старый гуртоправ, зорко оглядит стадо и снова:
– Нема одной!..
Пересчитают – опять все.
Дениска сам однажды, будучи под хмелем, покаялся Карабанову:
– Ваше благородие, это же не воровство. Рази же мы украдем?.. Он, бес этот, даром что старый, а по глазам овец считает. Я-то, не будь дурак, одной овце, которая понаваристее, еще загодя камень на шею вяжу. Овца глаз-то на гуртовщика не подымает, он и орет тогда, что нету. А она тут, ваше благородие, в стаде. Ну, а когда уж привыкнут, что «нема одной», тут ее и кидай в котел: она уже лишняя!..
– Ну, Дениска, – не раз грозил ему Ватнин нагайкой, – быть тебе…
– …В урядниках! – весело подхватывал Ожогин.
– В урядниках, то верно, – хмуро соглашался Ватнин. – Только в драных урядниках! Нагайку-то вот видишь?..
И, поворачивая над кострами ружейные шомпола, на которых жарились, истекая жиром, куски свежей баранины, уманцы говорили:
– А што, братцы? Кажись, не по-собачьи живем: людьми стали…
………………………………………………………………………………………
Штоквиц с головой зарылся в свежие хрустящие газеты, пришедшие из Игдыра. Читая, он вздыхал, крепко и подолгу чесался.
– Что вы переживаете, господин капитан?
– Да тут, понимаете ли, иногда прелюбопытные вещи встречаются. Впрочем, и вранья тоже хватает…
Солдат был сух и легок, будто его изнутри выжгло. Солдат еще николаевский – такие редко сгибались. Сразу пополам сломается – и можно в гроб класть. Отшагав свое под барабаном, вернулся солдат в свое Заурядье или Калиновку (это безразлично) и остаток жизни цепко, к себе безжалостно, давай деньги копить. Вот и старость тихая под истлевшим мундиром, затуманились от времени кресты и медали. Солдат трубочки не выкурит, шкалика не опрокинет – все копит, жила бессмертная! По грошику да по копеечке, иногда и побираться пойдет – копит и копит.
Кончилось все очень странно. История об этом солдате обошла множество тогдашних газет, и потому нам известно ее окончание. Двести двадцать пять рублей (немалые деньги) отдал старый жмот на… «пользу славянского дела», а на остальные купил билет до Кишинева и вскоре появился в Сербии, где и погиб в сражении за свободу своих единокровных братьев. Казалось бы, все понятно, а с другой стороны – и не совсем…
– Да-а, – невольно призадумался Штоквиц, складывая газету. – Когда Верещагин едет к Скобелеву – это мне объяснять не надо: он будет писать картины. Но этот… Да-а. Теперь какому-нибудь из таких и по зубам врезать – еще подумаешь: стоит ли? Может, и он дома корову с самоваром продал, чтобы в Баязет попасть!
Карабанов откровенно расхохотался, покручивая на пальце хлесткую, размочаленную нагайку.
– Не хотят мужики наши умирать кверху пузом на родимых полатях. Им теперь, подлецам, свобода дадена!
В разговор вступил прапорщик Латышев.
– Мне вот, – сказал он, – мне… – и ткнул в себя пальцем. – Пардон, господа, но мне кажется странным… Ведь русский мужик не знает ни истории, ни географии. Единственное доступное его пониманию – это Иерусалим, а в нем гроб господень, святыня христианства, которая находится в плену у турок… Отчего же, господа, так охоч до этой войны наш мужик?
Клюгенау сидел в углу, старая шашка лежала поперек колен, косо стоптанные по камням каблуки его смешно топырились в разные стороны.
– География, история… – сказал он и повторил зачем-то жест Латышева, ткнув в себя пальцем.
Бедный прапорщик смутился, заелозил по полу от смущения сапогами.
– Нет, – продолжил он, – господа, так нельзя… Мне вот непонятно. Давайте возьмем опять-таки историю и географию…
Некрасов уже собирался уходить, но задержался в дверях.
– Хорошо, – сказал штабс-капитан резко, – взяли!.. Конечно, экзамена по истории и географии нашему мужику не выдержать, и в этом, Латышев, вы безусловно правы. Но – политическая история!.. О-о, мужик ее знает, поверьте мне, на собственной шкуре. Лучше нас с вами. Да-с!.. Это его дед, это его сват, это его кумовья да шурины делали историю в турецких войнах.
Некрасов в возбуждении натянул фуражку на лоб как можно крепче, толкнул уже дверь, чтобы выйти, но снова остановился и продолжил:
– А история проста. Снимите с мужика рубаху – на груди его рубцы от ран, полученных в турецких войнах. Если не брезгуете, стащите портки с мужика, – на заднице тоже рубцы. Это уже следы тех недоимок, которые с него взыскивали розгами, когда Россия уставала от этих войн. Так вот длится двести лет. Вдумайтесь, господа: двести лет наш мужик не по карте с указкой, а собственным пузом и задом познает историю с географией! И дорогу к своим братьям-славянам он хорошо знает. Не один поход туда был. Да и язык… Надо будет, так и до Киева доведет… Всего хорошего, господа!
Штоквиц тяжело посмотрел на Латышева – словно прижал его к стулу своим взглядом:
– Так-то, юноша… Кого до Киева, а кого и до Шлиссельбурга. Только уж довезет, а не доведет. На казенной троечке. По Тверской-Ямской. С бубенцами…
Некрасов уже был за дверью, и «бубенцы» Штоквица прозвенели ему в спину. Клюгенау зевнул и, прикрыв рот ладошкой, метко стрельнул глазами – на Латышева, потом на Ефрема Ивановича, не спеша поднялся и побрел нагонять Некрасова.
Карабанову оставаться в обществе сухаря-коменданта и прапорщика (которого он в душе называл не иначе, как «недоносок») совсем не хотелось, и он тоже направился к выходу.
– Покидаете нас? – остановил его Штоквиц.
– С вашего разрешения. Спать пойду…
На улице за ним увязался какой-то черный лохматый козел и, тряся бородою, долго тащился следом за поручиком, о чем-то восторженно блея. Карабанов сначала его отгонял, потом плюнул, и козел сам отстал. Шел поручик на Зангезур, чтобы, зарывшись с головою в душные кошмы, спать до вечера, а вечером сыграет он с Ватниным в «дурачка», ибо есаул другой игры в карты не знал; потом опять спать ляжет, а там и утро наступит.
– Черт возьми! – остановился Андрей. – А где же гром победы, который должен раздаваться?..
А гром побед русского оружия уже раздавался, и отзвук их – по газетам и по слухам – доходил до заброшенного Баязета: форсировав широкие поймы Дуная, российская армия уже начала освобождение славянских сел и городов.
Однако же весь этот гром побед прокатывался где-то вдалеке, за горами да за морями, а Баязет продолжал томиться в знойной духоте, в неверных сплетнях шпионов и лазутчиков, в кажущемся спокойствии. В окрестностях города рыскали казачьи пикеты, часовые иногда исчезали со своих постов бесследно, будто их и не было там; только потом, по прошествии времени, чья-то вражеская рука подкидывала ночью голову часового в крепостной ров, или ловили на майдане торгаша, просившего двух баранов за шинель убитого.
– Не смущайтесь, – говорил Хвощинский молодым офицерам. – Все это в порядке вещей. Не забывайте, что это не просто война, а восточная война. Она тем и поучительна для нас с вами, что в ней никогда не бывает передышек. Держи глаза пошире, а шашку наготове…
Третьего мая вдруг зарокотали в крепости барабаны, и перед строем всего гарнизона была совершена первая публичная казнь. На задранных кверху оглоблях санитарного фургона, заменивших виселицу, вздернули молодого муллу, который пытался разрушить водопровод, питавший цитадель, а перед этим убил двух ездовых солдат-стариков.
Перед казнью Хвощинский подошел к мулле и спросил:
– Ты зачем это делал, пес?
Мулла, не отвечая, воздел руки к небу. Ему накинули петлю на шею.
– Зачем ты убивал наших солдат?
– Меня нельзя винить в этом, – прохрипел мулла. – Это внушено мне свыше.
– Аллах, что ли, внушил тебе отрубать головы убитых?
– Но я действовал в святом восторге, – оживился мулла.
Хвощинский махнул платком:
– Вздернуть собаку…
– Не хотите ли стакан лафиту? – вежливо спросил Штоквиц и выбил доску из-под ног убийцы…
Капитан руководил повешением как комендант крепости и проделал все это настолько ловко и равнодушно, что Некрасов даже заметил ему полушутя, полусерьезно:
– Ефрем Иванович, если когда-либо меня будут вешать, я бы желал быть повешенным именно вами…
Опираясь на суковатую палку из виноградной лозы, Никита Семенович Хвощинский досмотрел казнь до конца, потом отозвал в сторону Потресова, Карабанова, Евдокимова, Некрасова и фон Клюгенау.
Офицеры проследовали за хромавшим полковником на средний двор, в круглую башню киоска, размещенного над усыпальницей ханской жены. В этом киоске стоял один стол, но стульев не было, и Хвощинский сказал:
– Садитесь, господа, по-турецки. Нам, кавказцам, к этому не привыкать…
Все уселись вдоль стены, каждый закинул правую ногу на левую. Сняв фуражки, приготовились слушать.
– Господа, – сказал Хвощинский печально, – обстановка усложняется, и, во избежание нареканий на мою седую голову, если меня уже не станет, хочу сразу же поставить вас в известность относительно наступающих событий… Недавно через лазутчиков я установил, что турки собираются в районе Ала-Дага, готовясь к нападению на Баязет, о чем и донес в Тифлис своевременно. Вчера, господа, мне передано за верное, что близ Вана началось скопление конницы, тоже грозящей Баязету нападением, о чем я также доложил в ставку наместника, его высочества великого князя Михаила Николаевича.
Полковник подождал немного, рукой сильно и энергично, будто стряхивая усталость, потер глубокие морщины на лбу.
– К сожалению, господа, – продолжал он, – на все эти мои донесения ответа я до сих пор не удостоился. Сие мне уже знакомо: гром не грянет – мужик не перекрестится… Сейчас же я, господа, на свой страх и риск решил послать на границу с Персией отряд конной милиции Исмаил-хана, чтобы вам, казаки, – он слегка поклонился в сторону Ватнина и Карабанова, – дать заслуженный отдых. Итак, – закончил он, – не судите меня, старика. Я, со своей стороны, сделал для обороны крепости все!..
Накануне выхода на рекогносцировку Исмаил-хан исполнил сложный обряд согласно заповедям шариата: выщипал на своем теле волосы, обрезал ногти и, завязав все эти отходы в узелок, велел денщику утопить узелок в реке. Выход рекогносцировочного отряда был назначен в канун «Джума-гюню», под пятницу – самый счастливый день для всех начинаний мусульманина; уступив Исмаил-хану в этом, Хвощинский разрешил милиции отправиться в путь ночью, чтобы Исмаил-хан не мог встретить женщины, приносящей несчастье.
Офицеры провожали отряд. Выехав перед строем на своем нервном Карабахе, Исмаил-хан Нахичеванский спросил милиционеров:
– Ружья и пистолеты заряжены?
– Гай, гай, давно заряжены! – вразброд отвечали разноликие воины в нагольных полушубках и лохматых папахах.
– Чужой попадется – убить надо!
– Валла, валла, убьем, убьем!..
И они ускакали. На другой же день в Баязет въехал незнакомый чиновник и остановился в караван-сарае. Таясь от Хвощинского, он проделал беглый осмотр всего, что можно было выглядеть в крепости. Как видно, донесениям Никиты Семеновича в Тифлисе придавали мало веры и генералы решили подослать своего соглядатая.
Карабанов встретился с ним на майдане; это был молодой человечек в добротном сюртуке (почему-то почтового ведомства), вертлявый и пухлый. Прицениваясь к шкуркам каракуля, он спросил поручика:
– Говорят, ваш Хвощинский не любит своих войск, не понимает русского солдатика?
– Кто это говорит?
– Ну, как же! Он ведь не делает им смотров, церемонию плац-парада всегда комкает…
– А-а, вот вы о чем! – не растерялся Андрей. – Надо признать, что я тоже недолюбливаю за это Хвощинского. А вот когда я служил в лейб-гвардии кавалергардском полку, его величество государь император через день гонял нас по корду, и все мы его обожали!..
Чиновник испуганно посмотрел на Карабанова, как на человека ненормального или же злонамеренного, которого в любом случае следует остерегаться, и торопливо пошел восвояси. И когда он шел, полушария его пухлого зада прыгали из стороны в сторону, как у гулящей девки.
– Тьфу ты, гадость! – отплюнулся Карабанов.
Хвощинский позвал к себе есаула Ватнина.
– Назар Минаевич, голубчик, – попросил его полковник, – у меня к тебе просьба: выбрось этого паршивца из гарнизона. Как угодно, любыми путями, но чтобы негодяйством в Баязете и не пахло. Да накорми лошадей для него как следует, а то в Тифлисе решат, что мы умираем тут с голоду…
Ватнин, не долго думая, почтил гостя своим высоким визитом в караван-сарае. Обычно в таких случаях принято говорить фразы вроде следующих: «Не смеем задерживать, ибо вас, наверное, ожидают с ответом». Или же – еще лучше: «Мы так рады вас видеть, закусите с дороги, а у нас уже готово обратное донесение!»
Назар Минаевич был весьма далек от подобных тонкостей: исподлобья оглядев непрошеного гостя, есаул сердито брякнул еще с порога:
– Лошади поданы!
– Лошади? А я и не просил их закладывать.
– Знать ничего не знаю. А лошади не люди: их заложили – так извольте ехать.
– То есть… Минутку! Как же это получается?
– А вот как получилось, переделывать не буду. Ежели решили себе отъезжать, милости просим. Дорога сейчас ввечеру прохладная, мух не дюже.
Мерзавчик из ставки наместника понял, что его раскусили, и на прощание стал просить только об одном: сообщить ему «что-нибудь интересное».
– Интересного мало, – заметил Ватнин. – Бабы по гаремам сидят, мужики на майдане барышничают. Мы же все больше чихирь тянем да от скуки деремся. Так что ненароком убить вас может. Езжайте себе!..
– Да как же я поеду с пустыми руками? – опечалился мерзавчик. – Опять же и от дам знакомых насмешки. А я для «Тифлисских ведомостей» даже статью обещал… Хоть что-нибудь, – приставал он к Ватнину, – хоть что-нибудь в доказательство дайте…
– Что-нибудь? Да вот возьмите у нашего майора мортирную бомбу. Ежели верить не станут, вы взорвите ее где-нибудь там потихоньку. Поверят…
Неуклюжую бомбу конической формы, весом в добрых четыре пуда, вкатили на телегу. Гарнизон покатывался от смеха, но чинуша был явно счастлив.
– С богом! – пожелал ему Дениска. – На всю жизнь память. Можно ее на комод заместо самовара поставить. Или же, скажем, к примеру, жену стращать. Оно же – вещь!..
Глядя вслед бешено прыгающей повозке, в которой ловкач наместника уже вступил в отчаянную борьбу с бултыхавшейся на дне ее бомбой, Ватнин удовлетворенно заметил:
– Так его!.. Кубыть, довезет, пиявица поганая. Потерять-то трудно. Чай, не иголка. Гостям показывать станет. Бабы небось визжать будут…
– А не взорвется? – спросил Клюгенау. – Надо хотя бы запал вынуть.
– С запалом покатил, – засмеялся Ватнин. – А ежели и взорвется, так другие в Баязет не поедут за легкими крестами.
Через несколько дней отряд иррегулярной милиции Исмаил-хана вернулся в Баязет, не потеряв за время разведки ни одного человека, ибо, как объяснил хан, слезая со своего вороного Карабаха, они не встретили ни одного турка.
– Не может быть, хан! – возразил Штоквиц.
– Ни одного, – закончил подполковник, добавив: – И я доволен теперь, как заяц, за которым не гонится никакая собака.
Происходило что-то непонятное. Волнения Хвощинского оказывались напрасными. Внимательно выслушав доклад сиятельного подполковника, Никита Семенович ничего не ответил и, уйдя в свой киоск, целый день не показывался в крепости.
Невольно вспомнили о лазутчике Хадже-Джамал-беке, и Ватнин, не долго думая, пообещал срубить ему голову.
– Тоже мне, покуначились! – бушевал он в палатке. – Никому на грош не моги верить. Все заодно! Куркули собачьи! Хотят застращать нас, чтобы мы сами из Баязета тикали… Накось, выкуси!..
Некрасов, спокойный и рассудительный, как и следовало быть генштабисту, только пожал плечами:
– Кто его знает, господа! Может, и впрямь блажит наш старик?..
В этот день, наполненный тревогами и спорами, вестовой казак привез Карабанову письмо из Игдыра; Аглая писала ему:
Милый мой человек!
Жду твоих писем, а ты не пишешь, противный казак на противной лошади. Мне так горько, никого нет со мною, и я плачу, – согласись, что это необычное для меня состояние.
Не умею я писать и говорить о том, что люблю тебя, но я – люблю, и очень рада, что это так хорошо. Ложусь спать, и ты со мною; ты – это я, а я – это ты, а оба мы – счастье. Как писать дальше, – не знаю; прости.
Целую, милый!
Карабанов подивился, что в письме так много знаков препинания, с которыми он издавна был не в ладах, и, улыбаясь, спрятал письмо в нагрудный карман.
Поздним вечером, при зажженных свечах, он играл со своим денщиком в шашки и лез из шкуры вон от бешенства, видя, что татарин его обыгрывает. Чтобы не проиграть совсем, Карабанов допустил некоторое легкомыслие – позволил себе стянуть у противника две шашки, явно метившие в дамки, но тут же был пойман за руку с поличным.
– Ай-ай, – сказал ему денщик, – зачем хватал черный? Черный мой шашка будет, твой шашка белый будет. Хватай белый!
– Ах ты, Чингис-хан, – возмутился Карабанов, – да как ты смеешь думать, чтобы я тебе проиграл. Скажи – кто из нас умнее?
– Черный выиграет – черный умный будит. Моя черный шашка, моя выигрывал у твоей белый. Моя умнее будит…
Спасло Андрея от «нашествия татар на Русь» только появление ординарца, который передал, что поручика ждет Хвощинский. Ехать с Зангезура в город не хотелось, но, поломавшись перед собой, Карабанов объявил денщику о своем выигрыше и велел ему седлать Лорда…
Полковник встретил сотника странным, сразу же насторожившим Андрея вопросом.
– Как вы думаете, господин поручик, – спросил Хвощинский, не вставая и строго глядя из-под очков, – его сиятельство Исмаил-хан Нахичеванский провел разведку до конца или же нет? Отвечайте…
– Я удивлен таким вопросом, господин полковник, и не могу понять, почему вы сомневаетесь в этом.
Хвощинский медленно раскурил папиросу:
– А вот мне кажется, что хан… врет. Да! Подполковник русской службы солгал полковнику русской службы. Позор! Вы, поручик, – спросил Никита Семенович уже спокойнее, – обратили внимание на милицейских лошадей?
– Нет.
– Так вот. Лошади абсолютно свежие. Вспомните, на каких лошадях возвращаетесь вы из рекогносцировок. Ваши лошади плачут от усталости!.. Нет. Хан не мог. Он не мог сохранить лошадей. До Персии и обратно. Врет! Струсил!
Полковник встал, опираясь на палку.
– Через несколько дней, господин поручик, – приказал он строго, – на границу с Персией пойдете вы! Только не сейчас. Я знаю, что в ставке мною недовольны. Великому князю, наверное, кажется, что я все преувеличиваю. Ну, что ж, посмотрим…
Ночной мотылек влетел в киоск, закружился над лампой. Подергав плохо выбритой щекой, полковник неожиданно спросил в упор:
– Скажите, поручик: Аглая Егоровна что-нибудь пишет вам из Игдыра?
Карабанов пожал плечами, невольно следя за полетом мотылька.
– Нет. Я и не жду, господин полковник.
Хвощинский отвернулся к окну, заставленному мелкими разноцветными стеклышками, ковырнул дряблую от жары замазку.
– Вот и мне, – сказал он, – тоже ничего. Странно!..
Ярко вспыхнула лампа – это сгорел неосторожный мотылек.
– Идите, – разрешил полковник. – Вы мне больше не нужны.
7
Карабанов сквозь сон слышал пачку далеких выстрелов, потом тревожный топот и фырканье коней. Окончательно разбудил его голос Ватнина.
– Тебе бы его за волосню схватить да к седлу нагнетать покрепче, – авторитетно советовал есаул кому-то из казаков.
– Да, его схватишь, как бы не так, – отвечал чей-то незнакомый Карабанову голос. – У него башка напрочь обритая. Кусается, стерва…
Поручик долго выпутывал себя из кисейного полога, навешенного от мух. Сладко потягиваясь отдохнувшим телом, вышел из палатки. Назар Минаевич, босой, в деревенской рубахе, расцвеченной красным горошком, накинув на плечи офицерское пальто наопашь, гулял вдоль коновязи.