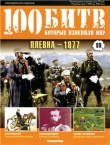Текст книги "Баязет"
Автор книги: Валентин Пикуль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Клюгенау улыбнулся:
– А вы не смейтесь… Я вам не сказал, что влюблен, но чистый облик женщины возбудил во мне желание жертвовать для нее. Поймите, что в любви никогда нельзя требовать. Мальчик бросает в копилку монеты и слушает, как они там гремят. Когда-нибудь он вынет оттуда жалкие рубли. Я же хочу бросить к ногам женщины не копейки – разум, страсть, мужество, долготерпение, надежду и, наконец, самого себя. Неужели, Карабанов, эти чувства могут прогреметь в ее сердце, как копейки в копилке?
Андрей немного поразмыслил.
– Это все слова, барон, – сказал он небрежно, – вы плохо знаете женщин. Видите, как ваша кобыла льнет к моему Лорду? Так и женщина… Голая физиология!
Клюгенау ударил свою кобылу плетью:
– Удивляюсь вам, Карабанов, как вы можете жить с такими взглядами! Вам только покажи что-либо святое, как вы сразу начинаете его тут же поганить… Кто была та первая (простите меня) негодяйка, которая сумела так обезобразить ваше доброе сердце?
– Я уже забыл, – ответил Андрей и неожиданно вспомнил лицо Аглаи на рассвете: оно было таким покойным и умиротворенным, как будто все вопросы жизни для нее уже разрешены.
И вдруг ему стало нестерпимо грустно. Сухие перья ковылей волновались вдали, парил коршун над ущельем, из травы, растущей на обочине, скромно проглянул одинокий цветок адонис.
«Все слова, слова, слова, – подумал он. – А если бы не было слов? Может быть, тогда и было бы лучше?..»
– Догоняйте, барон! – крикнул он и, качнувшись в седле, ударил в бока Лорда шпорами – шпоры длинные, старомодные, которыми его дед пришпоривал коня еще в Аустерлицкой битве.
И за веселым столом Карабанов был тоже грустен, и Ватнин, скатав шарик из хлеба, пустил его в лоб поручику;
– Эй, Елисеич! Выше голову… Руби их в песи, круши в хузары!
………………………………………………………………………………………
А где-то, очень далеко от Баязета, под лунным светом затихла рязанская деревенька, и там, под двумя раскидистыми березами, лежал дед Карабанова – при шпаге, в мундире, при шпорах.
8
Это стыдно, но так; в некоторых частях все еще дерутся!..
М. И. Драгомиров
Пока офицеры ужинали на Зангезурских высотах, в Баязетской крепости произошла вторая за этот день безобразная сцена, которая окончательно подорвала доверие к Пацевичу со стороны гарнизона.
Причину ее следует искать в нерасторопности денщика Пацевича, который разбил в этот день графин. Однако тут же найдя другой, побольше размером, он наполнил его вином и подал к столу Адама Платоновича за ужином. Но полковник имел привычку «употреблять» до тех пор, пока вино имеется на столе. А так как графин на этот раз оказался больше обычного, то Пацевич сильно охмелел.
Тут в его пьяной голове зародилась мысль, что он «отец командир», и если кто в этом сомневается, то он сейчас докажет. В ночных туфлях на босую ногу он выбежал во двор и стал целовать первых встречных солдат. Потом, от сладостного сознания своего благородства и любви к ближнему, Адам Платонович начал горько плакать, ибо, как ему казалось в этот момент, он очень хороший человек, но его не понимают. А для того, чтобы лучше поняли, он решил давать объяснения.
– Братцы, – горланил он на всю цитадель, сбирая любопытных, – я вас люблю… Вы мои дети, я ваш отец родной… Вместе умрем, но… Вот я перед вами плачу… Умрем, братцы, но только… Простите меня…
Русский солдат не дурак, и он хорошо понимал, что целует его не полковник Пацевич, а та водка, которая была в полковнике Пацевиче. Между тем, что такое солдат? Солдат есть «лицо, артикулом предусмотренное», а потому, стоя навытяжку, солдат покорно принимал поцелуи и слезные излияния своего начальства.
– Ур-ра! – кричал полковник, и кто-то надевал ему на ногу потерянную туфлю.
Потом Адаму Платоновичу взбрело в голову (непонятно, зачем) построить солдат, что он и стал выполнять. На беду его, из коридора среднего двора показался несущий святые дары отец Герасим; священник этот, человек начитанный и умный, любивший немного пококетничать своим мужицким происхождением, направлялся сейчас в госпиталь исповедовать умирающего.
Присутствовать при кончине человека – обязанность не из приятных, и отец Герасим шел на исповедь, имея настроение серьезное, раздумчивое. Увидев священника, Пацевич потянул и его в строй, на правый фланг. Отец Герасим, понимая, что с пьяным лучше не связываться, очень тихо просил:
– Господин полковник, пустите меня… человек умирает…
Но полковник его не отпускал, и тогда отец Герасим стал сопротивляться. А так как он был вдвое (а то и втрое) сильнее Пацевича, то Адам Платонович обозлился, увидя в этом неповиновение его власти.
– Ты, черт длиннополый! – закричал он. – Слушай, что я тебе говорю… Вставай сюда!.. Застынь!
Отец Герасим был человек очень терпеливый. Он еще раз сказал полковнику:
– Адам Платонович, поймите, душа божья кончается… Меня ждут там. Пожалуйста, отпустите с миром…
Но «отец командир» уже озверел, непременно желая одного – поставить священника во фронт. Тогда гарнизонный батька, не долго думая, опустил святые дары на землю и закатал рукава своей рясы. Видать, ему вспомнились бурсацкие потехи: он без разговоров треснул Пацевича по уху – да так треснул, что тот проехал полдвора на своем брюхе, а из его карманов посыпались разные ключики, книжечки и карандашики.
– Не осуди, – сказал батька, берясь за святые дары. – Эдак-то любого вывести можно…
Тут быстро выбежал Штоквиц, очевидно, уже давно наблюдавший откуда-то за всем происходящим. Капитан подхватил Адама Платоновича и с помощью солдат потащил его спать на постель Исхака-паши с хрустальными ножками.
Этим поступком отец Герасим заслужил уважение солдат, но настроение, к которому он себя готовил, было вконец испорчено. В дверях госпиталя он тихо прошептал что-то, постоял немного в темноте, повздыхал и, пригладив космы волос на голове, вошел в палату.
Раненые и больные лежали на грубо оструганных нарах, большинство же – на полу, а самыми спокойными местами считались места под нарами. Посреди помещения, тихо гудя, теплились турецкие мангалы: на их горячих жаровнях разогревались в винных чепурках какие-то снадобья.
– Мир вам, воинство христолюбивое, – сказал священник, складывая пальцы щепоткой и крестя кипящие чепурки.
Умирал старый солдат, раненный в суматошной перестрелке на Теперизском перевале. Он умирал очень тяжело, уже какой день; по глазам было видно, что хочет жить человек, гонит от себя безносую, но всему есть предел, он его сегодня ощутил, и вот послал за священником.
Невдалеке от него лежал, готовясь к выписке, ефрейтор Яков Участкин, подстреленный в ногу на горной дороге. Лихая турецкая пуля, не задев кости, только ковырнула солдатское мясо и пошла гулять дальше, оставив после себя боль и злобу.
Слушал Участкин тихий говор священника, оглядывал ряды нар, с которых торчали серые пятки раненых, было на душе у него муторно и скользко. Мешали еще стоны солдата, раненного в подбрюшье; Сивицкий сказал, что умрет он сегодня ночью, когда у него начнется рвота.
Отец Герасим скоро ушел, и Участкин, привстав повыше, посмотрел на умиравшего; тот вытянулся уже, руки на груди свел, нос у него сразу худущий стал.
– Кажись, отмучился, – шепнул ефрейтор соседям. – И на лицо побелел…
Подошел ординатор Китаевский, тронул запястье старого солдата, и тот разлепил глаза:
– В поле бы… – тихо сказал он. – Камень давит…
– Ну, ладно, старина. Лежи… Может, чаю хочешь?
– Живой, – обрадовался Участкин, – старики, они такие – крепкие…
Аглая еще боялась подходить к умирающим, и, зная об этом, ее не заставляли. Издали наблюдая за людьми, отходящими в вечность, женщина всегда испытывала какой-то трепет перед смертью, которая раньше казалась ей почему-то величавой и торжественной. Теперь же смерть представала перед нею в ее обыденной неприкрашенной простоте, и она уже не удивлялась, когда умирающий наказывал, кому после его смерти отдать котелок, кому – полотенце, а кому – новые портянки.
– Может, напоите его чаем? – попросил Китаевский. – Сделайте послаще.
Пересилив робость, Аглая присела рядом со старым солдатом, стала поить его с ложки.
– Сегодня день-то какой? – спросил он неожиданно. – Середа или четверток?
– Пятница, – ответила женщина, удивляясь: зачем ему это теперь знать!
Участкина пришли навестить его приятели, два солдата. Аглая видела, как они сунули ему под подушку по чуреку с маком, вытрясли из карманов липкие комки халвы.
– Чуреки-то нынче почем? – снова спросил умирающий.
– Да по пиастру дерут хососы.
– Дорого… – вздохнул старый.
«Ну зачем ему это знать?» – опять удивилась Аглая и прислушалась к тихому разговору солдат.
– Новости-то какие будут? – спросил Участник.
– Да новостей-то вроде и нету. Сейчас тихо живем. Вот только его высокоблагородие Пацевич запил с горя.
– Ну? – удивился ефрейтор.
– Вот-те и ну… Вола, слышь-ка, у турка украл. Турок-то и доказал при всех. Полковник – нет да нет. Не крал, мол. А тут поручик Карабанов, значит. Шашку выхватил, – сознавайся, кричит, а то зарубаю…
– Карабанов, он такой… – снова вздохнул умирающий, – горяч больно…
– А полковник-то что? – переживал Участкин.
– Да сознался. Сам плачет. «Простите, говорит, господа. Уж не знаю, как это со мною случилось, что вола-то я украл…» И турку-то этому всю нашу казну и отдал. Чтобы молчал, значит.
– Грех-то какой! – запечалился Участкин. – Как же это он? Полковник ведь благородство…
– А и ест его совесть, – продолжал рассказчик. – Сейчас пьяный по крепости ходил, плакал, с нами целовался. «Простите, кричит, умереть желаю!..»
Сивицкий приехал к полуночи.
– Так рано? – удивилась Аглая.
– Дальше, голубушка, – ответил капитан, – началась уже просто пьянка. Или же, как пишут в газетах, «дружеская беседа длилась далеко за полночь…» Карабанов и я, мы пить не захотели, вернулись…
Не прошло и получаса со времени прибытия Сивицкого, как дверь распахнулась и не пороге госпиталя появился Егорыч. Конопатое лицо его было сплошь в синяках и страшных кровоподтеках, глаза заплыли. Казак слабо облокотился плечом о косяк, сплюнул что-то на руку и вытер ладонь о штаны.
– Ваши благородия, – сказал он врачам, – сделайте поправку… А то ведь сам себя не вижу…
Его положили на стол. Сивицкий стал осматривать избитое лицо уманца, грубо сказал:
– Поделом тебе, братец. Не будешь, глядя на ночь, по Баязету шляться. Мало тебе турки еще поддали…
– Да то не турки.
– А кто же?
– Свои…
– Так кто?
– Его благородие… приехамши…
– Кто же?
– Господин Карабанов…
– Гвардейские замашки, – буркнул Сивицкий, но Аглая, ахнув, уже выскочила из палаты.
Андрей собирался спать. Среди вороха газет на столе лежали портупея и шашка. Мундир он уже снял, шелковые подтяжки обтягивали его грудь. Был он лишь слегка пьян и встретил Аглаю с улыбкой.
– Спасибо, – поблагодарил он ее за приход. – Тебе сказал Сивицкий, что я приехал?
– Что вы наделали? – тихо спросила женщина.
Андрей удивился такому обращению. Пожал плечами, щелкнул подтяжками. Но Аглая в этот миг была так хороша, так светились глаза ее, полураскрытый рот ее был так нежен и заманчив, что он протянул к ней руки.
– Ты об этом конопатом? – засмеялся он. – Но вчера он пропил целый ящик гвоздей для подковки.
– Что вы наделали, сударь? – снова спросила Аглая.
– Ну, перестань…
И вдруг звонкий удар пощечины оглушил его. Он не успел опомниться, как его настиг уже второй удар. Еще, еще, еще…
– Опомнись! – крикнул Карабанов и, отступая к стене, стал закрываться руками.
Аглая остановилась.
– Не смейте защищаться, – сказала она. – Как вам не стыдно? И еще мужчина…
Тогда он покорно опустил руки, и Аглая продолжала наносить ему удары по лицу слева направо. Голова поручика моталась из стороны в сторону. Глаза были потухшие, жалкие.
Вид крови, хлынувшей у него из носу, понемногу охладил гнев Аглаи.
– Так вам и надо! – сказала она. – Подлец вы!
Андрей спросил тихо и зловеще:
– Знаете ли вы, мадам, что вы сейчас наделали?.. После такого мне остается лишь одно – застрелиться!..
– Ну и стреляйтесь… Черт с вами, сударь! – сказала Аглая и вышла.
Выстрела за ее спиной не последовало.
………………………………………………………………………………………
В эту ночь несколько армянских семейств, покинув свои жилища, свои виноградники и пашни, тронулись в скорбный путь изгнания. Они захватили с собой лишь самое дорогое, самое необходимое в дороге, и часовые у ворот Баязета видели, как проплывают в темноте певучие арбы, как несут матери детей своих, как оборачиваются назад старцы, чтобы в последний раз поглядеть на свое пустое жилище.
Визитер-рундом в эту ночь был юнкер Евдокимов, и, обходя караулы, он задержал это шествие изгоев.
– Куда вы идете, – спросил юнкер, – с детьми и курятниками, глядя на ночь?
Армянский старейшина показал в сторону от дороги:
– Мы ищем безопасного приюта, сын мой. Макинский шах – добрый человек, он приютит нас.
– Но зачем?
– Мы боимся оставаться в Баязете, – просто ответил старик.
– Почему боитесь? – недоумевал юноша. – Мы же ведь никуда еще не уходим.
– Вы не уходите, но османы приходят. Они вырежут всех нас, как это делали уже не однажды. И мы не хотим, чтобы они позорили дочерей и жен наших у родных же очагов… Вы же, русские, – закончил старец, – очень счастливые люди: вы с турками только воюете, но вы никогда с ними не живете!..
– Выпустить армян из города, – приказал Евдокимов солдатам, и ему вдруг стало страшно.
В черной ночи повозки изгнанников вскрикивали пугливо и жалобно, как вещие птицы.
9
Карабанов теперь чувствовал, как он постепенно запутывается.
Зия-Зий, – ее неспроста схватили казаки, – и он отпустил ее, убоявшись Аглаиной ревности; уважил полковника Хвощинского, в лицо ему говорил об этом уважении, а потом прибегала трепетная Аглая, жена этого человека, и он хвастал перед ней своим любовным пылом; избил этого конопатого Егорыча – и, как ему казалось, избил за дело, – но сотня теперь отвернулась от него; Аглая оскорбила его пощечинами; даже денщик Тяпаев смотрит на него с сожалением.
– Что же делать? Что же делать? – хватался он за голову и ничего не мог придумать; когда ушла от него Аглая, он действительно был близок к самоубийству: вставил в рот дуло револьвера, но… смерть от своей руки показалась ему страшнее турецкого ятагана.
Было ему скверно, а потому, когда встретил однажды Латышева, то сказал ему так:
– Ну, что, прапорщик, плохо вам?
– Плохо, – согласился тот.
– Вот и мне паскудно, – заключил Карабанов. – Каждый из нас подлец, только по-разному…
Андрей покупал у маркитантов водку и поил всю свою сотню. Казаки – ничего, пили, не отказывались, даже Егорыч пил, но уже не было в общении с ними чего-то такого неуловимо интимного, почти дружеского, что он ощущал раньше. И теперь Дениска Ожогин уже, наверное, не набьет от доброты душевной переметную суму сливами; хоть вырви волосы на голове, а никто не поделится ворованным мясом…
– Довольно, пожили, – сказал Андрей однажды. – Только не так, чтобы забыли, а в бою; заберусь в свалку, уж пятерых-то как-нибудь положу, а потом – и меня…
Приняв такое решение, Карабанов как-то быстро опустился. Перестал следить за собой. Ватнина он чем-то обидел, и есаул разругал его матерно. Теперь Андрей по вечерам молча сосал чихирь в одиночку. Потом в пьяном угаре вынимал шашку, подбрасывал к потолку «Тифлисские ведомости» и рубил на лету указы «Мы, божией милостию Александр Вторый, всея Руси, Большия и Малыя…».
Сивицкий, узнав о пьянстве Карабанова, каждый раз встречая его, где бы то ни было, твердил с настойчивостью дядьки одно и то же:
– Перестаньте пить, Карабанов! Вы сгорите в этом пекле… Я помню одного хорунжего, который запил в пустыне. В башке у него плескалось что-то, как в бутылке, и он подох в страшных корчах… Бросьте пить, Карабанов!
– Не беспокойтесь, доктор, – тупо выслушивая советы, огрызался Андрей, – со мною этого не случится. Первый же горшочек масла срубят ко всем чертям вместе с этой вот дурацкой маслобойней!..
Штоквиц однажды стал утешать его:
– Вы напрасно, гвардионус, так переживаете. Лучше выпейте стакан лафиту. Грешным делом, я тоже не святой… Неужели я буду читать нотации этому быдлу? Треснул по роже – и пусть сами додумывают, за что попало. Сволочей этих бояться нечего, только руки устанут бить их.
Некрасов сказал иначе:
– Вы не глупый человек, Карабанов, мне многое нравится в вас. Но эти гвардейские штучки вы оставьте… Здесь люди не парадируют, а воюют. Иногда и провинятся, но завтра же могут погибнуть! А вы что-то рано собрались на Холм Чести…
– За Отечество, – отозвался Андрей, – умереть никогда не рано. К этой мысли меня приучили еще с детства…
Трехжонный приходил иногда, мрачно оглядывал поручика и докладывал, что в сотне не все благополучно: два казака подрались при дележке овса, один казак потерял винтовку, кузница задерживает с подковкой лошадей и прочее. Карабанов строил свою сотню, выезжал перед нею на своем Лорде, грозился плетью и пьяно кричал:
– Распустились, мать в вашу!.. Вот погодите: я пить брошу – так возьмусь за вас, сволочи!..
Как-то забрел на огонек Клюгенау, и поручик сразу насторожился. Когда он встречался с бароном, то невольно бывал наструнен; когда же расставался, – ему казалось, что он закончил какую-то непостижимую работу.
– Здравствуйте, прапорщик. Что вы так смотрите на меня, словно барышня на сороконожку?
Жалобно моргая из-под очков, Клюгенау взгрустнул:
– Боже мой, как вы изменились. Я не узнаю вас. Вы всегда были такой чистоплотный, а сейчас…
– Eh, mon cher, – цинично рассмеялся в ответ Карабанов, – c’est parce que le militaire comporte la cochonnerie… [10]10
Эх, мой милый, это потому, что в военном звании допускается свинство (фр.).
[Закрыть] Садитесь, барон!
Клюгенау сел.
– Я чувствую, – сказал он, – вам сейчас тяжело… Мне на вашем месте было бы еще хуже. Хотелось бы вам помочь, но не знаю как. Могу только напомнить ту утешительную фразу, что была вырезана на кольце у царя Соломона: «И это пройдет…»
– Это никогда не пройдет, – надрывно вздохнул Карабанов и налил себе водки. «Напоить его, что ли?» – вяло подумал он. – Хотите выпить, барон?
– Нет.
– А если я попрошу вас? Может, мне станет легче, если вы выпьете со мною?
Клюгенау придвинул стакан.
– Хорошо, – сказал он. – Чтобы вам стало легче…
Отхлебнув водки, прапорщик заговорил снова:
– В обществе людей преобладают три личности: личность денежная, личность служебная и личность собственных достоинств. Первые преуспевают, вторые мучаются, третьи плохо кончают. Послушайте меня, Карабанов: вы принадлежите, мне кажется, к третьей, самой несчастной категории людей, и ваши достоинства еще не дают вам права быть жестоким с людьми, которые не подходят ни под одну из этих трех категорий…
– Довольно слов! – остановил его Андрей. – Пейте до дна, нечего жеманничать.
Прапорщик неумело выглотал водку до конца и быстро опьянел.
– Вам надо полюбить женщину, – посоветовал он. – Любовь очищает человека и делает его лучше. Многое, что казалось неясным и расплывчатым, приобретает определенные формы…
– Чепуха, – ответил Карабанов, – когда женщина входит в жизнь человека, начинается развал и хаос. Женщина по своей натуре не созидатель, она разрушитель. Она, если хотите, тот же дикий курд…
– Женщина воскрешает! – сказал Клюгенау.
– Губит, – ответил Андрей.
– Женщина – источник жизни, – сказал Клюгенау.
– И – гибели, – закончил Андрей.
На этом они остановились. Карабанов снова налил водки, и прапорщик выпил. Всегда откровенный, он теперь совсем обнажил свою душу.
– Она чудесная, – произнес он с чувством. – Вы бы видели, какие у нее глубокие глаза. И, встречаясь со мною, она всегда говорит, что очень рада меня видеть. Я даже написал стихи…
– Занятно, – сказал Андрей, ковыряя в ухе. – Может, дадите прочесть?
Клюгенау расстегнул мундир, достал из секретного кармана листок бумаги.
– Вот, – поделился он, – это я написал вчера…
Аулов дым и цитадели
Гористый призрак до небес.
Любить, без отклика, без цели, —
Ах, я согласен: в мир чудес
Явилась ты – и я воскрес!
– Ну? – спросил Клюгенау.
Карабанов отшвырнул от себя стихи:
– Если вы это, барон, ни с кого не сдули, то это не так уж плохо. Только позвольте минутку побыть в роли Белинского.
– Да что вы, поручик, – смутился офицер. – не стоит… Это написано случайно… Экспромт!
– Я надеюсь, – продолжал Карабанов. – что ваши стихи получились бы еще лучше, если бы вы, барон, не были стеснены в написании их определенными рамками.
– Какими?
– Но вы же не будете утверждать, – убивал его Карабанов, – что вот это совпадение тоже случайно?.. Дайте-ка сюда ваш экспромтик.
Ногтем он подчеркнул начальные буквы строк пятистишия.
– Читайте сверху вниз, барон, – сказал он. – Что получается?
– А что? – сразу покраснел Клюгенау.
Карабанов криво усмехнулся.
– Аглая, – сказал он. – Я где-то слышал имя этой женщины… Безнравственный вы человек, барон: позволили себе влюбиться в замужнюю женщину!..
Покидая Карабанова, барон Клюгенау задержался в дверях:
– У меня к вам две просьбы, Андрей Елисеевич: первая – никогда не касайтесь моей любви, и вторая – не пейте больше водки: ведь завтра у нас офицерское собрание!..
По ночам, когда светила турецкая луна, Баязетская цитадель уходила в душную темноту острыми краями своих фасадов и казалась тогда кораблем, плывущим в бездонную неизвестность.
10
Наступление на Балканах развертывалось успешно, и русский солдат-богатырь уже погнал турок, как говорили болгары, в «Смаилову дунку». Однако на Кавказе счастье изменило успеху русского оружия, и турки начали отчаянную резню армян, десятки тысяч армянских семейств вырезались поголовно, не исключая и грудных младенцев. Тер-Гукасову, таким образом, пришлось со своим отрядом, истомленным в неравных битвах, сдерживать натиск противника и спасать армян, которых он направил к русской границе – по неимению лучших дорог – страшными горными тропами, где ходили одни дикие кошки и джейраны, и этот неимоверно тяжкий путь остался в памяти армянского народа навечно.
Но обо всем этом в Баязете еще ничего не знали, а совещание, на котором должна была решиться судьба одинокого гарнизона, началось как-то странно.
………………………………………………………………………………………
– Господа, – сказал Штоквиц. – начнем, как и водится, с выслушивания мнения младших. Прошу вас, господин юнкер!
Евдокимов сразу стал говорить о том, что бассейн фонтана необходимо заполнить водою, но Пацевич тут же резко посадил его на место:
– Э, юнкер, мы собрались обсуждать вопросы серьезные, а вы нам городите тут про воду… Садитесь!
Встал Клюгенау.
– Я тоже, – сказал он, – хотел начать с вопроса о водоснабжении дворца, но, не желая быть на положении господина юнкера, начну о другом. Я уже немного ознакомился с дворцом; в нем есть все, что необходимо для дворца шаха: бассейны, сераль, мечеть, конюшни и дворцовые палаты.
– Да что вы зарядили: дворец да дворец! – недовольно заметил Штоквиц. – Баязет не дворец, а крепость!
– Так вот, – спокойно продолжал Клюгенау, – в этом дворце нет главного, что необходимо для крепости. – Легкий кивок головы в сторону Штоквица. – Нет живучести и боеспособности. Наконец, господа, нет просто крепости, как одного из видов прочности. Цитадель строил художник, но не фортификатор. Вопрос об отступлении из Баязета отпадает сам по себе, ибо таких путей не имеется. Что же касается дебуширования [11]11
Дебуширование – тактический маневр рассредоточения войска с малой площади на более широкую.
[Закрыть] войск, то сие также невозможно: ворота крепости столь узки, что войска, выбегая из цитадели, окажутся на узком пятачке между рвом и скалами. Далее, – говорил Клюгенау, – Баязет может выдержать обстрел бронзовых пушек, но прямые попадания из крупповских орудий сметут его с лица земли…
– Что вы предлагаете, барон? – спросил Пацевич заинтересованно.
– Я предлагаю, господин полковник, написать туркам письмо с просьбой, чтобы они не применяли против нас крупповских пушек.
– Тут не до шуток, барон… Кто следующий?
– Латышев молчит, – заметил Штоквиц. – Похвальная скромность! Что ж, послушаем тогда сотников… Карабанов, говорите!
– А что мне говорить? – с мрачным выражением лица ответил Андрей. – Мое дело казацкое: мне прикажут – я выполню. Нет у меня настроения говорить сегодня, когда… Воды вот, – сорвался он неожиданно, – это верно, запасти надо. Провизия еще из Игдыра не пришла. Жарища в казармах, а ледоделательный аппарат застрял в Тифлисе… Впрочем, извините меня, господа, но я действительно лучше послушаю!
Хвощинский посмотрел на поручика с удивлением и укором, но Андрей отвернулся, концом шашки стал ковырять дырку в полу.
– Так нельзя, господа! – возмутился Штоквиц, и, наверное, возмутился даже искренне. – Один начинает с пустяков, второй балаганит, а другие вовсе отказываются говорить. Тогда позвольте высказаться мне.
Потребовалась карта.
– Она там, на полке, – подсказал Пацевич. – Некрасов, вы ближе всех: достаньте.
Юрий Тимофеевич замешкался, отыскивая карту среди вороха бумаг, коробок из-под сигар и затхлых лекарственных склянок.
– Офицер генерального штаба, – съязвил ему в спину Исмаил-хан, – а даже карты найти не может!
Никто бы и не обратил внимания на этот выпад хана, зная его характер, но Пацевич с неожиданной яростью вдруг набросился на подполковника:
– Ва-ше си-я-тель-ство! – сказал он, запинаясь от бешенства. – Некрасов не найдет карты, но зато найдет что надо на карте. А вы-то – что?.. Зажмите свой острый ум между ляжек и слушайте, что говорят взрослые люди!
Карту нашли. Разложили. Пацевич успокоился.
– Комендант, можете продолжать, – разрешил он.
Штоквиц был человеком далеко не глупым, и он хорошо понимал, что вокруг Пацевича уже образовалась пустота. Но портить отношения с ним тоже не следует, а потому, несмотря на горячее вступление, Ефрем Иванович начал довольно-таки осторожно.
– Мне кажется, – глубокомысленно заявил он, сделавшись на минуту печальным, – что горький опыт последних дней все-таки следует рассматривать положительно, ибо он дал возможность увидеть наши просчеты. Однако, ничего не приобретая, мы уже начали терять. Требуется, господа, как любит повторять полковник Хвощинский, дело. И первое, что необходимо, – это провести развернутую рекогносцировку в окрестностях Баязета. Надо уяснить наконец точное наличие противника, и в этом я могу быть солидарен с Адамом Платоновичем.
Закончив свою дипломатию, он сел. И тогда поднялся Ватнин: голову пригнул, как бык, расставил по столу свои ручищи.
– Я, – сказал Ватнин, – академий не кончал… Я, – сказал Ватнин, – книг вот читать не люблю… Я, – сказал Ватнин, – дурак, может быть… Одначе буду чесать то место, которое чешется!
Некоторые рассмеялись, но Ватнин продолжал в том же духе:
– А чешется, господа собрание, у меня вся шкура. Говорить-то красиво любой скажет. А вот свалка вещей, как в крепость въезжаешь, – мешает она? Мешает. Убрать надобно? Надо… Простите, господа собрание: мы с вами в ретираду ходим, в которую и шахи ходили. А куды солдат бегает – вы подумали? В кусты?.. А ежели завтра нас в Баязете запрут? Тогда как? – «Дизентерство» начнется, дохнуть будем?..
Исмаил-хан Нахичеванский рассмеялся, но на этот раз его уже никто не поддержал. Ватнин резал правду-матку, от которой многих коробило.
– Ну, – спросил есаул, – тогда как?..
– Верно, Ватнин, – поддакнул Некрасов. – Молодец!
– И это ишо не все, господа собрание… Огороды в Баязете убрать надо, с хозяевами расплатиться. Пущай недозрело что, а все наше. На корню скупить надобно. И – в крепость! По саклям провести повальный обыск. Отобрать все ружья, все пистоли, все ятаганы. Майдан разогнать к чертям собачьим! Чтобы никаких ораторов, никакой политики, никаких сплетен!.. Послухать их, так мы, русские, и грязные, и пьяницы, а сами хуже свиней живут, от жадности за копейку удавятся…
Он передохнул и закончил с грозной силой:
– Русский солдат пришел – то власть пришла русская! И никаких гвоздей! Не давать им, собакам, хулить да хаять нашу Россию и человека русского!.. Извините, господа собрание, ежели не так что ляпнул. Мы люди необразованные…
И он сел. Собрание оживилось. Некрасов взял слово.
– Уважаемые коллеги, – уверенно начал штабс-капитан, – Петр Великий как-то сказал: «Азардовать не велят и не советуют, но деньги брать и не служить – стыдно!..» Итак, здесь, помимо дельных выводов сотника Ватнина, заявлено деловое предложение капитана Штоквица о проведении рекогносцировки. Я согласен – это нужно. Но, господа, ни в коем случае не массовую. Только конную. Для этого надо послать ночью две сотни на Ванскую дорогу. Пусть казаки взлетят на вершины скал, быстро осветят табор фальшфейерами и не мешкая возвратятся обратно в Баязет.
Казачьи сотники тревожно переглянулись.
– Так,– одобрительно, хотя и не сразу, крякнул Ватнин.
Карабанов – тот слегка лишь кивнул.
– А что скажет капитан Сивицкий? – спросил Пацевич, очень внимательно слушавший все речи офицеров.
Сивицкий отчитался в своих делах:
– За свою часть я спокоен. Партия хлороформа и корпии вчера прибыла. Постельное белье выстирано. Инструмент и медикаменты в порядке. Раненых пятнадцать, из них один умрет вечером. Больных восемь. Зараза в гарнизоне, если она и есть, то не смеет поднять голову. А что касается упреков Ватнина, то пусть он обращается с ними к барону Клюгенау. Федор Петрович устроил в ретирадах бойницы для стрельбы!
Клюгенау развел своими по-детски маленькими руками:
– Господа, но ведь стрелять тоже надо.
– Да, чуть было не забыл, – спохватился доктор. – Надобно срочно послать кого-нибудь в Тифлис: поторопить с доставкой ледоделательной машины. Также для лазарета необходимо карболовое мыло!
– Еще чего! – рассердился Штоквиц. – Может, они пожелают лафиту или туалетный уксус?
– Лафиту солдату не надобно, – без тени улыбки ответил Сивицкий, – а вот за туалетный уксус благодарю: спасибо, что напомнили. И еще будьте так добры записать: требуются походные суспензории, хотя бы гусарские, во избежание появления у солдат паховой грыжи.
– Вы испортите нам солдат!
– Не спорьте, капитан, – приказал коменданту Пацевич, – и запишите, что говорит Александр Борисович.
Подошла очередь высказаться майору Потресову; раскатав перед собой рулон кальки с чертежом окрестностей Баязета, артиллерист неожиданно произнес:
– Позвольте высказаться старому солдату, который имеет честь командовать людьми, обреченными на смерть… Да, да, господа: мешки с песком – это хорошо, но канонирам еще надо добежать до орудий. А пространства дворов, и в особенности заднего, простреливаются с любой горушки. И это еще не все… Дурацкий план крепости дает возможность действовать только двум нашим орудиям. Таким образом, благодаря мечети и этому вот зданию мы имеем колоссальный мертвый угол. Планировка Баязета создавалась целиком из расчета отражения нападения со стороны русской границы. Теперь же нам, уважаемое собрание, предстоит выдержать штурм как раз с обратной высоты, и, таким образом…