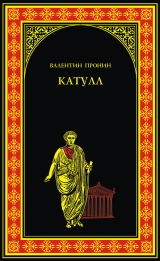
Текст книги "Катулл"
Автор книги: Валентин Пронин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
XIII
С ломким треском горели соломенные крыши галльских селений. Вырубались священные дубравы, разрушались алтари прорицателей-друидов, вытаптывались луга и тучные нивы…
Обширные пространства Галлии все больше оказывались под жестоким контролем римского войска. Испытанные в войнах, смуглые италийцы продолжали уверенно громить толпы отчаянно сражавшихся белокурых гигантов. Впрочем, Цезарь не всегда действовал только силой. Одни вожди становились его союзниками, другие пытались откупиться, не жалея накопленных предками сокровищ, третьи бежали к германцам или бритам, четвертые заменяли варварские штаны цивилизованной тогой и переходили на службу к завоевателям. Цезарь отлично разбирался в племенной мешанине и вековых противоречиях галлов. С ловкостью гениального интригана он стравливал их, запугивал, подкупал, карал и обманывал. Своим солдатам он казался воплощением самого непобедимого Марса. Цезарь спал вместе с ними, где приходилось, – на земле, в палатке и на телеге, ел из солдатского котелка, спокойнее всех переносил холод и жажду, удивлял своей выносливостью в многодневных походах, а когда требовалось их воодушевить, первым бросался навстречу галльским секирам. Он помнил имена ветеранов и лично следил за перевязкой и лечением раненых. После удачного дела он дарил каждому солдату рабыню и горсть серебра, осыпал друзей драгоценностями, но сокровищницы варварских капищ приказывал вычищать в свою пользу.
Навстречу обозам, доставлявшим в армию продовольствие, навстречу вспомогательным отрядам, подвозившим тараны, зажигательные снаряды, катапульты, онагры и баллисты, двигались к альпийским перевалам тысячи повозок с золотыми сосудами и украшениями. Римляне угоняли в Италию огромные табуны и стада. Под охраной кавалерийских отрядов тянулись длинные вереницы пленных. Скрип колес, рев и ржанье животных, щелканье бичей, вопли и стоны пленников, ругань солдат, стук и грохот сливались в ужасающий, трагический шум над некогда мирными дорогами Галлии.
В грязи и пепле разоренных селений истлевали тела погибших от ран и голода, повсюду смердели со вздутыми животами и задранными копытами околевшие лошади и быки. Медведи, волки, одичавшие псы сбегались на падаль. Омерзительно каркая, вороны и орлы-могильники черными стаями закрывали небо.
За полгода войны Цезарь отослал в Италию тридцать пять тысяч рабов. В Риме объявили всенародные празднества в честь победителя галлов; сенат вынужден был воздать хвалу своему неукротимому и удачливому врагу. Римские банкиры, откупщики и работорговцы метались с горяченно выпученными глазами. Они рвались в только что завоеванную страну: шагая по трупам и дымящимся развалинам, легче всего было приобрести колоссальное состояние. Только бы успеть, не пропустить благодатное время новых римских побед! Служить под началом Цезаря устремились многие молодые аристократы, среди них – прославленный кутила Марк Антоний, сын Марка Красса Публий, сыновья магистратов, сенаторов и даже брат изгнанного Цицерона. Слухи о богатствах Галлии не давали спать ни пресыщенным нобилям, ни нищим оборванцам. Всюду звучали странные названия захваченных северных городов: Герговия, Лугудун, Аварик, Бибракта… Все думали о Галлии, все говорили про Галлию, все бредили Галлией.
Деловая жизнь Рима, подстегнутая притоком золота и рабов, бурлила. Войсковые квесторы передали казначейству республики горы ценностей стоимостью в сорок миллионов сестерциев; вероятно, не меньше Цезарь оставил себе и своим приверженцам. По всей Италии стоимость золота сравнительно с курсом серебра упала в четыре раза. В конторах банкиров и ростовщиков ежедневно совершались десятки головокружительных сделок. Вокруг римских богачей, глотающих фантастические барыши, извивались и щелкали зубами бойкие неопрятные людишки с всклокоченными волосами и воспаленными веками – горбоносые сирийцы, сидонцы, иудеи, коричневые египтяне и льстивые, коварные греки.
Консулы пятнадцать дней увеселяли народ на деньги Цезаря. В цирках состоялись грандиозные представления. За тысячами столов римляне пировали, будто в дни Сатурналий. Оставшиеся в Риме сподвижники Цезаря чувствовали себя все уверенней.
Той же порой многие пристрастные наблюдатели, следившие за деятельностью цезарева агента Клодия Пульхра, невольно вспомнили откровенные намеки Цицерона о слишком близких отношениях Клодия с красавицей сестрой. Впрочем, ни для кого это не было тайной. Но вышеназванное обстоятельство стало особенно увлекательным, когда посещения прекрасной патрицианкой возлюбленного братца заметно участились с явлением в его доме оратора и поэта Марка Целия Руфа.
Вот здесь-то и возникло сочетание необычных случайностей, придающих отношениям Клодия, его сестры и Руфа скандально-политический привкус.
Каким образом Руф, любимый ученик Цицерона, друг республиканцев – оптиматов Кальва и Меммия, оказался среди окружения Клодия, оставалось загадкой. Некоторые простаки пытались и объяснить это просто: небогатый адвокат снял пристройку в доме трибуна, ну так что же? Конечно, язвительно возражали скептики, во всем Риме он не нашел другой квартиры… Значит, Руф изменил своим друзьям и своим убеждениям? Перешел в лагерь популяров и даже примкнул к самому крайнему их крылу, к бесчинствующему Клодию? Многие видели, будто бы, как Руф провозглашал здравицы Юлию Цезарю и рукоплескал на Форуме его клеврету Ватинию…
Но это была лишь первая часть забавной проделки Руфа. Как только Катулл уехал в Верону, прояснилась и еще одна сторона хлопотливой сноровистости адвоката. Руф стал являться повсюду рука об руку с Клодией. Они любезничали, бросая друг на друга томные взгляды, и всячески старались вести себя так, чтобы никто не мог усомниться в их взаимной страсти.
Клодия счастливо улыбалась, ее прелестное кругловатое лицо с нежным румянцем напоминало облик белокожих и белокурых галльских княгинь; она носила и золотые галльские украшения – это было сейчас особенно модно. И Целий Руф выглядел великолепно, под стать ей: мужественно-смуглый, с орлиным носом, резкой линией волевого подбородка и гордой осанкой. Они не расставались целыми днями, и ночевать Руф отправлялся в спальню Клодии, с успехом замещая своего друга Катулла. Рим нетерпеливо ждал приезда веронца. Друзья и враги, женщины и мужчины предвкушали удовольствие.
Однажды на Форум, к портику Весты, где происходили литературные диспуты, пришел Лициний Кальв. Выждав немного, Кальв предложил довольно многочисленному собранию послушать эпиграмму Катулла, написанную только вчера.
Некоторые поэты сделали кислую мину. Предусмотрительные хитрецы приготовились записать услышанное. Оратор Гортензий приставил к уху ладонь, чтобы не упустить ни слова. Молодой литератор Асиний Поллион заранее торжествующее улыбался.
Достав табличку, Кальв прочитал:
Руф! Я когда-то напрасно считал тебя братом и другом!
Нет, не напрасно, увы! Дорого я заплатил.
Словно грабитель подполз ты и сердце безжалостно выжег,
Отнял подругу мою, все, что я в жизни имел.
Отнял! О, горькое горе! Проклятая, подлая язва!
Подлый предатель и вор! Дружбы убийца и бич!
Плачу я, только подумаю: чистые губы чистейшей
Девушки пакостный твой гнусно сквернит поцелуй.
Но не уйдешь от возмездья! Потомкам ты будешь известен!
Низость измены твоей злая молва разгласит!
С этого дня внимание римлян к любовным похождениям Клодии еще более обострилось. Уязвленный Катулл через каждые несколько дней сочинял новую эпиграмму и собирал дань всенародной славы. Под базиликами, во дворцах и тавернах, на рынках и площадях обычно обсуждались теперь следующие новости: блестящие победы Цезаря; обогащение и мотовство Цезаревых сподвижников; дебаты в сенате по поводу возвращения изгнанного Цицерона; самоуправство Клодия, незаконно отнявшего поместье у судьи Вария; слухи о странных стонущих звуках, исходивших из-под земли недалеко от Неаполя, и, наконец, стихи Катулла.
К последней теме обратился и разговор молодых людей, стоявших солнечным утром у колоннады Эмилия. Это были друзья и знакомые Катулла, сведущие не только в тонкостях поэзии, но и во всех подробностях его жизни.
– Я допускаю, что Катулл многого добился в искусстве стихосложения, но к непристойности содержания в его стихах привыкнуть невозможно… – говорил поэт Фурий Бибакул.
И длинный, худой щеголь Порций с испитым лицом и выпяченной нижней губой, и сверкающий перстнями Тицид с напомаженной бородкой, узкой, как на статуях египетских царей, и оратор Калькой, больше прославившийся кутежами, чем успехами на ростральной трибуне, и даже земляк Катулла, массивный и громогласный Вар, – все кивнули головами, соглашаясь с Фурием. Действительно, Катулл в своих эпиграммах на Руфа перешел всякие границы грубости и бессмысленной клеветы.
Руф оказался политическим перевертышем, примкнувшим к партии Цезаря… Но об этом-то Катулл как раз и не упоминает, – он поносит Руфа только за то, что тот отбил у него Клодию. Боги всеблагие, разве в этом дело! Не стань Руф ее тысяча первым любовником, подвернулся бы кто-нибудь другой. Неужели Катулл не понимает столь простой истины?
Что же касается прекрасной патрицианки, которую Катулл раньше воспевал так восторженно, то тут уж он совсем обезумел. Какими только оскорблениями он не поливает свою недавнюю возлюбленную, точно из помойного ведра! Он избрал для этого интересную форму: обращается к своим ямбам и учит их, как уломать «подлую девку» и потребовать у нее обратно табличку со стихами. О мать богов, здесь и «мерзкая подстилка», и «порождение гнуснейшего разврата»!
Рассуждая об этом, еще один собеседник, близкий друг Цицерона, трибун Сестий, искренне негодовал. Сес-тий был мужчина лет сорока, с лысым лбом, зеленым цветом лица и унылым носом. Несмотря на болезненный вид, энергии и смелости Сестию было не занимать.
Он явился одним из инициаторов борьбы за возвращение Цицерона из изгнания.
Итак, Сестий стоял у колоннады Эмилия и строго судил стихи Катулла. Милейший юноша Фурий прав: Катуллу следует выбирать выражения. Как не стыдно писать так о римлянке, хотя она и сестра злобного чудовища Клодия Пульхра! И дело не в ней, наконец, а в римской поэзии! Что это: «улыбка сучья» и «собачья морда»?
– Я чуть не лопнул со смеху, читая последние строчки, – признался Альфен Вар. – Ничего не скажешь – ловко закручено!
Собеседники опять пожали плечами. Как бы там ни было, от Катулла напрасно ждут изящной поэмы на редкий мифологический сюжет. Нет, Катулл слишком увлекся своими пошлыми переживаниями. Вообще Катуллу повезло. Он прославился потому, что Катон и Кальв суют во все сборники любую блажь, какую бы ему ни вздумалось нацарапать. Он их прямо околдовал, они готовы жизнь отдать за его стихи.
Литераторы долго обсуждали поведение взбалмошного и безалаберного веронца. Они любили его, конечно, но правда для них свята: не следует превозносить Катулла выше того, чего он действительно стоит.
– А то совсем уж рехнулись, – возмущенно сказал Луций Калькой, поднимая красиво подведенные брови, – издают две жалких строки…
– У кого ты нашел эти две строки? – спросил Тицид, позевывая и небрежно вертя пальцами тросточку.
Калькой достал из сумочки, украшенной сердоликом, свиток и развернул его.
– Вот сборник Асиния Поллиона. И сюда между законченными и вполне приличными стихами втиснули Катулла, послушайте-ка…
Да. Ненавижу и все же люблю. Как возможно, ты спросишь?
Не объясню я. Но так чувствую, смертно томясь.
Вар фыркнул:
– Только и всего?
– Odi et amo [147]147
Odi et amo. – Ненавижу и люблю… (начало двустишия Катулла).
[Закрыть]… Какая нелепость! – воскликнул Сестий.
– Пустяк, не стоящий внимания, – произнес Тицид, но почему-то поежился, будто от внезапного озноба.
XIV
Катулл вернулся в Рим без старика Тита и почти без денег. Прощаясь, отец не предложил ему и полсотни аурей. Катулл выслушал его наставления и с сыновней почтительностью поцеловал суховатую руку матери. Он покинул их с облегчением и печалью.
По приезде он отправился на Квиринал: пристройка в доме всадника Стаберия оставалась пока за ним. Стаберий передал ему письмо от Корнелия Непота. Историк настойчиво просил навестить его в день приезда, не откладывая ни минуты. Взволнованный тон письма не походил на обычную рассудительность Непота. Катулл почувствовал странную тревогу и как был – с запущенной бородой, в войлочной шляпе и дорожном плаще – поспешил к другу.
Непот крепко поцеловал веронца, провел его в таблин и тщательно задернул вход занавесом.
– Что случилось, Корнелий? – спросил Катулл упавшим голосом, тревога не оставляла его, словно подтверждая самые ужасные предчувствия.
Непот воскликнул, подняв руки:
– Хвала богам, что ты послушался моего письма! – И он рассказал Катуллу об измене Клодии.
Катулл сначала был неподвижен, потом побледнел, как мертвец, и бросился к двери, но историк твердо стоял на пороге. Катулл грубо выругался, пытаясь его оттолкнуть. Непот заранее призвал все свое хладнокровие и все участие дружбы.
Они долго боролись. Непот пересилил и, тяжело дыша, повалил Катулла на низкое ложе, устланное шерстяным покрывалом.
Катулл лежал лицом вниз, растерзанный и униженный, из-под задравшейся сбоку грязной туники торчали его худые волосатые ноги. Лежа, он еще раз осознал свое бессилие перед постигшей его бедой. Катулл вцепился пальцами в свои отросшие космы и зарыдал. Грустно мигая и слушая, как он глухо взлаивает и скрипит зубами, Непот накрыл ему ноги краем покрывала и молча гладил по прыгающей спине.
Когда Катулл с усилием поднял мокрое лицо, Непот обнял веронца и начал говорить. Он негодовал, убеждал и ободрял. Он приводил примеры их мифологии и истории. Он использовал в своих рассуждениях стихи и изречения философов. Рассуждая, он расхаживал перед Катуллом, который продолжал лежать, полузакрыв распухшие веки. Наконец Непот умолк и стоял напротив с открытым ртом, будто собираясь еще что-то прибавить. Веронец криво усмехнулся искусанными губами.
– Прости, я обеспокоил тебя, мой Корнелий. Вечно меня преследуют неприятности. Но я люблю эту развратницу до безумия. Прошу тебя, дай мне выйти. Я убью Руфа и отнесу ей кинжал, испачканный его подлой кровью. Пойми, мне все равно не жить без нее.
Непот велел принести конгий крепкого аминейского и кисть вяленого винограда. Катулл смирился с непреклонностью друга. Увидев вино, он словно оживился и пил стакан за стаканом. К вечеру он попросил третий кувшин.
Непот несколько раз вставал ночью, подходил к таблину и прислушивался. Веронец наливал в стакан вино, икал и, всхлипывая, бормотал несвязные слова. Заснул он, нелепо скорчившись, завернув голову шерстяным покрывалом. Когда он проснулся, у него началась тяжелая рвота.
На другой день Непот вошел в таблин, толкнул ногой пустые кувшины и сказал:
– Хватит, Гай. Для тебя нагрели воды, вымойся, сбрей бороду и перемени одежду.
Катулл хмуро повиновался. Его покачивало. Скоро он явился выбритый и в чистой тунике. Непот подал ему кусок папируса, тушь и тростинку. Дрожащей рукой Катулл написал письмо Клодии.
В ожидании ответа он метался по комнатам и от нетерпения готов был биться головой о стены. Через час посланный с письмом раб вернулся. Он рассказал, что отнес письмо на Палатин в дом госпожи Клодии, но вместо ответа получил только пинки. Двое верзил схватили его и вышвырнули на улицу.
У Кутулла ослабли ноги, он опустился на скамью.
– Может быть, все еще изменится… – неуверенно произнес Непот, не зная, что предпринять дальше. Катулл лег и лежал не двигаясь.
Тем временем в городе узнали о возвращении поэта. Знакомые и незнакомые люди стали осаждать дом историка, настаивая на свидании с Катуллом. Большинство безуспешно прятали жадное любопытство. Непот спокойно отказывал всем, даже близким друзьям – Цинне, Корнифицию, Вару, – и послал Валерию Катону просьбу не принуждать Катулла к встречам и объяснениям. Один почтенный всадник просил передать поэту в подарок десять тысяч сестерциев. Непот вежливо отклонил столь щедрое проявление поэтического признания. Деньги деньгами, но к чему удрученному веронцу брать на себя обязательства почтительной благодарности? Непот оградил Катулла и от этого беспокойства.
Утомительная осада продолжалась. Однажды ночью какие-то наглецы стали с криками ломиться в дверь. Непот достал со дна сундука кавалерийский меч своего умершего отца, приказал рабам зажечь факелы и распахнул дверь.
Крикуны попятились в темноту. Непот стоял, освещенный факелами, и размахивал широким мечом, горевшим багровым отсветом. По древнему закону Рима, крикнул Непот, он имеет право убить каждого, стремящегося ночью проникнуть в его дом, как вора. И пригрозил вызвать городскую стражу. Опасаясь быть узнанными, буяны трусливо бежали. И все-таки непрошеные посещения не прекратились. Римляне выказывают удивительное упорство, когда им хочется позабавиться за счет чужого страдания.
Через неделю пришел Кальв. Непот впустил его без колебаний. Кальв посмотрел на Катулла, поцеловал его в подбородок (Катулл казался ему высоким), выслушал Непота и сказал:
– Ну, Гай, кажется, ты надоел Корнелию. Накинь тогу и прошу тебя следовать за мной.
Они простились с Непотом и направились к подножью Авентина, где находился дом маленького оратора. На улицах кое-кто узнавал Катулла, но им преграждали дорогу клиенты Кальва, крепкие молодые люди, на всякий случай державшие в руке по здоровенному булыжнику.
Несмотря на болезненную бледность, Катулл выглядел вполне сносно. Он вежливо приветствовал жену Кальва, скромную, тоненькую Квинтилию, и светски-изящно поцеловал край ее паллия. Они пообедали втроем, и в триклинии Катулл пытался даже шутить. Кальв занимал его разговорами о политических новостях и между прочим сообщил, что сенат постановил отменить изгнание Цицерона и вызвать великого оратора в Рим. В свою очередь, Катулл предположил, что с возвращением Цицерона самовластье триумвиров поколеблется его обличительными выступлениями. На это Кальв, пожав плечами, заметил, что сомневается в смелости Цицерона. Они заспорили. Казалось, к Катуллу вернулось относительное спокойствие. Но вечером, когда Кальв заглянул в отведенную для веронца комнату, он увидел его равнодушно наблюдающим, как из надрезанной на левой руке вены упругим фонтанчиком льется кровь. Кальв выхватил у Катулла нож и вскрикнул сорвавшимся голосом. Вбежала Квинтилия и рабыни. Вену перетянули жгутом и помчались за лекарем. Катулл смущенно бормотал, оправдываясь, но не сопротивлялся. Кровь удалось остановить, и Катулла уложили в постель.
Кальв погладил его перевязанную руку и сказал скорбно:
– В этом доме таким способом уже призвал смерть мой несчастный отец… Честь была для него драгоценнее жизни…
– И мне не хочется жить, Лициний. Без любви мне не нужны ни воздух, ни пища… – виновато сказал Катулл.
– Муза одарила тебя своей величайшей милостью. Гений поселился в твоей душе. Разве не кощунство до срока заставить его умолкнуть?
Катулл внимательно слушал. Его ослабевшая воля искала целительной поддержки в уверенных и торжественных словах друга.
– Твои стихи переживут столетия, – продолжал Кальв, – Почему ты не хочешь подумать о людях, которым они необходимы? Благодаря твоим безделкам они узнают мгновенья светлого счастья. Ты ранен гнусной изменой, но не держи в себе страдание – выплесни его так, как это дано только тебе. Ты старше меня, но ты неразумное дитя, если сам не сознаешь своего предназначения. Обещай мне не делать больше ни одного поступка, недостойного мужчины…
Катулл кивнул, напряженно глядя в угол, на тень от головы Кальва.
– Клянись Юпитером, Аполлоном… памятью любимого брата…
Кальв положил перед Катуллом стиль, табличку и придвинул ближе светильник.
– Ты клянешься? – настаивал он.
– Да, – тихо сказал Катулл и посмотрел на маленького оратора уже отвлеченным поэтической мыслью взглядом.
XV
Кальв нашел для Катулла квартиру на восточном склоне Авентинского холма. Две комнаты на четвертом ярусе шестиярусного «острова» сдавались за полторы тысячи сестерциев в год. Кальв уплатил в домовой конторе треть суммы и нанял лохматого возчика-сабинца, который перевез на своей повозке вещи Катулла.
Двух– и трехкомнатные квартиры, выходившие узенькими оконцами на улицу, занимали семьи торговцев средней руки, мелких служащих магистратур, учителей грамматики и врачей городской больницы. Среди этих людей встречались и граждане, и отпущенники, и провинциалы. С другого входа, со стороны темного простенка, находились каморки ремесленников, ветеранов, пропивающих свои пенсии, разносчиков, мусорщиков и девиц, по нескольку раз на день приводивших гостей.
Катулл взял на новое место только книги, сундук с одеждой и самую необходимую утварь. Вазы и статуэтки он отдал за небольшую сумму перекупщику.
Комнаты были довольно просторные, но со стен клочьями облупилась краска, а над жаровней чернела жирная копоть. Катулл приладил вешалку для плащей и постлал одеяло на ложе с расшатанными ножками. Надо было еще сложить в ларец книги, отдать прачке грязную одежду и купить в лавке сыра и овощей. В доме, к счастью, оказался водопровод – на третьем ярусе из пасти бронзового пса лился тоненький ручеек. Житейские заботы на время отвлекли Катулла от душевных терзаний.
Тишина была здесь редкостью: целый день раздавались вопли чумазых детей, крики и ссоры горластых женщин, громкие разговоры, ругань, плач, пьяные песни. Все это продолжалось до поздней ночи, а перед рассветом с улицы доносился тяжкий скрип колес и голоса возчиков – к рынкам двигались бесконечные обозы. В этом квартале никто не интересовался поэтической и скандальной славой Катулла.
Правда, однажды в дверь робко постучались. К нему заглянули соседи – молодой провинциал с хорошенькой смущенной женой. Они осведомились, тот ли он самый Гай Катулл, который сочинил прелестную песню об умершем воробышке, и в ответ на хмурый кивок преподнесли ему вышитый платок и горшок пиценских оливок.
Катулл, принужденно улыбнувшись, поблагодарил. Он был растроган, хотя и немного досадовал. Ох, уж этот воробышек, этот «милый птенчик»! Можно подумать, что он не написал больше ничего стоящего… Не говоря о вкусах некоторых простодушных почитателей, даже в столичных сборниках перед столбцами его стихов часто рисуют пресловутого воробья, сидящего на лавровой ветке. Такая упорная безвкусица раздражала его, он пытался протестовать, но тщетно. Все любили стихи о воробышке, о той издохшей пичуге, память которой он воспел, угождая Клодии.
Катулл вдруг сменил свое грустное одиночество на прежнее беззаботное веселье. С судорожным смехом он врывался к Валерию Катону и с порога читал очередную эпиграмму на подлеца Руфа. Его эпиграммы появлялись в разных сборниках еженедельно. Римляне переписывали их друг у друга, не дожидаясь новых изданий.
Руф пренебрежительно отворачивался от злопыхателей. Он сократил время, отведенное для любовных утех, и тоже взялся за стихи, в которых описывал свои высокие чувства к некой безымянной возлюбленной. Но издатели под разными предлогами отказывались принимать его излияния, тогда как еще недавно он считался одним из любимых поэтов римской молодежи.
Руф сжимал кулаки и шептал проклятия. Этот истеричный, языкастый Катулл неутомимо поливал его грязью. Над Руфом посмеивались даже его нынешние со-ратники-цезарианцы, а Клодий Пульхр, читая катулловские эпиграммы, хохотал с видимым удовольствием. «Ревнует ко мне сестрицу!» – бормотал озлобленный Руф, но продолжал жить у него в пристройке. Между Руфом и Клодией стали происходить ссоры.
Издание эпиграмм поддерживало Катулла не меньше, чем помощь друзей. После выпуска очередного сборника Клараном, Поллионом или другим издателем Валерий Катон раскладывал перед Катуллом столбики серебряных денариев. Веронец сметал их со стола в кошелек и приглашал земляков в таверну Плокама. Катон советовал поберечь деньги, но беспечный Катулл кричал, подбоченившись:
– В Эреб бережливость!
Впрочем, веселье Катулла было только кратковременной игрой. Он тосковал и плакал ночами, а на рассвете, умывшись у фонтана и вытерев лицо краем измятой лацерны, будто влекомый колдовской силой, отправлялся безмолвным призраком бродить вокруг дома Клодии.
Все казалось ему здесь дорогим и трогательным, все восстанавливало в памяти ее слова и жесты, звуки милого голоса, прикосновения нежных рук… и на глаза просились слезы умиления. Вот на этом месте он простился с Клодией, провожая ее после праздника у Мунации, и впервые прикоснулся губами к ее щеке, потрясенный нестерпимым блаженством. Сколько раз он выходил из этого дома утомленный ее искусными ласками, со звенящей от бессонной ночи головой и переполненным любовью сердцем! Так же пробивалась травка с краю мостовой, так же покачивались от легкого ветерка глянцевитый мирт и тоненький тополек на перекрестке, перед статуей палатинской Юноны.
На улицах было еще безлюдно. В небо взлетали белые голуби, воробьи сыпались стайками с крыш. В лучах зари розовели дворцы и храмы, из-за оград возносились, слегка покачиваясь, исполинские свечи кипарисов, шелестели смоковницы и перистые ливийские пальмы. У дверей патрицианских домов появлялись зевающие и потягивающиеся рабы. С настороженным удивлением они косились на одинокую фигуру Катулла.
На следующие сутки все повторялось. Катулл не надеялся на чудо и не мечтал увидеть Клодию даже издали. Ему лишь хотелось взглянуть на истертые плиты мостовой, где ступала ее изнеженная ножка. Он бродил по ночам потерянно и безвольно, как заболевший лунной болезнью. Он знал, что гибель его близка.
И судьба наградила его неожиданно, сгустив редеющий сумрак в светящийся силуэт Клодии.
Солнце вставало. Колоннада портика, к которому Катулл поднимался по широкой лестнице, отбрасывала прохладные тени, а между колоннами навстречу ему шла Клодия. Лес мраморных стволов и фигура стройной женщины на фоне разлившихся красок пурпурной зари походили на воплощение эллинского мифа о розовоперстой Авроре – Эос. Катулл провел рукой по лицу, будто стирая с глаз пелену обмана. Он подумал, что у него начались галлюцинации. Но Клодия приближалась. Сначала Катуллу показалось, что она совсем без одежды, так пронизывали утренние лучи ее легкую тунику, подпоясанную красной лентой. Смуглая гречанка Хиона несла изящную сумочку и сидонский плащ госпожи.
Куда шла Клодия в такой ранний час? Катулл не находил объяснений. Сердце его гулко стучало, обмирая и падая. Он стоял, напрягаясь всем телом, потому что ступени под ним качались.
Пораженная печальным явлением поэта, Клодия направилась к нему. Он смотрел на нее неподвижным взглядом безумного. Утренняя нега еще не оставила ее, и, может быть, из-за этого она почувствовала смущение и слабость.
– Привет тебе, о Клодия… – прошептал Катулл. Ее зрачки метнулись, не выдержав пристальной силы его взгляда, и Клодия сказала:
– Я ждала тебя, Гай.
Катулл был уверен, что она говорит правду. Только веление богов могло заставить капризную красавицу подняться на грани ночи и дня, выйти без охраны на пустынную улицу и оказаться на его пути.
Клодия подошла вплотную и прильнула к нему – прижалась щекой к щеке, закинув ему за шею обнаженные руки. Катулл ни единым словом не напомнил о ее измене и своем исступленном страдании. Оба дрожали, как неопытные подростки. И когда Катулл услышал «милый мой, жизнь моя, Гай…» – в его душе не было сомнения в том, что Клодия любит его как прежде.








