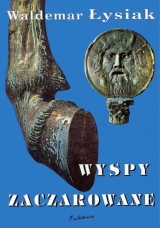
Текст книги "Зачарованные острова"
Автор книги: Вальдемар Лысяк
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
18. Пейзажи боли и улыбка Саломеи
«Наивысшая боль – это боль в молчании»
Иоахим дю Беллей.
«Выйдя же, сказала она матери своей: Чего я должна просить?
Та же ей ответила: Головы Иоанна Крестителя».
Евангелие от Марка.
Мой очередной остров в архипелаге ломбардской земли, это миланская Брера, а точнее – самый центр небольшого зала, из которого можно наслаждаться двумя картинами.
Пинакотека Брера – словно Сезам. Она насыщена шедеврами Рафаэля, Карпаччо, Тинторетто, Лото, Тьеполо и других, у которых в жилах текла кровь гениев. Но снова и снова проявляется мотив славы, рекламируемой столь громко и столь настырно, что это становится мучительным и приводит к безразличию. Все те шедевры можно пройти, глянув и низко поклонившись, но как пройти мимо этих двух без аффектации? Я просто не мог. Одинаково знаменитые, они, все же, намного сильнее, путают твои чувства и заставляют подламываться ноги, приковывая тебя надолго и заставляя размышлять о жизни, порождающей подобное искусство, и о смерти.

Обе картины называются «Мертвый Христос» – одна принадлежит кисти Мантеньи, другая – Беллини. Почему здесь останавливаются разумные и глупцы, и почему здесь все ищут столько ответов? И какой же это мудрец повесил их тут, одну напротив другой, предвидя, что они будут двумя крыльями одних врат – они задерживают в маленькой комнате всякого, даже тех, кого не тронул своей философией и мастерством Пьеро делла Франческа, ни сладкой мягкостью и сочными красками Рафаэль.
Андреа Мантенья (1431–1506) из Падуи, выразитель античных тягот, художник, график, археолог и собиратель из Северной Италии, который великолепно соединял серьезность и твердость классических форм, почти готическую жесткость и сказочность пространства. Некоторые из его произведений – это бесценные драгоценности итальянского Возрождения.
«Cristo Morto» – лежащий на смертном одре Спаситель, а рядом с ним лица оплакивающих Его женщин (альтернативное название: «Оплакивание Христа»), лица здесь сформированы по образцу античных мрачных масок, трагичных и закаменевших в скульптурной судороге. Историки не могут согласовать даты создания картины (гипотетический разброс очень велик, между 1457 и 1503 годами) – лично я предпочел бы 1467/1480 годы, размещая шежевр, скорее всего, в раннем, мантуанском периоде творчества Мантеньи, уже наполненном жестким реализмом и бравурной перспективой (сторонником которой Мантенья останется навсегда). И какая же необычная это перспектива! Разве кто-то другой осмелился бы писать Христа лежащим, глядя со стороны пробитых гвоздями стоп так, что линия взгляда находится чуть ли не на высоте вырванных в коже дыр? При этом мы получаем ужасное сокращение перспективы, дающее возможность заглянуть покойнику в ноздри. Такая перспектива человеческого тела подобна перспективе улицы, которую художник творил бы, лежа на мостовой. И потому она такая жестокая. Мы называем ее «лягушачьей перспективой».
Если упомянутая перспектива смерти является (по моему личному мнению) наиболее потрясающей в истории живописи, то идентичный ранг достигает и колорит картины Мантеньи – архиколорит смерти. Мрачные краски, которыми жонглировал Эль Греко, и которые считаются образцом красок смерти в мировой живописи, по сравнению с этими – чуть ли не ярмарочные, приближающиеся, скорее к комиксам Диснея, чем к смерти. Эта трупная, словно гниющая, розовая. Этот коричнево-серый бежевый тон с зеленовато-голубым оттенком, а может что-то совершенно иное, здесь все очень сложно уточнять – этот тон не мог быть получен с помощью художественных красок, это цвет умирания. Откуда Мантенья нашел ее для своей палитры? Сколько же тайн у моих зачарованных островов…

Пиета. Джованни Беллини
Визави Мантенье, на противоположной стене – «Мертвый Христос, Дева Мария и святой Иоанн» («Пиета») (1467/71) Джованни Беллини (1430–1516) – насколько же далека эта картина от жесткости и героизма Мантеньи. И насколько же близка – соседством в Брере, в умах знатоков и в жизни (Мантенья был учителем Беллини и мужем его сестры). То, что скорее всего замечается у Беллини, верховного жреца венецианского искусства эпохи Ренессанса – ба, основателя той ренессансной Венецианской Школы, которая существовала пару сотен лет – это настроение тишины, концентрации и покоя, исходящее от персонажей, молчаливая задумчивость, которой аккомпанирует музыкальность красочной палитры.
Собственно говоря, точно так же и здесь. Мертвый Христос стоит, поддерживаемый с обеих сторон (матерью и святым Иоанном Евангелистом), руки у него зеленоватые, совершенно лишенные жизни, с великолепной конструкцией и рисунком каждой жилки. Дева Мария подпирает Его ниспадающую голову собственной щекой, вглядываясь в него умными глазами и не обращая внимания на то, что колючки тернового венца ранят ей виски. Зато святой Иоанн отвернул лицо в другую сторону, глаза у него расширенные, бессознательные, и раскрытый рот. И здесь он наиболее интересный, наиболее потрясающий.
Вся группа демонстрирует характерный для Беллини покой и статичность; лица даже не передают боль, это всего лишь ситуация ужасна, смерть; а вот лица – нет: кожа на щеках гладкая, не искаженная даже малейшей гримасой, нет ни боли, ни отчаяния.
Тайна заключена в лице святого Иоанна. Отчаяние, то самое чудовищное, то, которое уже на грани безумия, когда хочется грызть стену зубами, можно представить двояко: сумасшествием деформированных черт лица, губами, искривленными в судороге муки, когда оскаленные десны дрожат от плача, а из горла исходит животный рык, когда пальцы искривились в когти. Но ведь можно и по-другому. Есть такие границы отчаяния, такие грани сердечной боли, что у тела нет уже сил биться в муках, и оно отказывается подчиняться, реакция его наполняется мягким темпом замедленной кинопленки, рот широко раскрывается, словно во сне, и из связок извлекается долгий, протяжный стон, с тем же напряжением и высотой, который, словно вопль сирены несется в пространство, поглощаемое открытыми, но ничего не видящими глазами, в вечность, беспрерывную, все дальше и дальше, и нет ей конца…
Именно таким непрерывным стоном выплевывал свое отчаяние пытаемый старик в фильме «Битва за Алжир». Один из самых спорных режиссеров последних лет, американский индеец Сем Пекинпах, в завершении своего шокирующего вивисекцией жестокости фильма «Дикая банда» («Wild Bunch») представил это еще лучше – смертельно раненный десперадо, умирая, стоит на широко расставленных ногах, с отброшенной назад головой, одной рукой держась за сердце, а вторую не отнимая от спускового крючка пулемета, скашивающего волну атакующих врагов. Глаза, уставившиеся в небо, ничего не видят, а из раскрытого в последний раз рта исходит долгий, протяжный вопль в одной и той же тональности, песнь боли на одной ноте, отражающаяся эхом в горах и заставляющая стынуть кровь. У святого Иоанна Беллини спокойные черты лица, только уста беззвучно раскрыты, но, когда мы видим это, на первый взгляд, каменное лицо, то слышим тот крик смертельного отчаяния, уносящийся в далекий пейзаж венецианского мастера, крик, застывший навечно, словно тела обитателей Помпей, которые уничтожила раскаленная лава, и гипсовые отливки с которых теперь выставили в стеклянных музейных витринах.
«Cristo Morto» Беллини редко упоминается среди его величайших шедевров. Но те, которые посещают Бреру, останавливаются рядом с ним дольше всего – тот самый крик, отражающийся от стен Пинакотеки, заставляет их остановиться и вслушиваться. Кто же из людей не кричал так из глубин терзаемой болью души?
Чуть-чуть офф-топ: Сложно сказать, то ли родственные связи Мантеньи и Беллини были такими тесными, то ли было модно и прилично писать те же самые сюжеты чуть ли не одинаково (и вставлять автопортреты себя самого и своих близких в картины), но… поглядите сами. Сюжет один и тот же: «Принесение в храм». – Прим. перевод.

Автопортрет Мантеньи (крайний справа) с женой (крайняя слева) на полотне «Принесение во храм», 1465–1466, Берлинская картинная галерея

Беллини, «Принесение во храм» (художник, предположительно – крайний справа)
Жорж Брак сказал: «Наука успокаивает. Искусство предназначено для того, чтобы волновать».
Когда-то иное живописное изображение с лицом другого Иоанна тронуло меня столь же сильно, и даже не потому, что голова святого Крестителя там была лишена туловища, но по причине соседства иного лица, женского. Где и когда? Путешествуя по коридорам Бреры, я пытаюсь перелопатить джунгли минувших переживаний, пока, наконец, не попадаю в зал, где висит «Мадонна среди роз» Луини, и калитка памяти неожиданно распахивается, словно колдовские ворота при звуках волшебного пароля. И паролем, как раз, является Луини, который возвращает меня к собственной «Саломее», к той самой женщине, для которой срубили голову святого Иоанна. Я нашел ее во флорентийской Галерее Уффици, и там осматривал ее лицо.
Десятки мастеров искали моделей, чтобы представить это лицо рядом со срубленной головой пророка. Лука Лейденский, Дюрер, Тициан, Карло Дольчи, Филиппо Липпи, Густав Климт, Обри Бердслей, Регно, Бёклин, Ленбах, Крамской и многие-многие другие. На картине Липпи в образе Саломеи танцует его любовница, бывшая монашенка Лукреция Бути – опустив глазки, скромненькая, с невысказанною пристойной грацией. Саломея Тициана – это его родная дочка, реплика известного портрета красивой девушки, глядящей на нас и высоко поднимающей поднос (правда, на сей раз она поднимает поднос не с фруктами, а с головой святого Иоанна). Или же те итальянские девушки Донателло, в творчестве которого столь часто, чуть ли не как мания, появляется мотив мужской головы, отрезанной женщиной – в барельефе «Пир Ирода» (1421–1427) на купели баптистерия сиенского собора, и в флорентийской скульптуре «Юдифь» (1455) на площади перед Палаццо Веккио. Но только Луини в качестве модели избрал… Джоконду.
Бернардино Луини (умер в 1532 году) – о его жизни мы знаем гораздо меньше, чем о судьбах двух мастеров, которых я встретил на острове Бреры. Его искусство было открыто только в XIX веке, и тогда же его признали замечательным мастером ломбардского Ренессанса. Потом о нем снова забыли, но его картины украшали уже знаменитые галереи, и теперь они сами напоминают о себе зрителям, которые верят не только в художников из альбомов Фламмариона. Правильная композиция, богатый и теплый колорит, и сильная выразительность – это все Луини. А еще, тень недосказанности, след тайны – это тоже он. Как и Леонардо.
Художник, который ищет тайну – разыскивает ее, переваривает внутри собственной души, а из души переносит на холст. Рука не столь впечатлительна, но след на холсте остается. Луини разыскивал тайну Саломеи, пару раз писал ее, и он не был первым, не был и последним. Эта женщина соблазнила больше творческих умов, чем Клеопатра, Мессалина и Лукреция Борджия вместе взятые. Мастера пера не остались сзади. Первым был Исидор из Пелузия, который в V веке приписал ей имя: Саломея, ведь евангелисты никаких имен не упоминали. А потом ринулись целые толпы творцов, среди которых были Нивардус из Фландрии, Гутцков, Малларме, Хейсе, Геллерт, Рихард Штраус, Оскар Уайльд, Флобер, Байнвилль, Гейне, Зудерманн, Хельд и Каспрович.
Историки установили, что сердцевина рассказа святого Марка истинна. Сын Ирода Великого, Ирод Антипа, взял в жены супругу своего брата Филиппа, Иродиаду, и чудовищность этого поступка публично осуждал пророк-аскет, обожаемый народом Иоанн Креститель. Оскорбленная царица сделала так, что его бросили в темницу. Когда Ирод праздновал день своего рождения, пышный праздник украсила своим танцем дочь Иродиады и Филиппа. «Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним; царь сказал девице: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе; и клялся ей: чего ни попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей: чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице, и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей».[55]55
Марк, 6,22–28.
[Закрыть]

У Луини, хищно оскаливший зубы палач бросает голову святого в чашу, которую держит Саломея. Крупный специалист по Саломее, Хьюго Даффнер, писал, что мертвая голова святого Иоанна на холсте Бернардино Луини – это ухоженное лицо тогдашнего (начало XVI века) «голландца-авантюриста», героя салонов, привлекающего взгляды дам. Это правда – это лицо мертво, в том числе и с художественной точки зрения. Только Даффнер не досмотрел того, что Луини она интересует в самую последнюю очередь – самой важной для него является Саломея. Совершенно прекрасная, с нежной кожей, с лицом, отвернутым от кровавой сцены, со своими спущенными глазами, она совершенно девственная. Быть может, Луини подарил ей черты лица, с которыми Саломея выбита на древней иудейской монете – они очень похожи. Это личико горит румянцем, словно у девушки, которая впервые услышала гадкое ругательство или любовное признание, а на губах блуждает улыбка – улыбка Джоконды. Сложно не заметить этого, если вам известен шедевр из Лувра. И трудно удивляться – Луини был учеником Леонардо. Он не воровал у своего учителя эту улыбку, в которой прячутся все женские тайны, следовательно, все тайны человечества – он ее лишь взял на время для своей богини, желая сравниться с учителем. Улыбка Саломеи – как и улыбка Моны Лизы – переросла сама искусство, ведь в ней соединяются преступление и невинность. А еще, видимо, боль, страх или… насмешка.
Немного офф-топ: Лысяк пишет, что Луини писал Саломею дважды. Во время поисков иллюстративного материала, я наткнулся на вторую Саломею Луини из Венской Галереи (положа руку на сердце, она мне нравится больше, представленные выше слова Вальдемара Лысяка в отношении венской Саломеи звучат даже ярче. И сразу же вспомнилась история, связанная с тайной «Джоконды», о которой Лысяк писал на страницах «Французской тропы» – эскиз Рафаэля. Поглядите и вы, не кажется ли, что это одно и то же лицо… – Прим. перевод.

Луини "Саломея" (Вена, Музей истории искусств)

Эскиз Рафаэля
Какую тайну знает, над чем насмехается эта женщина, столь невинная у Луини, столь далекая от междувоенной Саломеи-демона австрийца Климта? Может, над тем, что через четыреста лет после смерти получила имя, которого сама никогда не носила? Или же над тем, что впоследствии десятки умников, кормящихся пером, приказали ей любить попеременно собственного отчима и святого Иоанна, над тем, что, по мнению иных, она мстила пророку за то, что он ее отверг, а по мнению иных – просила его голову, чтобы понравиться Ироду? А, может, это радость от того, что никто из ее портретистов ничего о ней не знает и совершенно ничего не понимает, ибо она была женщиной, следовательно, мужчина никогда ее не поймет?
Женщины отбирают жизни у мужей, хахалей, сыновей, братьев, чужих мужчин, подчиненных и подданных – по разным причинам. Ради того, чтобы сохранить порядок в государстве или ради каприза – это владычицы. За израненную свою любовь – это преданные любовницы, которыми владычицы тоже бывают. И, наконец, ради идеи – это Юдифь, держащая голову Олоферна, или женщина из фильма Аррабала «Да здравствует смерть» («Viva la muerte»), которая выдала собственного мужа на расправу, считая это карой за убеждения, угрожающие – по ее мнению – уничтожением всего того, что было дорого ей: отчизны, Церкви, семьи. Один рецензент писал о ней:
«Парадокс и проблема этой женщины заключаются в том, что она, чуть ли не полностью, является желанием действовать во имя „высшей цели“, желанием творить добро и одно только добро, любой ценой; она является квинтэссенцией ненависти ко злу и отвращения к греху, она же является таким искажением сознания путем самой возможности испорченности, глубинным призванием становится искоренение этого греха (…) Здесь следует учесть, что с точки зрения этой женщины ее поступок ни в коей степени не является изменой, вероломством, подлостью или преступлением. Он не следует из слабости или упадка характера, из низких или подлых побуждений, из злой или неправой воли. Если бы было так – мы бы имели дело с еще одной версией описания людской свалки истории, но тогда не было бы проблемы и не было бы значительного произведения искусства. Нет, фильм Аррабала и персонаж этой безумной женщины, которая – хотим мы того или нет – достигает масштабов героев античной трагедии, они совершенно из других измерений».
А разве просьба Саломеи не обладает масштабом античной трагедии? Не была ли она уверена в том, что, ликвидируя христианина, она ликвидирует угрозу всему тому, что было ей дорого? Или это был всего лишь гадкий каприз, глупость, пустая девичья ненависть? Или всего лишь послушание по отношению к матери? Мы не знаем – именно потому она и смеется. И этот смех направлен не нам – она смеется над нами! Расшифровывать тайну этой улыбки, это пытаться через лаз, пробитый сквозь всю Землю, добраться до Солнца, спрятанного на другой стороне планеты – ты встретишь ту же самую невозможность и золотой щит, висящий на небе так же высоко, убегающий за горизонт и такой же недостижимый.
И наконец – разве имеет значение, какую истину скрывают уста Саломеи? Оскар Уайльд сказал: «В религии – это попросту мнение, переданное посредством традиции. В науке – посредством новейшего открытия. В искусстве – посредством нашего последнего увлечения». Я соглашаюсь с Уайльдом, который, по-видимому, женщин понимал, поскольку их не любил, и который написал «Саломею» по-французски специально для Сары Бернар. Содержание этой пьесы плевать хотело на историческую истину, но перед алтарем искусства это не имеет никакого значения. «Наивысшей степенью развития лжи является ложь в искусстве. Святилище искусства будет недоступно тем, которые не любят Красоту больше Правды», – писал Лорд Парадокс. В завершение его драмы дочь Иродиады целует голову пророка. «Убейте эту женщину!» – восклицает остолбеневший Ирод Антипа. Солдаты наваливают на Саломею тяжелые щиты и душат ее.
Насколько же слабой была вся это солдатня, и насколько легкими были щиты, раз отобрали всего лишь жизнь, но не размозжили той усмешки, что пережила века. Если бы я мог ее погасить – то сделал бы это, вот только где найти щит, более могучий, чем искусство ренессансных мастеров? Можно убить злую женщину, но никогда – лукавой и коварной женственности, тиражируемой в миллионах экземпляров в каждом поколении, искушающей и порабощающей. Это она и есть – вечная усмешка цариц жизни. Если бы не факт, что без нее жизнь превратилась бы в черно-белое кино – могу поклясться, что никто не был бы более достойным Нобелевской премии, чем мудрец, который изобрел бы способ превратить женщину снова в ребро.
19. Нож Леонардо
«Будущее можно увидеть в минувших вещах».
Ретру.
«Несчастное человечество!..
Что гонит его на росстани страшные,
Что силой толкает с цветистых лугов
Под лезвие ножа?»
Адам Аснык.
Один из тех, кого я люблю более всего, Антуан де Сент-Экзюпери, писал: «Тайна является элементов вселенной». А Мария Домбровская вторила ему: «Тайна, тайна, которой окутаны, несмотря на вечные „расшифровки“, все наши шаги, жесты, чувства и мысли на этой земле».
Леонардо да Винчи, учитель Луини, чудесным образом понял, что сутью всего нам известного является тайна, ибо мы ничего не знаем. А когда понял это – написал руку и нож.
Дорога, которую он прошел, чтобы добраться до этого клинка, должна была быть длинной, словно марш через пустыню. Никогда и никакая женщина не оказала на него влияния и не испортила этого марша. Воистину, он должен был знать, по образцу людей Востока, что «великая мысль – это конь, а женщина – это путы на ногах этого коня». Он жил глубиной интеллекта, а не чувств. И по этой причине был вечным анахоретом, и потому его считали кем-то вроде Фауста. «Когда ты сам, то принадлежишь исключительно себе», – эти его слова звучат будто кредо. До конца жизни вокруг него сновала какая-то мгла нереальности, заставляющая окружающих относиться к нему с опаской. «Только в одиночестве ты находишься в компании», – говаривал Тиберий.
Ночи сам на сам, с собственным мозгом, наполненным клубящимися и безумными мыслями, кусающими минувшую будничность и направленных к будущему. Я так и вижу, как он сидит, держа голову растопыренными пальцами, как он отталкивает от себя тот нож, как еще верит в крылья, которые позволят ему преодолеть насилием мертвенность собственного тела и взлететь высоко-высоко. Он верил, что очутившись ближе к облакам, поймет на какую-то частицу больше, что когда глянет на Землю с высот, поглотит ее сильнее. Он желал стать птицей.
Ромен Роллан восклицал: «Существует только одно наслаждение – творения» («joie de creer»). Для Леонардо творением было поиском, нет, скорее – открыванием, проходкой сквозь породу с помощью мозга. Только это давало ему наслаждение. Являясь человеком Ренессанса, он уже был гражданином будущего. Он слушал речи Сен-Жюста и трубы Наполеона, сидел в гондоле братьев Монгольфьер и пил вино с братьями Райт, потом спорил с Эйнштейном относительно какого-то уравнения. Свои изобретения он производил легче, чем иные – слова. Его любимым ребенком был орнитоптер – огромные крылья нетопыря с ручным и ножным приводом. Через несколько сотен лет была сделана (по десяткам эскизов Леонардо) модель этой летающей машины, и когда сейчас я гляжу на эту мертвую птицу, что-то перехватывает мне горло. Оригинал не пережил даже одного-единственного полета[56]56
Разыскивая в Нэте иллюстрации к этой главе, я нашел следующую заметку:
Изобретатели из Университета аэрокосмических исследований в Торонто сконструировали уникальный орнитоптер на мускульной тяге. Во время тестового полета махокрыл «Snowbird» пролетел 145 метров за 19,3 секунд со средней скоростью 25,6 км/ч.
Летательный аппарат с машущими крыльями представляет собой сочетание современных авиационных технологий и древних чертежей Леонардо да Винчи. Именно наброски великого итальянского ученого, датированные 1485 годом, вдохновили инженера Тодда Райхерта на создание своего орнитоптера.
«„Snowbird“ является долгожданной реализацией стародавней авиационной мечты», – сказал главный инженер и пилот Тодд Райхерт.
Махолёт Snowbird приводится в движение с помощью педалей и специальной системы шкивов и тросов, которые заставляют крылья махать вверх-вниз. Размах последних, у махолёта, целых 32 метра – столько же, сколько у авиалайнера Boeing 737. Несмотря на гигантский размах крыльев, канадское изобретение весит всего 42 кг.
Желающие даже могут посмотреть на полет:
http://www.voutube.com/watch?feature=plaver embedded&v=0E77j limdhQ – Прим. перевод.
[Закрыть].

Эскизы орнитоптера, сделанные да Винчи

Орнитоптер – который взлетел!
Мы мало знаем о его полетах, но уже после смерти Леонардо в записках Джироламо Кардано, сына его приятеля, нашелся следующий пассаж: «Да Винчи пытался летать, и его встретила неудача». Но, возможно, речь шла не о самом Леонардо, а о его помощнике – Астро? Мифология говорит, что когда 6 октября 1499 года французский король Людовик XII триумфально въезжал в Милан, его шествие вели два ангела с золотыми подвижными крыльями да Винчи. Астро, желая придать блеск торжеству, достал металлические прототипы этих крыльев, закрепил их на руках и спрыгнул с высокой крыши. Упал и страшно покалечился. Если это правда, то насколько же покалечилась тогда дедаловская душа Леонардо! Через два месяца он покинул Милан и выехал во Флоренцию. За собой он оставил таинственный нож в ничейной руке. К нему он вернется через семь лет.
Эти крылья, которые проиграли, должны были стать одной среди многих дорог нахождения истины и всезнания. Второй была наука. Еще одной – искусство. Да Винчи очень быстро осознал, что художник, который не углубит тайн природы, будет всего лишь лакеем искусства, но никогда – его любовником. Потому столь много времени он посвящал научным исследованиям: аэростатическим, гидравлическим, метеорологическим, математическим, физическим, химическим, природоведческим, геологическим, анатомическим и всяческим иным. Его распирало аристотелевское сильнейшее желание познать тайны Природы. Всю жизнь он наблюдал ее и с усердием исследовал через призму интеллекта, презирая давление традиций и догм. Классическое знание и Древность мало интересовали его – для познания правды он стремился, бросая вопросы и делая служащие ответам эксперименты. Вопросы, на которые не хватало столько ответов. Так что: «Art et Science» – «Искусство и Наука».
Когда он пользовался кистью, это тоже было эмпиризмом – рисуя, он продолжал поиски, все время он искал. Когда же находил ключ к решению проблемы или же когда открывал какую-то частицу тайны, продолжение переставало его интересовать. Потому большинство живописных работ Леонардо не закончено. Процесс «возведения» был для него во сто крат важнее финала, завершение произведения не могло быть целью, а только границей процесса познания. Когда находил, бросал кисти, если же не мог увидеть дна, которого искал, кончал более или менее нежно, но при этом оставлял символ вечной тайны. Два среди немногих шедевров, которые он записал практически полностью, это «Джоконда» и «Тайная Вечеря». «Джоконде» он оставил улыбку, «Вечере» – таинственный нож.
Практически в каждой завершенной работе Леонардо скрывается знак вопроса. Один или несколько. В «Мадонне среди скал» (1483–86) сам мглистый фон и фигуры, и все значение картины таинственны. Здешний ангел – это почти что сфинкс. О «Моне Лизе» мы не знаем ничего – о ее таинственной улыбке, о том, была ли модель беременной, как утверждает на основании собственных исследований лондонский врач, Кеннет Киле, да и вообще, кем она была (тут существует пара гипотез). «Святой Иоанн» Леонардо сегодня держит в вознесенной руке крест, но крест этот был дорисован позднее. В первоначальной версии Иоанн указывал вверх ладонью с вытянутым пальцем – в чем-то презрительным, чуть ли не святотатственным жестом. Точно таким же, хотя и горизонтальным жестом и идентичной рукой указывает на нечто неведомое ангел-сфинкс («Мадонна среди скал»), а на губах у него блуждает тень беспокоящей усмешки, которую я боюсь назвать другим прилагательным. И наконец, тот миланский нож.
В 1494 году, по приказу миланского герцога, Лодовико иль Моро, архитектор Джуинифорте Солари возводит трапезную при миланском монастыре Санта Мария делие Грацие. Через год Донато Монтрфано записывает южную стену прямоугольного зала, создавая «Распятие». Северная стена пуста, и она ждет Леонардо, который ранее предложил герцогу свои услуги в знаменитом письме, которое сейчас часто цитируют. В 1495 году, а может, в 1496, да Винчи начинает рисовать, не прерывая при этом работы над «летающей машиной». Махолет-орнитоптер и «Тайная вечеря». Крылья и нож. Одновременно. В этом весь Леонардо да Винчи.

Идея написать последнюю трапезу Христа и Его Апостолов проклевывалась у Леонардо уже давно, еще во Флоренции, где он работал для Сфорцы. Художник выполнил десятки эскизов деталей, обнаженные фигуры в движении, в споре, с мягкими и гневными жестами, и приготовил плоскость стены, нанеся на нее подложку из смолы, гипса и клея. Затем писал несколько лет, но как только закончил – картина начала раскрашиваться, лущиться, терять цвет, одним словом – паршиветь, с чем безуспешно сражались веками с помощью различных техник реставрации. Дело в том, что фреска бывает стойкой лишь тогда, когда ее создают по правилам, водными красками по сырой штукатурке. Тем временем, Леонардо не желал ускорять углубления посредством кисти неземной психологии Тайной Вечери, и он провел эксперимент, к сожалению, неудачный: «фреску» он создал масляными красками, не имея понятия о том, что гидроокись кальция из штукатурки растворяет и разлагает масла, чему весьма способствует и влага.

Действие «Тайной Вечери» Леонардо разместил в затемненном свете сумерек – это время дня он любил особенно, поскольку именно тогда тайны вселенной выползают из своих нор, чтобы материализоваться в виде далеких и непонятных нам звезд. «Полный свет уничтожает форму, делает ее плоской, – писал да Винчи в своем блокноте. – Предметы, более темные, чем воздух, вдалеке делаются светлее; а те, которые светлее воздуха, когда они отдалены, становятся темнее». Потому он ловил для себя краткое время между днем и вечером, находя тот свет, который берет для себя понемногу от двух этих периодов суток. В таком вот полумраке, за длинным, уставленным едой столом, сидит Иисус со своими учениками. В качестве фона у них имеются окна и затуманенный пейзаж – космос. Они что-то обсуждают и жестикулируют губами и руками, спокойно или возбужденно, громко и тихо. С Христом их тринадцать, следовательно, у них должно быть двадцать шесть рук. И хотя всех кистей рук не видно, нам видны направления движения конечностей, и тут оказывается, что кистей на картине двадцать семь – одна лишняя! Двадцать седьмая кисть держит нож.

Эта кисть с ножом появляется из-за спины Иуды, между Андреем и Петром, с левой стороны кадра. Лезвие направлено вверх, то есть, оно не могло бы резать хлеб – этот захват указывает на готовность нанести удар, на угрозу или предостережение. Чей же это захват? Нож находится близко к руке Петра, но если бы вооруженная десница должна была бы принадлежать Петру, настолько вывернутое запястье сломало бы ему кость. Угол наклона и движение правого предплечья и локтя Петра исключают, чтобы это он мог держать этот нож. Его рука не могла вывернуться по спирали, поскольку она ведь не резиновая. Но это и не рука Андрея или Иуды, поскольку никто из них тремя руками не обладает. Чья же тогда?

Я вонзаю взгляд в этот клинок и в пальцы, стиснутые на рукоятке. Как же сложно открывается самый странный из моих островов итальянского архипелага! Время, которому еще помогла экспериментаторская ошибка Леонардо, было жестоко к фреске – картина не похожа на красочные «Тайные Вечери», которые висят на стенах стольких домов, и которые можно купить в любому уголке Италии, какого хочешь размера.

Тайная вечеря (неизвестный автор 16 века) копия фрески Леонардо да Винчи
Но, по странной иронии судьбы, этот фрагмент сохранился даже неплохо, без множества потерь и перерисовок. И хотя Леонардо, в отличие от художников раннего Возрождения, избегал резких контуров и затирал края всякой формы, моделируя объемы мягкой тенью – этот нож и эта кисть, словно вопреки всему, четкие и выразительные. И еще кое что. На столе стоят тарелки, наполненные едой, куски хлеба и фрукты, он весь заставлен блюдами, но на нем нет ни единого ножа! Единственный, который существует во всем панорамном кадре «Тайной Вечери», это клинок, который держит таинственная рука. «Вечерю» внимательно осматривали Парини, Гете, Наполеон и Манцони – невозможно, чтобы они пропустили этот нож. Многое я дал бы за то, чтобы узнать их мысли о нем.
Неужто и здесь художник сделал ошибку? Не заметил, забыл зарисовать или уже не мог по причине специфической природы фрески? Какие уж тут шутки, мы же говорим про да Винчи. Массу подобных ладоней, которые затем волшебным образом воспроизвел краской на стене, перед тем тщательно изучал, делая эскизы на пергаменте – жемчужиной королевской коллекции замка Виндзор до нынешнего дня остаются эскизы кистей рук святого Иоанна или святого Фомы. Выходит, это было сделано сознательно? А если сознательно, то что хотел он этим сказать, что передать, над кем насмеяться или кого-то обвинить? Никто уже на эти вопросы не ответит.







