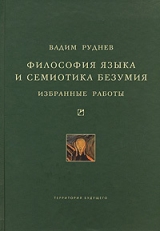
Текст книги "Философия языка и семиотика безумия. Избранные работы"
Автор книги: Вадим Руднев
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
36. То, что я понял или почувствовал, не объединяет и не разъединяет меня с миром. Я не жду на этот счет никаких санкций от мира. Скорее этот опыт подразумевает, что я (вероятнее всего случайно) заглянул в тайную лабораторию изменения мира.
37. И все же если я пока употребляю какие-то слова, я должен попытаться разобраться, соотносится ли хоть как-то их значение с тем значением, которое, так сказать, было у них раньше. И если «быть убийцей» в моем смысле не имеет ничего общего с выражением «быть убийцей» в общепринятом смысле, то дальнейшее рассмотрение смысла этого выражения вообще вряд ли имело бы смысл.
38. Но ведь я не говорю, что мир изменился в одночасье и, стало быть, в одночасье изменилось значение всех слов. Я рассматриваю слова просто потому, что у меня пока нет другого способа самопознания.
39. И в этом смысле мой опыт принадлежит к аналитическому опыту. Но поскольку я не уверен, что слова в процессе этого опыта не изменяют своих значений, то вернее будет этот опыт назвать постаналитическим.
40. И поскольку я не отрицаю, что осознание чего-либо, выраженное в словах, может повлечь за собой какие-то значимые, может быть, даже катастрофические социально-психологические последствия, то мой опыт в широком смысле является частью экзистенциального опыта. Так как я не знаю, о каких последствиях может идти речь и можно ли их называть последствиями в старом смысле слова, то этот опыт скорее является постэкзистенциальным.
41. И если экзистенциализм и аналитическая философия в их классических проявлениях не имели друг к другу никакого отношения – они говорили на совершенно разных языках и, вероятно, не принимали друг друга всерьез, если вообще подозревали о существовании друг друга, – то в моем случае аналитический опыт, опыт рассмотрения слов, практически совпадает с экзистенциальным опытом, опытом внутренних катастрофических интенций; как если бы можно было привести, так сказать, Витгенштейна и Камю к общему знаменателю.
42. Но ведь я не говорю, что мне пришла в голову гипотеза, что слово «убийца» или выражение «быть убийцей» применительно ко мне непременно должно изменить свое значение. Я вообще не думал в момент переживания этого опыта о том, какие значения имеют или могут иметь слова или выражения. Разговор о значениях не является непосредственной частью этого опыта. Просто в силу необходимости говорить на более или менее привычном языке, чтобы быть хотя бы отчасти понятым и хотя бы самим собой, я пытаюсь разбираться в значениях и, возможно, сталкиваюсь с тем, что теперь язык, на котором я привык говорить, скорее всего, непригоден.
43. И вообще говоря, я не могу сказать, что этот опыт заключался в том, что я нечто открыл или меня нечто осенило. Скорее нечто оказалось другим, не таким или не совсем таким, как я представлял себе это ранее. Как будто я шел по знакомому коридору и вдруг увидел совершенно незнакомую дверь, а, открыв ее, обнаружил совершенно неизвестную мне комнату. Вероятно, я мог бы тогда подумать: «Оказывается, здесь какая-то комната». Может быть, мне показалось тогда, померещилось, что там есть неизвестная дверь и за ней комната, но в описываемом случае, как уже говорилось, это не имеет значения. «Мне померещилось, почудилось, что я убийца. И, может быть, каждый человек – убийца (или часть людей, не считающих себя убийцами, на самом деле убийцы), но только люди не подозревают об этом». Тут избыточны и неуместны слова «померещилось» или «почудилось». Разве можно сказать: «Мне померещилось, что у меня болит зуб»? Не будет ли это означать просто, что я почувствовал, может быть, на короткое мгновение зубную боль, которая сразу прошла? Переживание, о котором я говорю, происходило в каком-то особом режиме, когда «на самом деле» или «не на самом деле» не играет никакой роли.
44. Если человеку приснился страшный сон, то ему продолжает быть страшно и в первые секунды, когда он уже проснулся. Нечто из сна настигает его.
45. Все это так, но все-таки не может быть, чтобы я совершенно не представлял себе и не мог выразить в словах если не само содержание этого опыта, то, по крайней мере, то, каким мне виделось тогда это состояние, когда я почувствовал или понял, что я убийца. Что хотя бы приблизительно значило для меня тогда выражение «быть убийцей» применительно ко мне? Пожалуй, самым отличительным семантическим компонентом этого состояния было то, что я почувствовал себя не случайным убийцей. То есть, говоря точнее, это состояние не было тем, не казалось похожим на то, какое мог бы испытывать человек, который стал убийцей случайно, по воле обстоятельств, или даже то, которое испытывал бы человек, который, подобно рассказчику романа Агаты Кристи, совершил обдуманное убийство.
46. В моем случае это было скорее некое ощущение себя убийцей как моего постоянного свойства (для чего даже не обязательно в актуальном смысле совершать убийство), состояния «быть убийцей» как чего-то неотъемлемо присущего моей личности, как моей прирожденной профессии, призвания или судьбы.
47. Как в даосском мировосприятии любое призвание должно быть оценено имманентно независимо от тех поверхностных социально-психологических последствий, которые с ним связаны. Убийца при таком понимании должен быть хорошим убийцей, как должен быть хорошим мясник или актер. И убийца должен выполнять свою работу как можно лучше, раз ему уготована такая социальная роль.
48. Другой признак, который, может быть, и является самым главным, хотя я не уверен, присутствовал ли он в моем опыте в явном виде, – это понимание неразрывности состояний «быть убийцей» и «быть жертвой». Возможно, именно в этом пункте моих рассуждений кто-то, кого они до этого шокировали, отчасти примирится с ними, и наоборот, тот, кого заинтриговала их необычность, будет в значительной мере разочарован.
49. Я сказал, что состояния «быть убийцей» и «быть жертвой» понимались (понимаются) мной как нечто неразрывное. Но это неточное утверждение. Прежде всего, это не значит вовсе, что я ощущал (ощутил), что «быть убийцей» и «быть жертвой» – это одно и то же. Не означает это также и того, что одно состояние переходит в другое или что одно может быть рассмотрено как другое. И в этом смысле, если мой опыт в каком-то важном виде был сродни кафкианскому опыту, то он в той же мере совершенно противоположен борхесианскому опыту (я имею в виду, например, идею, что Иуда и Христос – это одно; и тому подобное); хотя, скорее всего он, так сказать, сильно отталкивался именно от борхесианского опыта (а не от кафкианского). Главное отличие моего опыта от борхесианского – в культурной редуцированности (в противоположность культурной перенасыщенности борхесианского опыта). Это был, так сказать, постпостмодернистский опыт, опыт отказа от культурной опосредованности каждого душевного движения. Поэтому я с большой неохотой привожу здесь культурно значимые примеры. И в этом смысле роман Агаты Кристи здесь гораздо более уместен, чем, скажем, «Бхагавадгита».
50. Возможно, наиболее точным было бы сказать, что «быть убийцей» и «быть жертвой» – состояния сознания, находящиеся естественным образом на одной плоскости: убийца и жертва связаны между собой, как черное и белое, правое и левое, истина и ложь.
51. При этом ясно, что ощущение себя жертвой может быть состоянием длительным и привычным для многих людей. И в этом смысле ощущение жертвы более фундаментально. Но именно в силу своей фундаментальности и не маргинальности это состояние сознания философски гораздо менее интересно.
52. Но дело здесь не в том, что ощутить себя убийцей в каком-то смысле более маргинально, более смело и ответственно, чем ощутить (ощущать) себя жертвой. Возможно, более или менее правильным было бы сказать, что, ощутив себя убийцей, я не то чтобы перестал ощущать себя жертвой, а скорее момент, когда я ощутил себя убийцей, проходил на фоне того, что я ощущал себя жертвой. Тут важно именно противопоставление аспектуальности (совершенного и несовершенного видов) этих состояний. Жертвой можно было ощущать себя постоянно. Убийцей можно (нужно?) было ощутить себя мгновенно и в то же время внемоментно. Ощущение себя жертвой может быть аморфным и широким, ощущение себя убийцей должно быть острым и резким, как удар ножа убийцы.
53. И, конечно, важно то, что ощущение себя жертвой социально гораздо более приемлемо, чем ощущение себя убийцей. Жертва находится в социальном и психологическом смыслах в более благоприятном положении. Она вправе претендовать на сочувствие. Жертва, несмотря на свою аморфность, более, так сказать, популярна.
54. Лучше сказать, что убийца и жертва тянутся друг к другу. Они, так сказать, объединены одним общим делом. В каком-то смысле убийца и жертва – такие же партнеры, как врач и пациент, писатель и читатель. И только убийца может до конца понять жертву. Они интересны друг другу, актуальны друг для друга. При этом, как только убийца по отношению к жертве перестает быть убийцей, и наоборот, они теряют интерес друг к другу.
55. В определенном смысле можно сказать, что ощущение себя убийцей – это, прежде всего, ощущение себя не-жертвой. Вероятно, для личности, долгое время ощущавшей себя жертвой (например, просто жертвой обстоятельств), стать просто немаркированным средним членом этой оппозиции труднее, чем стать маркированным противоположным ее членом. Жертва перестает быть жертвой путем бунта – раб закономерно превращается в насильника и убийцу. Раб не может стать просто обычным человеком, так как привычка к рабству выработала у него необратимые порочные установки раба. Ему психологически гораздо проще повернуть на 180° и стать разбойником. Отряды убийц комплектуются из толпы жертв.
56. Но значит ли это, что в моем сознании произошла такая или подобная работа: превращение жертвы в убийцу? Разумеется, опыт, который я пытаюсь описать, ничего общего не имеет с этим рассуждением. Если говорить грубо и прямолинейно, то мой опыт заключался не в том, что я раньше был жертвой, а превратился в убийцу, но скорее в том, что я осознал, что в определенном смысле всегда был убийцей.
57. Но было ли при этом состояние жертвы иллюзией или неким ментальным заблуждением? Я склонен думать, что это не так. Здесь раз и навсегда надо отказаться от фабульности мышления, от «раньше» и «позже». Можно было бы сказать, что я «одновременно» находился в состоянии жертвы и одновременно это было некоей метафизической ширмой. Так сказать, в сердце раба всегда дремал убийца.
58. Но что же получается? Что быть убийцей и быть жертвой – такие же внешние качества, как быть бедным или богатым? Ведь ничего особенного нет в том, чтобы сказать, что я всегда был беден, но одновременно в моем сердце дремал богач. Но нельзя забывать при этом того важного факта, что если богач – это тот, у кого много денег, то убийца – это не тот, кто убил много людей. И даже нельзя сказать, что убийца – это тот, кто убил одного человека, если он сделал это без злого умысла, по стечению обстоятельств или в порядке защиты своей жизни или достоинства.
59. Я прихожу к тому, что я скорее не знаю, кто такой убийца. В конце концов, скорее всего я точно знал, даже, вероятно, в тот момент, когда ощутил себя убийцей, что я не убил ни одного человека. То есть вполне возможно, что я никого не убивал. Но почему же в таком случае я почувствовал, что я убийца? «Что я хотел этим сказать?» Не о своей готовности к убийству. Не о своей обреченности на убийство. Не о своей агрессивности. Скорее это было ощущение нового призвания, нового служения, нового состояния души.
60. А что почувствовал Христос в тот момент, когда осознал, что он Сын Божий? Вернее, как он мог почувствовать, что он Сын Божий? В Евангелиях нигде не говорится, что Святой дух сходил на Него Самого, в то время как и Деве Марии, и Иосифу Обручнику не раз являлся Ангел, свидетельствуя, что их сын – Мессия. Но как и когда это понял сам Иисус?
61. Однако при чем здесь вообще Иисус Христос? Но ведь если в его жизни в юности или, по всей видимости, даже в отрочестве был некий опыт осознания своего служения, своей избранности, то этот опыт в определенном смысле должен был быть аналогичен тому, который описывался здесь. И разве Иисус не любил больше блудниц и мытарей, чем книжников и фарисеев?
62. Опыт, который пережил я и о котором пытался говорить, мог быть аналогичен опыту Иисуса (если такой опыт вообще имел место) в том, что в обоих случаях, как можно предположить, было ощущение открывшейся тайны (в моем случае лишь на миг приоткрывшейся), связанное с идеей новой жизни и новой ответственности. Ощущение (в моем случае секундарное) своей отторженности от людей, но (в моем случае это неочевидно) во имя людей.
63. Потому, что я почувствовал себя убийцей, но, конечно, не убийцей-злодеем. И, как я уже говорил, я в сущности пришел к тому, что не знаю, кто такой убийца, кого и зачем он убивает и убивает ли вообще. В определенном смысле ощутить себя убийцей означало ощутить свой Крест.
64. Ведь даже если мне действительно предстоит совершить убийство, то ясно, что речь не идет об обыкновенном уголовном преступлении. Но даже если речь идет об обыкновенном уголовном преступлении, то и в этом случае может идти речь об опыте некоей духовной чистоты.
65. Услышать или увидеть, узреть пусть на мгновенье и по ничтожному поводу крохотную частицу возможной истины и, прислушавшись к ней, продолжать жить, сохраняя память о ней, пока не появится Тот, в чьей руке лопата, которой веют хлеб, который очистит гумно Свое и соберет Пшеницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым.
66. И ясно, что стремление к экстремальности и чистоте опыта (каким бы страшным или фантастическим он ни казался) не может и не должно находить отклика. «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали» .
ФРАНЦ КАФКА. «ОТЪЕЗД»
ДЕВЯТЬ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ
Я велел своему слуге привести из конюшни мою лошадь, но он не понял меня. Тогда я сам пошел, запряг коня и поехал. Впереди тревожно звучали трубы.
У ворот он спросил меня: Куда вы едете?
– Не знаю сам, – ответил я, – но только прочь отсюда! но только прочь отсюда! только бы прочь отсюда! Лишь так достигну я своей цели.
– Вы знаете свою цель? – спросил он.
– Да! – ответил я. – Прочь отсюда! Вот моя цель.
1. ДЖОН ОСТИН
Сказать, что А что-то имел в виду под х, значит сказать, что А намеревался, употребив выражение х, этим своим употреблением показать определенное воздействие на слушающих посредством того, что слушающие опознают это намерение. В данном примере использование директивного иллокутивного акта явно неуспешно, причем неуспешно по совершенно непонятным причинам. Прежде всего, в этой осечке (misfi re) неясно, что означает, что слуга «не понял» героя. Мы бы приняли данный диалог как образец иллокутивной неудачи, если бы было написано: «Я велел слуге привести из конюшни мою лошадь, но он не расслышал меня ».В этом случае мы расценили бы подобный иллокутивный акт как обычную неудачу, неуспешность, и, возможно, порекомендовали бы говорящему просто повторить свое высказывание.
Но, однако, здесь не говорится о том, что слуга не расслышалговорящего, и вообще никак не конкретизируются условия успешности речевого поведения. Но, так или иначе, допустим, говорящий по каким-то неизвестным нам причинам не смог в точности разобрать, почему именно слуга не понял его и что означает,что он его не понял.
Во всяком случае, говорящему стало ясно, что слуга не намеревается исполнять его приказание привести лошадь из конюшни. В этом случае помимо простого повторения приказания возможны некие побудительные или вопросительные косвенные иллокутивные воздействия, направленные на то, чтобы выяснить условия успешности иллокутивного акта. Например, говорящий может сказать: « Ты что, не слушал, что я говорю?» или « Я, кажется, ясно сказал тебе, что бы ты привел из конюшни мою лошадь», или « Ты что – оглох, тебе что, надоело твое место?» и т. д.
Ничего этого говорящий не делает. Вместо этого он сам идет на конюшню, нарушая одно из важнейших условий «направления приспособления между словами и миром». Статусы господина и слуги подразумевают определенные речевые конвенции между ними. И тот факт, что господин в ответ на вольное или невольное непослушание слуги идет и выполняет действие, которое должен был выполнить слуга, является вопиющим нарушением правил языковой игры между говорящим-господином и слушающим-слугой.
Здесь возможно было бы объяснение, в соответствии с которым между слугой и господином установились некие неформальные отношения, вследствие которых господин вместо того, чтобы повторить приказание, наказать слугу и т. п., просто обиделсяна него как на равного,и его жест – то, что он пошел в конюшню, и сам оседлал лошадь – факт этой затаенной обиды.
Однако дальнейшее развитие событий не подтверждает этой гипотезы. Оказывается, что слуга не просто отказывается повиноваться элементарным приказаниям господина и не только не собирается следовать за своим господином, что было бы наиболее естественно, но он еще берет на себя смелость на осуществление речевого действия, которое явно не входит в его компетенцию как слуги, спрашивая господина о его намерениях.
На что следует столь же неадекватная реакция господина. Вместо того чтобы одернуть, поставить слугу на место, он покорно отвечает ему.
В сущности, приведенный текст не только представляет собой цепь непонятных и ничем не мотивированных коммуникативных неудач, но и демонстрирует абсурдность самой идеиречевого поведения. Последние слова говорящего после уже не вызывающего удивления завязавшегося и поражающего в таких обстоятельствах своей наигранной обыденностью диалога, логически переворачивают и абсурдируют всю ситуацию «отъезда».
2. ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
Как мы можем что-то утверждать об этом человеке, если мы о нем ничего не знаем? Мы знаем только, что он хочет уехать. Но почему? Мы можем сказать только, что он вырвался из какой-то привычной формы жизни, из каких-то привычных языковых игр, он больше не может в них пребывать. Он вырвался из привычной связи фактов и предложений. Поэтому немудрено, что все, что он говорит, не укладывается в привычную картину того, что обычно говорят люди и как они реагируют на слова собеседника. Слуга не понял его, когда он приказал привести из конюшни лошадь, но, возможно, эта просьба была настолько удивительна в обстоятельствах, о которых мы ничего не знаем, что удивление слуги было наиболее естественной реакцией на его слова. Возможно, что до этого он только что читал книгу или спокойно завтракал. И что такое в данном случае «не понял»?
– Убирайся вон!
– Не понял!..
«Не понял» здесь не выражение отсутствия собственно понимания, но скорее выражение удивления, ошеломленности. И ничего удивительного, что в таком экстремальном состоянии, когда этот человек принял столь необычное и, возможно, внезапное решение, он уже не удивляется непониманию слуги. Он выпал из обыденных форм жизни. Для него слуга уже не слуга. Он обращается к нему за помощью скорее по инерции той обыденной формы жизни, из которой он выпал. Он не может с ним обращаться, как обычно обращаются со слугами. Ругают их, поторапливают и т. д.
– Я пойду сейчас утоплюсь.
– Не понял.
В этой ситуации глупо было бы спрашивать: «А захватили вы свою купальную шапочку?». Конечно, не понял. И в этой ситуации совершенно естественно махнуть рукой на это «непонимание».
Правила в этой последовательности предложений формируются по ходу действия. Здесь уже не действуют обыденные правила, которым можно следовать, не задумываясь, в привычной жизни. Но язык не может не следовать каким бы то ни былоправилам. Если прежние правила не подходят, создаются новые, более адекватные данной ситуации. Вероятно, этот человек чрезвычайно удивился бы, если бы в ответ на просьбу привести ему лошадь в столь необычных обстоятельствах, слуга ответил бы ему: «Слушаюсь!» «Сию минутку!» или «Чего изволите?» Это было бы использованием старых правил, которые уже не годятся. Своим непониманием слуга дал понять, что он гораздо лучше, чем, возможно, следовало ожидать, понимаетсвоего господина. Языковая игра перестраивается на ходу. Слушает уже больше не слуга, а говорит не господин. Они должны перестроиться. Но перед этим господин остается в одиночестве. Приняв такое экстремальное решение, он не может уже рассчитывать на помощь слуги. Человек, принявший необычное решение, не может рассчитывать на то, что близкие с полуслова поймут его и побегут исполнять его приказания. Поэтому он спокойно, с обреченностью одиночества идет сам запрягать свою лошадь.
Почему люди пользуются одними словами и не пользуются другими? Что производит на нас впечатление в этих предложениях. Допустим, тот факт, что этот человек увидел впереди трубы, не вызывает удивления, но, если бы он спокойно, не торопясь, сидя на лошади, вынул из кармана трубку и раскурил ее, это было бы гораздо более удивительно.
Мы очень мало знаем вначале об этом человеке, об обстоятельствах его жизни, но эта последовательность предложений построена таким образом, что с каждой новой фразой мы узнаем все больше. Это происходит, по-видимому, оттого, что здесь пользуются не обычными предложениями, которые значат то, что они значат в обыденном языке, а лишь какими-то намеками. Когда слуга у ворот спрашивает: «Куда вы едете?», то это скорее выражение его сочувствия и простое любопытство. При этом формально этот вопрос еще задан снизу верх. Слуга стоит у ворот, а хозяин уже сидит на лошади и, возможно, смотрит вдаль, туда, где ему вскоре померещатся звучащие трубы. Поэтому когда он отвечает: «Не знаю сам», он отвечает как бы сам себе, своим мыслям, так как он, по всей видимости, действительно не знает, куда он, собственно, собрался. И вопрос слуги просто аранжировал его внутренние мысли.
– «Зачем ты пришел?»
– «Не знаю сам. Чтобы увидеть тебя.»
– «Чтобы прийти хоть куда-нибудь».
Все это слуга, по всей видимости, понимает, поэтому его вопрос, который звучит несколько неожиданно резко – «Вы знаете вашу цель?» – просто выражение искреннего удивления. Тем более удивительно, что, оказывается, этот человек знает свою цель. Хотя эта цель состоит лишь в том, чтобы поскорее отсюда убраться. Цель, о которой спрашивал слуга, и цель, которую имеет в виду господин, это разные цели. Они употребляют слова в разных значениях.
Кого больше жаль в этих обстоятельствах: слугу или хозяина? В определенном смысле больше жаль слугу, который остается один в опустевшем доме, без господина, совершенно не понимая, очевидно, что ему делать дальше. У хозяина есть цель – вырваться отсюда. У слуги нет и этого.
Может быть, слуге жалко расставаться с хозяином, возможно, он думает, что теперь у его господина будут новые друзья и новые слуги. Обо всем таком не говорится ни слова, но сама атмосфера молчаливо свидетельствует об этом.
Ценность эстетического не в длинных описаниях. Как если бы этот человек начал стенать, рвать на себе волосы и кричать: «Я не могу больше находиться в этом опостылевшем доме! Мне все надоело! Я сию же секунду уезжаю отсюда! Немедленно седлай мою лошадь, ноги моей здесь больше не будет!» Но он говорит только «прочь отсюда». Этот жест гораздо более выразителен.








