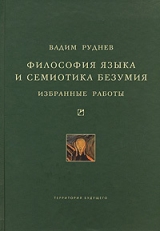
Текст книги "Философия языка и семиотика безумия. Избранные работы"
Автор книги: Вадим Руднев
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Вообще парадоксальным образом безумный, находящийся в бреду, в подавляемом большинстве случаев говорит правду, хотя эта правда может не совпадать с объективной истиной. Когда человек галлюцинирует и говорит, скажем: «Я вижу своего покойного отца», он действительно может видеть своего покойного отца, хотя никакого отца на самом деле там нет. Но в его экстраективной реальности его отец есть. И он не врет, когда говорит, что он его видит. Эзотерически настроенный человек может пойти дальше и сказать, что галлюцинаторный опыт – это в принципеопыт истинного видения и слышания, истинного получения посланий из других миров, поэтому этот опыт в принципе является более истинным, чем ограниченный опыт среднего человека, но нам нет надобности принимать эту позицию. Оставаясь на вполне реалистической точке зрения, можно вполне реалистично утверждать, что может быть истинным то, что этот человек видит сейчас своего отца (галлюцинаторно), в то время как его отец давно умер и с обыденной точки зрения он его видеть не может.
Даниил Андреев в «Розе мира» утверждал, что он видел внутренним взором огромное количество фантастических вещей. Возможна ли точка зрения, с которой то, что он видел, было истиной? Такая точка зрения возможна, и у метаистории Даниила Андреева есть сторонники.
Здесь возникает подозрение, что любомувысказыванию в принципе можно подобрать такой контекст, с точки зрения которого оно может быть употреблено как субъективно истинное. Это подозрение справедливо. По-видимому, можно сказать, что описание реальности как поверхностно нормальной и как глубинно безумной возможно как два противоположных симметричных описания одних и тех же положений вещей.
«Мир полон скорби» (и только скорби). В депрессивной реальности этого человека это так и есть. Как можно «проверить»,какое высказывание истинно, а какое ложно: «Мир полон скорби», «Мир наполнен радостью» или «В мире все идет, как идет, в нем нет ни радостного, ни скорбного, ни плохого, ни хорошего, только мысль – в духе Гамлета – делает его таким или другим»? В определенном смысле каждое из этих высказываний может быть как истинным, так и ложным.
Но тогда получается, что психоз это просто симметричное, дополнительное описание реальности и что бред на самом деле неявляется системой ошибочныхили ложныхсуждений о мире, как уверяет клиническая психиатрия.
Но неужели можно приписать истинностное значение и последнему из пяти приведенных высказываний, а именно «Я – Наполеон и Дева Мария». Да, это, по-видимому, можно сделать. Если человек может сказать: «Я Иван Иванович», «Я мужчина 45 лет», «Я муж Марии Павловны» и т. д., – то все это будут его субличности. Субличности, как они описаны Р. Ассаджиоли и многими другими психологами (см. [Rowan, 1991]), предполагают то, что в принципе человек может себя чувствовать или пребывать кем угодно, в том числе Наполеоном и Девой Марией одновременно. Мы можем лишь различать обыденные субличности нормального среднего человека – «Я почтальон, я слесарь шестого разряда, я Владимир Владимирович Путин» и субличностные экстраективные идентификации безумного человека.
Но можно ли сказать, что человек, утверждающий «Я – Наполеон и Дева Мария» просто ошибается? Не кажется ли, что сказать так, значит сказать нелепость? Применительно к безумию, по всей видимости, не может идти речи ни об ошибке, ни о ложном знании. Все это область нормального использования языка средним человеком.
И вот возникает вопрос: почему человеку свойственно жить в иллюзии, а не в истине, другими словами, почему здоровых людей на свете все-таки неизмеримо больше, чем психически больных (и так ли это на самом деле) и что такое вообще в этом смысле безумие, как и для чего оно достигается; разве нет иного способа достичь истины?
Люди живут «по лжи», вернее в режиме чередования истинных и ложных суждений, по всей видимости, потому, что так жить удобней. Ложь – мощный регулятор частной и социальной жизни. Витгенштейн, страдавший, как известно, патологической четностью и, соответственно, всю жизнь существовавшей на тонкой грани, отделяющей здравомыслие от безумия (см. [Руднев, 2002а]), то есть, говоря клиническим языком, был пограничной личностью (borderline person), вспоминая о своем детском опыте, писал:
Когда мне было 8 или 9 лет, я пережил опыт, который если и не был решающим в моей будущей жизни, то, по крайней мере, был в духе моего характера той поры. Как это произошло, я не помню. Вижу лишь себя стоящим у двери и размышляющим: «Зачем люди говорят правду, когда врать гораздо выгоднее». И я ничего не мог понять в этом. [McGuinnes, 1988: 47].
Итак, врать гораздо выгоднее. Когда жена спрашивает мужа: «Где ты был?», – и он отвечает: «Я был в кино», тогда как на самом деле он был у любовницы, этот опыт повседневного вранья гораздо более обычен и естественен, чем такое положение вещей, при котором на вопрос «Где ты был?», муж бы ответил: «Я был у своей любовницы». Вообще в вопросах, связанных с сексом, опыт вранья или непрямой речи играет крайне важную роль. Когда мужчина говорит девушке: «Давай поужинаем вместе», – это является косвенным приглашением к половому акту [Szasz, 1974]. Сначала поужинали, потом проводил до дому, потом она предложила ему выпить чашку чаю, а дальше уже все без слов. Здесь вспоминается фильм «Игры разума» («Beautiful mind»), герой которого, гениальный физик и при этом шизофреник, страдающий галлюцинациями и бредом преследования, именно будучи шизфреником, то есть болезненно честным, не умел проходить этот обыденный ритуал. Когда ему хотелось познакомиться с женщиной, он говорил: «Вы красивая, я хотел бы с вами спать». Сначала он получал пощечины, но один раз женщина, которой он это сказал, вышла за него замуж и терпела всю его нелегкую жизнь безумца. Это был опыт пребывания в истине.
Итак, ложь скрепляет повседневную мораль. Если бы люди не могли врать, это было во многом равносильно тому, что все они были бы безумцами. Так же как муж, побывавший у любовницы, не может в подавляющем большинстве случаев говорить правду, так же и политик, баллотирующийся в президенты или губернаторы, обязан обещать своим избирателям повысить зарплату и пенсию, успешно бороться с коррупцией и террористами, остановить войну в Чечне и т. д. Если бы он, которого на самом деле больше интересует не заплата граждан и не повышение пенсий, а собственный престиж и власть, утверждение своих харизматических амбиций (ср. [Сосланд, 1999]), сказал бы на предвыборном митинге истину: «Выбирайте меня, потому что я очень хочу осуществить свои властные амбиции, я просто мечтаю о власти, об управлении над людьми и т. д.», его просто сочли бы сумасшедшим, и так бы оно, в сущности, и было. Человек не может прожить ни одного дня без того, чтобы не врать и не обманывать по тому или другому поводу – ср. название рассказа Виктории Токаревой «День без вранья». Я не помню, что именно там было, в этом рассказе, но можно реконструировать подобное положение вещей, что человек, давший себе слово хотя бы один день не врать, разрушил все свои жизненные проекты – поссорился с начальником, от него ушла жена, он лишился большинства друзей и далее в том же духе. Потому что неуместная истина разрушает привычные языковые игры, не предлагая взамен ничего более конструктивного.
Но у данной проблемы есть еще и другой аспект, который заключается в том, что это только кажется, что человек в повседневной жизни все время стоит перед выбором, говорить ли ему правду или лгать. На самом деле существует огромное количество речевых действий, которые нейтральны по отношению к высказыванию лжи или истины.
Так, теория речевых актов выявила в речевой деятельности тип высказываний (речевых актов), основным параметром значения которых является не истинностное значение, а иллокутивная сила, то есть степень убедительности высказывания, его успешности [Остин, 1999]). Так, председатель собрания, говорящий: «Объявляю собрание открытым», – прежде всего, заботится не об истинности того, что он говорит, а об успешности своего речевого акта, он самим актом своего высказывания производит действие в реальности. То есть в подобных речевых действиях высказывание и реальность не находятся в отношении параллельного изоморфизма – высказывание является не отражением реальности, а частью реальности. Как писал Витгенштейн, «Слова – это поступки».
Наиболее сильный вариант теория речевых актов обнаружила в так называемой перформативной гипотезе [Ross, 1970], в соответствии с которой любоевысказывание на уровне глубинной структуры является перформативом, речевым актом, то есть в его глубинную пресуппозицию входит перформативный элемент. Это означает, что обычное индикативное высказывание «идет дождь», по мнению философов, разделяющих перформативную гипотезу, на уровне глубинной структуры выглядит приблизительно следующим образом: «Желая сделать так, чтобы ты знал это, я говорю: идет дождь» [Вежбицка, 1985: 253].
Возникшая и развившаяся в 1960–1970-е годы лингвистика разговорной речи подчеркнула, что в живой разговорной речевой деятельности те высказывания, которые вообще могут претендовать на обладание истинностным значением, то есть эксплицитные индикативные высказывания, играют весьма незначительную роль. Разговорная речь, как правило, вообще не имеет форму правильного предложения, чаще всего это эллиптическая, отрывочная речь, обрывки фраз, интерферирующих друг с другом, незаконченных, оборванных на полуслове. Вот как выглядит расшифровка фрагмента записи разговорной речи покупателей в московском овощном магазине конца 1970-х годов:
Огурцы: Три не очень больших // ; Штучек семь / маленькие только, пожалуйста // ; Мне четыре покрупней дайте // ; Один большой огурчик мне // ; Один длинный потолще // ; Вот тот кривой взвесьте // ; Что-нибудь грамм на триста найдите //
Капуста: Один покрепче // ; Побольше один // ; Мне два маленьких крепеньких // ; Будьте любезны, вот тот кочешок с краю // ; Один кочешок получше найдите, пожалуйста [Русская разговорная речь, 1978: 151].
При этом наряду с императивами, вопросами, конъюнктивными высказываниями, контрфактическими предложениями, которые в принципе лишены значений истинности, многие высказывания даже в индикативе в принципе неверифицируемы. Таковы, например, были советские лозунги; Т. М. Николаева назвала систему подобных высказываний, при помощи которых можно манипулировать массовым сознанием, «лингвистической демагогией» [Николаева 1988].
Империализм – это загнивающий капитализм.
Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны.
Мир победит войну.
Коммунисты всегда впереди.
В принципе неверифицируемыми являются также высказывания о будущем и прошлом. Это модальные высказывания. Они легко фальсифицируются: высказывания о будущем – будущим опытом, высказывания о прошлом – альтернативными представлениями о прошлом. Л. Н. Гумилев в своих книгах подчеркивает, что историческая реальность изображается историком или летописцем под углом зрения той политической партии, которой он принадлежит: в зависимости от этого он замалчивает одни факты, придумывает другие и тенденциозно освещает третьи. Создаются такие грандиозные исторические фальсификации, как государство пресвитера Иоанна [Гумилев, 1970].
Современная культура является культурой информационной, постиндустриальной, это «третья волна цивилизаций», как назвал ее Алвин Тоффлер. Информация становится мощным средством манипуляции общественным сознанием именно в обществе с ее переизбытком. Успешность сообщенной информации по средствам масс-медиа зависит, прежде всего, не от ее истинности, а от ее убедительности. Последнее позволило Бодрийару в его рассуждениях о той искажающей роли, которую играют средства массовой информации, сделать провокативное утверждение по поводу американо-иракского конфликта в Персидском заливе в январе 1991 года, что вообще все военные действия там проходили лишь на дисплеях компьютеров, что «войны в заливе не было» [Бодрийяр, 1993].
Последняя фраза своей провокативной категоричностью как раз напоминает безумное высказывание, каковым оно в определенном смысле и является: возвещением некоей безумной истины, отрицание которой является тривиальным, что делает ее похожей на высказывание научного открытия (по Попперу, то высказывание является высказыванием научного открытия, отрицание которого является трюизмом [Поппер, 1983]). Вообще ряд философских категоричных высказываний являются родственными безумным высказываниям. Например, знаменитое витгенштейновское «О чем невозможно говорить, о том следует молчать». Здесь, напротив, безумной является нарочитая поверхностная банальность этого утверждения, отрицание которого представляет собой противоречие: «О чем невозможно говорить, о том и следует говорить» (ср. о роли тавтологий и противоречий в «Логико-философском трактате» [Витгенштейн, 1958], а также о некоторой толике безумия как неотъемлемой принадлежности этого произведения [Руднев, 2002а].
Все, что было сказано выше о необязательности и малой роли истинных и ложных высказываний в повседневной речи, резко контрастирует с той ролью, которую играет высказывание истины, какой бы фантастической она ни казалась обыденному сознанию, в речи безумных людей. Безумная речь не задает вопросов и не признает императивов. Эта речь начисто лишена пропозициональных установок, в то время как наличие пропозициональной установки лишает произносимый контекст значения истинности, как показал еще Фреге: денотатом косвенного контекста является его смысл [Фреге, 1978]. Трудно представить себе речь безумного, которая начиналась бы с пропозициональных установок.
Мне кажется, что меня преследуют масоны.
Мне представляется, что я – Наполеон и Дева Мария.
Я полагаю, что жена мне изменяет со всеми подряд.
Я думаю, что я стена.
Я убежден, что мир вокруг полон скорби.
Речь безумного тем и характерна, что он, высказывая безумную истину о себе, не прячется за пропозициональными установками, он изрекает истину прямыми словами. Вообще косвенные контексты крайне не характерны для речи шизофреников, как было нами показано еще в исследовании речи при бреде величия [Руднев, 2002].
Вот, например, фрагмент характерного блока высказываний пациентки раннего Юнга, портнихи:
Я – величественнейшее величие – я довольна собой – здание клуба «Zur platte» – изящный ученый мир – артистический мир – одежда музея улиток – моя правая сторона – я Натан мудрый (weise) – нет у меня на свете ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер – сирота (Waise) – я Сократ – Лорелея – колокол Шиллера и монополия – Господь Бог, Мария, Матерь Божья – главный ключ, ключ в небесах – я всегда узакониваю книгу гимнов с золотыми обрезами и Библию – я владетельница южных областей, королевски миловидна, так миловидна и чиста – в одной личности я совмещаю Стюарт, фон Муральт, фон Планта – фон Кугель – высший разум принадлежит мне – никого другого здесь нельзя одеть – я узакониваю вторую шестиэтажную фабрику ассигнаций для замещения Сократа [Юнг, 2000: 124].
Обратим внимание, здесь нет вообще ни одного придаточного предложения. Вообще эгоцентрическая речь о самом себе это особая безумная языковая игра, крайне не характерная для повседневного речевого обихода. Представим себе, что президент бы начал свою речь так: «Я – Владимир Владимирович Путин, я – президент России, я обязан заботиться о ее гражданах, мне принадлежат все российские законы, я – гарант конституции, у меня есть жена, я люблю свою жену и собаку, я не позволю чеченцам совершать террористические акты…» и т. п.
Кстати, по-видимому, именно по этой причине знаменитая максима раннего Путина: «Мы будем мочить чеченцев в сортире» – произвела такое неизгладимое впечатление своим явным парапатологическим оформлением. Здесь важна была не только соответствующая анальная лексика, но и почти бредовая категоричность высказывания, характерная скорее не для современного политика, а для пророка или религиозного харизматического лидера, которые все сплошь безумцы. Ср., например, заявление Иисуса: «Не мир, но меч принес я на землю» и подобные ему, которых можно много найти в Нагорной проповеди. Ср. характерный в свете проблемы «истина и безумие» зачин: « Истинно, истинноговорю…» («скорее верблюд пройдет через игольные уши, чем богатый в Царствие Небесное»). Здесь изрекается истина, чуждая каким бы то ни было пропозициональным установкам и косвенным контекстам.
Что же происходит, когда человек заболевает психическим расстройством? Почему люди сходят с ума? Принято говорить, что безумие – это защита организма от невыносимого страдания. Чего же не выносит человек? Он не выносит лжи мира и при психическом расстройстве открывает истину. Это и происходит, когда человек сходит с ума. Но это происходит по-разному при различных психических расстройствах.
Депрессия является защитой от утраты – либо актуальной утраты близкого человека, либо от каким-то образом зафиксировавшейся в бессознательном утраты первичного объекта, как считают психоаналитики [Фенихель, 2004]. В этой защите от ужаса утраченного объекта, то есть, находясь в состоянии беспомощности перед миром, депрессивный человек чувствует и порой изрекает, что весь мир вокруг ужасен. Можно сказать, что он попадаетв ужасный мир (ср. главу «Безумие и реальность» книги [Руднев, 2005]). Этот ужасный мир в каком-то смысле существует «объективно», так же как и прекрасный радостный мир гипоманиакального больного. Но как это соотносится с цитированными выше словами Гамлета (которые мы как будто разделяли) о том, что мир ни плох, ни хорош, но мысль его делает таковым? Здесь можно пойти дальше и сказать, что не только не существует мира ни хорошего, ни плохого самого по себе, но вообще мира без субъекта не существует. «Мир это то, чему случается быть» (первый афоризм «Трактата» Витгенштейна; в нашем переводе [Руднев, 1999а]). Но случается или не случается быть чему-то непременно с кем-то. Пустынный бессубъектный мир невозможно себе представить, находясь на какой-то достаточной степени философской абстракции. Мир без субъекта так же невозможен, как субъект без мира. Чем был бы мир без субъекта? Конгломератом каких-то вещей, не имеющих названия, потому что им некому дать названия. А если у вещей нет названия, то это не вещи; так, свойство быть вещью это семиотическое свойство [Пятигорский, 1973]: вещь предполагает две стороны – знак и значение. Это является иллюзией обыденного сознания, что деревья, горы, трава, животные спокойно населяют Землю в отсутствии человеческого сознания. С философской точки зрения это такая же гипотеза, как и то, что мир сотворен Богом, причем вторая гипотеза в большей степени логически обоснованна.
Поэтому мы говорим, что депрессивный человек попадает в некий готовый депрессивный мир, а не изменяет некий существующий нейтральный мир. Нейтрального мира просто не существует. Есть мир обыденный, мир обыденного сознания, который просто является другим миром по отношению к мирам психических расстройств. И просто люди с разными расстройствами и нормальные люди существуют в различных реальностях. Эти реальности как-то сообщаются, в лучшем случае пересекаются, но чем серьезнее психическое расстройство, тем меньше область пересечения миров, находящихся здесь и там сознаний.
Предположим, депрессивный человек говорит обычному здоровому среднему человеку: «Мир ужасен. Он наполнен страхом, тоской и отчаянием». Но здоровый человек находится в другом мире (в каком именно – это еще вопрос), поэтому он не с силах понять этого высказывания. Вот почему обычные люди тяготятся обществом депрессивных людей.
Можно сказать, что помешанный, безумный человек в первую очередь разрушает иллюзию объективно существующего «никакого» мира, самую фундаментальную иллюзию, которую поддерживает здоровый средний человек. Почему мы говорим, что пребывание в здоровом среднем «никаком» мире это иллюзия, а пребывание в безумном мире – это пребывание в истине? Потому что здорового среднего «никакого» мира на самом деле не существует. Это означает, что так называемый здоровый человек либо просто еще не знает того, что он на самом деле болен, либо еще не подошел к тому, что он болен. Это не мистика – это соотносится и с клинической характерологией и с фактами психофизиологического развития в психоанализе. Какими фактами? Развитие фиксации и пр.
Мы не отрицаем существования психической нормы, но мы отрицаем то, что эта норма является истиной, мы убеждены, что она является иллюзией. Как мы уже говорили выше, здоровый человек, тем не менее, не может не обладать никакимхарактером. Он либо сангвиник (циклоид), либо психастеник, либо шизоид, либо эпилептоид, либо обсессивно-компульсивный, либо истерик. При том он может быть нормальным, то есть черты, свойственные этим характерам, акцентуированы в слабой степени. Но нормальный истерик – это все-таки истерик, и нормальный шизоид – это шизоид. Нет людей с «никакими» характерами, которых мы бы могли назвать абсолютно нормальнымисредними людьми, живущими в среднем «никаком» мире. Нормальный истерик живет в иллюзорном нормальном мире. Когда он заболевает истерией или у него обнаруживается истерическая психопатия, то ему открывается свой родной истерический мир, он попадаетв него. Он и до этого в каком-то смысле жил в своем родном мире. Но он полагал, что разделяет общий «никакой» мир со всеми остальными «никакими» здоровыми людьми. Когда он заболевает, он осознает что его мир – это особый мир.
Здесь возможны два возражения. Что же получается, что пребывание в безумии есть нечто положительное? Но это противоречит здравому смыслу. И второе возражение. Разве следует из этого, даже если принять кажущееся фантастическим положение о существовании «объективных» психопатических, невротических и психотических миров, значит ли это, что два истерика всегда хорошо поймут друг друга, а два шизофреника – друг друга? Факты обыденной жизни говорят, что шизофреники отлично находят общий язык с психастениками, а истерики – с сангвиниками и т. п. Но разве когда мы постулируем обыденную гипотезу нормального общего для всех мира, мы при этом исходим из того, что все в нем друг друга хорошо понимают? Это тоже противоречит фактам обыденной жизни. В этом иллюзорном «никаком» мире все довольно плохо друг друга понимают. Нахождение в одном мире не обеспечивает понимания, так же как не обеспечивает его говорение на одном и том же языке, хотя в каком-то фундаментальном смысле люди, говорящие на разных языках, не понимают друг друга по-иному, чем люди, говорящие на одном языке. Пьяный дворник дядя Вася и философ Александр Пятигорский пользуются русским языком, и в каком-то смысле они понимают друг друга лучше, чем два дворника, русский и китайский, или два философа, русский и китайский, если они не знают общего для них английского. Два истерика это аналогия дяди Васи и Пятигорского. Русский и китайский дворник это аналогия между сангвиником и шизоидом. Они могут найти какой-то общий язык помимо русского и китайского, но, тем не менее, одни и те же вещи называются в их языках по-разному.
Что касается того, хорошо ли пребывание в истине безумия или в иллюзии нормальности, то это вопрос не может получить однозначного разрешения. Кому-то хорошо постоянно врать и жить в согласии с реальностью «согласованного транса» (термин Ч. Тарта [Тарт, 1998]), иллюзорного нормального мира, кому-то важнее открывать истины безумных миров, будь то Даниил Андреев, Достоевский, Ван Гог или пьющий запоем дворник дядя Вася, который тоже живет в каком-то смысле в истинном «делириозном мире» алкоголика (алкоголизм ведь тоже – психическое заболевание), во всяком случае, он не разделяет иллюзии о нормальной общности обыденного мира с остальными людьми. И в этом смысле Даниил Андреев, Достоевский и галлюцинирующий алкаш одинаково пребывают в истине по сравнению со здоровым шофером, бухгалтером или президентом России, пребывающих в иллюзии «никакого», общего для всех нормального мира.
Но истина безумного трансгрессивна по отношению к обыденному повседневному опыту, трансгрессивна и не диалогична. Она тем более трансгрессивна, чем более тяжелым является психическое расстройство, и тем менее диалогична, чем в большей мере психотик погружается в свои бредовые построения и не хочет рассказывать о них миру. Однако чрезвычайно часто бывает, что это не соответствует действительности, и тогда возникают «Мемуары нервнобольного» Даниэля Шребера [Freud, 1981a, Лакан, 1997], пророческие трактаты об устройстве ада Эммануэля Сведенборга, «Роза мира» Даниила Андреева, психотическая поэзия Хлебникова и обэриутов.
В своей полной трансгрессии по отношению к миру повседневного опыта безумный пользуется придуманным «базовым языком» (термин Шребера). Бредовый язык может быть совершенно непонятным здоровому сознанию в силу своей галлюцинаторной обусловленности, и, стало быть, асемиотичности (или постсемиотичности) – знаки здесь не подкрепляются никакими денотатами. Безумный язык может быть также полностью редуцирован до молчания, потому что безумная истина может полагаться невыразимой ни на каком языке. Это сродни установке раннего Витгенштейна с последним тезисом его «Трактата»: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать». Ср. также его знаменательные слова о том, что «люди, которым стал ясен смысл жизни после долгих сомнений, все-таки не могли сказать, в чем этот смысл состоит» [Витгенштейн, 1958].
Здесь встает вопрос о соотношении среднего «никакого» языка, на котором говорят в повседневном «никаком» мире, и базового безумного пост-языка. Безумный писатель, художник философ или ученый может пойти на компромисс и начать говорить с миром, тогда он должен скорректировать свой безумный язык и приспособить свою безумную истину к повседневному языку и повседневному опыту. Обычно в этом случае безумный попадается на ту же иллюзию, что и нормальный средний человек, иллюзию представления о том, что некий общечеловеческий язык существует, то есть существует в том смысле, что он может быть лишен каких бы то ни было патологических или характерологических черт. Такого языка не существует, так же как не существует «никакого» нейтрального мира. Язык так же, как и человек, долженбыть истерическим, обсессивно-компульсивным, циклоидным, шизоидным, эпилептоидным, депрессивным или паранойяльным (подробно см. главу «Язык в пространстве болезни» книги [Руднев, 2003]).
Чем более значительную истину хочет сообщить человек, тем более характерологичным и патологичным является язык, которым он пользуется. Если сравнить язык, на котором говорят «Я пошел в кино» и «Сегодня хорошая погода» с языком «Улисса» и «Поминок» Джойса, «Шума и ярости» и других романов Фолкнера, языком Платонова и Мандельштама, то ясно, что любое мало-мальски значительное послание ближе к безумию, чем к повседневности. То же самое может быть сказано о языке «Логико-философского трактата» Витгенштейна, «Бытия и времени» Хайдеггера, языка произведений Гуссерля и Деррида, Лакана и Делеза – этот язык в той или иной мере приближается к базовому безумному языку, и понимать его обыденному сознанию чрезвычайно трудно. Однако опыт повального увлечения такими философами, как Деррида и Лакан, говорит о том, что безумный язык зачем-то нужен более или менее обыденному сознанию, что он все же не полностью трансгрессивен по отношению к нему.
Для чего же нужен компромисс между невнятной и почти невысказываемой безумной сакральной истиной и повседневной «никакой» иллюзией? Этот вопрос равносилен вопросу о том, для чего нужна культура, поскольку фундаментальная культура в целом и есть осуществление этого компромисса. Человеческий язык в целом представляет собой продукт шизофренического начала в развитии homo sapiens, как показал, в частности Т. Кроу, согласно гипотезе которого конвенциональный язык людей это в принципе шизофреническое явление [Crow, 1997]. Сознание человека патологически расщеплено на культурное и природное начала. Для того чтобы существовать и развиваться в качестве уникального биологического вида, человеку недостаточно «никакого» языка, на котором можно сообщить «Я пошел в кино» и «Сегодня хорошая погода». Если бы люди на протяжении своего развития делали только такие сообщения, то культура бы вообще не возникла, и человек не состоялся бы как особый биологический (надбиологический) вид. Более того, если бы не было безумного шизофренического языка, то не было бы и нейтрального «никакого» языка. Если бы человек не развил культуру, если бы не было первого закона Ньютона, второго начала термодинамики, теории относительности Эйнштейна и принципа дополнительности Бора (которому, кстати, принадлежит знаменитое и знаменательное применительно к нашей теме высказывание: «Все мы видим, что перед нами совершенно безумная теория, вопрос состоит только в том, достаточна ли она безумна для того, чтобы быть истинной»), так вот если бы всего этого не было бы, то, парадоксальным образом, не был бы возможен нейтральный бытовой язык, на котором говорят «Я пошел в кино» и «Сегодня хорошая погода». Безумный язык и безумные теории в пределах развития человеческой культуры более фундаментальны, а бытовой язык производен от них. Для того чтобы можно было и нужно сказать «Я пошел в кино» необходимо, чтобы существовало кино – продукт развитой культуры. Для того чтобы можно и нужно было сказать «Сегодня хорошая погода», необходимо, чтобы сформировалось культурное представление о погоде (волки в лесу не интересуются друг у друга, «какая сегодня погода», им это не нужно). В определенном смысле можно сказать, таким образом, что не безумие производно от нормы, а норма производна от безумия, и в этом состоит неразрешимый парадокс человеческой культуры и человеческой мысли.








