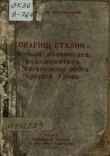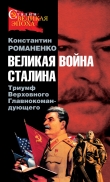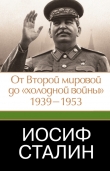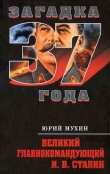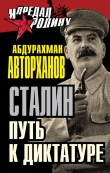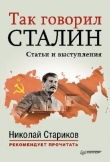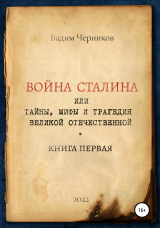
Текст книги "Война Сталина, или Тайны, мифы и трагедия Великой Отечественной. Книга первая"
Автор книги: Вадим Черников
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Далее, безусловно, важным выступает всё тот же вопрос «внезапности». Хрущёв говорит: «В ходе войны и после нее Сталин выдвинул такой тезис, что трагедия, которую пережил наш народ в начальный период войны, является якобы результатом «внезапности» нападения немцев на Советский Союз. Но ведь это, товарищи, совершенно не соответствует действительности». Итак, Хрущёв поднимает важный вопрос и говорит о том, что никакой «внезапности» на самом деле не было. Тем более что, как мы уже говорили, сам Сталин начал применять это термин только в 1942 году, а уже в со следующего года и вплоть до своей смерти не желал обсуждать и никогда не поднимал тему первых дней войны. Их как будто бы не было, а речь он вёл о войне исключительно с «победной» платформы. Почему было именно так, мы позже ответим, а пока в полный рост встаёт вопрос о том, что Хрущёв как раз поднял вопрос о катастрофическом начале войны, а не о победах. Напомним, что он сам практически три года был на фронте. В качестве члена Военного Совета на Юго-Западном, Сталинградском, Южном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Его роль в катастрофах под Киевом и Харьковом многие признают значительной, хотя это вряд ли правда, а скорее очередной фейк сталинистов в отместку за этот доклад. Так, Василевский оценивал деятельность Хрущёва в качестве Члена Военного совета фронтов положительно: «Хрущёв был человеком энергичным, смелым, постоянно бывал в войсках, никогда не засиживался в штабах и на командных пунктах, стремился видеться и разговаривать с людьми и, надо сказать, люди его любили». Оставим без комментариев, ведь маршал говорил это об уже действующем руководителе страны, однако то, что с фронтов Хрущёв всю войну «не вылезал» – правда. Однако правда и то, что тот же Хрущёв периодически «влезал» в работу военных и его «авторитетные» предложения военным не раз приходилось отклонять, так как они были далеки от реальности.
Отметим также, что Хрущёв в конце доклада жёстко раскритиковал книгу «Иосиф Виссарионович СТАЛИН: Краткая биография» издания 1948 года, которую, естественно, редактировал и правил сам Сталин. Он говорит: «Можно привести множество подобных само восхваляющих характеристик, внесенных в макет книги рукою Сталина. Особенно усердно он расточал похвалы в свой адрес по поводу своего военного гения, своих полководческих талантов. Позволю себе привести еще одну вставку, сделанную Сталиным в отношении сталинского военного гения: «Товарищ Сталин, – пишет он, – развил дальше передовую советскую военную науку. Товарищ Сталин разработал положение о постоянно действующих факторах, решающих судьбу войны, об активной обороне и законах контрнаступления и наступления, о взаимодействии родов войск и боевой техники в современных условиях войны, о роли больших масс танков и авиации в современной войне, об артиллерии, как самом могучем роде войск. На разных этапах войны сталинский гений находил правильные решения, полностью учитывающие особенности обстановки".
Сильно, правда, особенно про «сталинский гений»? В эпиграфе к этой книге про «русский народный эпос» о Ленине-Сталине на самом деле ещё «сильнее», однако… На первый взгляд, эту книгу Хрущёв просто привёл как вопиющий пример безудержного восхваления самим себя стареющим и впадающим в маразм Сталиным. Как высшую точку «культа личности», однако не всё так просто. Со Сталиным вообще всё не просто, а когда дело касается пристального внимания вождя к слову, к тому, как он буквально шаг за шагом выстраивал легенду о самом себе… То придётся отнестись к его биографии-на самом деле написанной им же самим, а не только «правленой» – предельно внимательно.
Ведь на самом деле эта книга-краткий конспект по тем самым военным мифам, изложенный самим Сталиным. Эта книга-ценное доказательство того, как Сталин эти мифы придумывал, внедрял и «вживлял» в общественное сознание, где они накрепко засели и сегодня. Эта книга-компиляция прямых речей самого Сталина и итог всей его мифологической деятельности в военный и послевоенный период. И она-вкупе с другими его обращениями, заявлениями, сообщениями и приказами военного времени-даст массу ценного и, что крайне важно, «от первого лица» материала для нашего расследования. Мало того, в том же 1948 году выпущена ещё одна книга: «И. Сталин о Великой Отечественной войне Советского Союза». В ней собраны все обращения, заявления, приказы и даже ответы Сталина иностранным корреспондентам в годы войны. Это сборник речей самого Сталина, с которым спорить трудно, то есть невозможно. Мы к этим произведениям и прямым речам-то есть к доказательствам-Сталина не раз обратимся. Возвращаясь же к той самой «внезапности», то в «Краткой биографии» есть вот такой короткий абзац: «22 июня 1941 года гитлеровская империалистическая Германия грубо нарушила пакт о ненападении и совершила неожиданное, вероломное нападение на Советский Союз». Не «внезапное», однако «неожиданное» – Даль и Ожегов считают эти слова синонимами-и «вероломное» Сталин в книге обозначил, чтобы больше не возвращаться к этой терминологии никогда. Итак, как видим вопрос о мнимой внезапности был впервые поднят Хрущёвым и основания у него были. Посмотрим, к чему это привело после отрешения его от власти. Это очень интересно…
Итак, осудив методы Сталина вообще, а также присвоение им роли главного победителя в войне, вскоре были озвучены цифры в 20 миллионов погибших. «Похороненные» Сталиным сразу после победы неудобные вопросы начали потихоньку поднимать именно после доклада Хрущёва. Писатели и режиссёры-фронтовики воспрянули духом и на экраны один за другим стали выходить фильмы из «золотого фонда» отечественного кинематографа: «Летят журавли», «Дом, в котором я живу», «Чистое небо», «Баллада о солдате». Практически всем этим фильмам «зелёный свет» дал лично Хрущёв, в душе которого война оставила неизгладимый след. Не отставали от кино и писатели. Подключилась художественная литература, по которой мы многие годы «учим» эту самую историю. О войне 1812-го года мы же знаем исключительно по шедевру Толстого «Война и мир», по стихотворению Лермонтова «Бородино» и, в лучшем случае «Певцу во стане русских воинов» Жуковского. «Скажи-ка дядя», «небо Аустерлица», «Москва, спалённая пожаром», Наташа и Пьер и так далее… В крайнем случае Давыдова-Ростоцкого упомним с его «эскадроном гусар летучих». В то же время о романе, к примеру, Николая Загоскина «Рославлев или русские в 1812-м году» или «Записках русского офицера» Фёдора Глинки, наоборот, не слыхали. Конечно, изучать историю по романам опасно, однако анализировать художественные произведения иногда полезно, а в нашем случае необходимо. Когда эпитеты, словосочетания или термины перекочёвывают-в пропагандистских целях особенно-в официальную плоскость, приходится поискать «первоисточник». Такие как, например: «дубина крестьянской войны». И мы ещё неоднократно прибегнем к такой методе, а пока остановимся там, где мы находимся.
Итак, в середине пятидесятых-начале шестидесятых писатели-фронтовики попытались провести довольно глубокий анализ причин неудач первых двух лет войны, но быстро свернули это дело. То ли сами, то ли «по указанию». Особняком здесь стоит, безусловно, эпическая трилогия «Живые и мёртвые» Константина Симонова, а также немедленная экранизация её первой части. Пожалуй, самый подробный «дневник» первых страшных месяцев войны. И в то же время долгое время остававшееся единственным – да ещё и экранизированным произведением-шедшим вразрез с советской послевоенной мифологией. Поэтому и показывали этот фильм в 1970–1980 годах крайне и крайне редко. Не говоря уже о втором фильме «Возмездие», который и сегодня-то не увидишь нигде. Напомним, что Симонов, прошедший всю войну с первого дня в действующей армии, был честным и мужественным человеком. И вопросы катастрофического начала войны его логично волновали, тем более он сам был свидетелем тех событий. И вот какие вопросы он поставил в первом томе своей трилогии, вышедшей из печати в 1959-м, а через пять лет экранизированной в одноимённом фильме.
Давайте проанализируем отрывок из «Живых и мёртвых», где жена Синцова Маша возвращается домой и встречается с соседом Зосимой Ивановичем Попковым-старым рабочим-большевиком, вернувшимся из госпиталя. Которого очень интересует, что же это за «внезапность»:
– Скажи ты мне, пожалуйста, что за внезапность за такая о которой нам четвёртый месяц только везде талдычат… Внезапность, внезапность! Я с одним полковником в больнице лежал – хотя и с фронта, а не раненый, тоже, как у меня, грыжа просто. Оказывается, это и на фронте не отменяется. Спрашиваю я его: «Ну, скажи ты мне, что это за такая за «внезапность»? Где же вы были, я ему говорю, – военные люди? Почему товарищ Сталин про это от вас не знал, хотя бы за неделю, ну за три дня? Где же ваша совесть? Почему не доложили товарищу Сталину?»
– И что же он вам сказал? – Маша сама уже много раз задавала себе этот мучительный вопрос, но еще никогда не задавала вслух так прямо и бесстрашно, как это делал сейчас Попков.
– Чего сказал? А ничего не сказал. Нагрубил мне, старику. А тебе, наверно, все понятно? – усмехнулся Попков. – Меня тут одна молодая барышня с нашего двора в прошлом месяце за длинный язык воспитывала: все ей понятно было. А сегодня с чемоданом в руках так через двор ударилась, бедная, аж ноги подламывались. Если и тебе все про все понятно, тогда бог с тобой, лучше молчи.
– А теперь я тебе скажу, как я понимаю, – после долгого молчания строго и даже торжественно сказал Попков. – Какая такая была «внезапность», я не знаю – не моего ума дело. Когда за стенкой гости придут, на стол собирают, и то людям слышно! А как это так, чтоб под боком целое войско собрали – и не слыхать, не знаю! Но я другое скажу. Что обсчитались мы, какая у немца сила, – это верно. Что сила у него огромная, тоже верно. Потому он и пошел прямо с границы ломать нас. – Попков положил руки перед собой на стол и всем телом подался к Маше. – Ты уже не маленькая, кое-что помнишь и на своем веку. Скажи мне хотя бы про свой век: как ни тяжело нам было, а пожалели мы когда-либо чего-либо для Красной Армии? Было когда такое, что надо на Красную Армию дать, а народ бы не дал? Нет, ты отвечай! Было такое или не было?
– Не было, – сказала притихшая Маша.
– А теперь я так понимаю, что не все у Красной Армии есть, чему надо быть! Подумать, сколько времени не можем фашиста остановить! А теперь я спрашиваю и прошу за это к ответу: а почему же нам не сказали? Почему не сказали по совести? Почему промолчали? Прав я или нет?
– Что идут бои, в сводках читаю, – продолжал гнуть свое Попков. – Здесь их побили, тут пленили, там остановили… И при всем том третьего дня Брянск и Вязьму отдали! Так как же это выходит: сверху или под низом, как это по-вашему, по-военному? Ты военная – вот и ответь!
Итак, отрывок знаковый. Думается, что Симонов доклад Хрущёва не просто читал, но штудировал и вопрос о «внезапности» его не на шутку растревожил. Тем интереснее восклицания и «наезд» Попкова на полковника с вопросом: «Что это за такая за внезапность?». И претензии именно к бессовестным «военным людям», которые почему-то не доложили «товарищу Сталину» «хотя бы за неделю, ну за три дня» с выводом: «почему товарищ Сталин не знал?» Не правда ли, этот миф-Сталин «не знал», а военные во всём виноваты-один из самых популярных и поныне? Правда, Попков не уточняет о чём же военные должны были доложить Сталину. Видимо про это: «А как это так, чтоб под боком целое войско собрали – и не слыхать, не знаю!» Как мы ниже рассмотрим, не только военные, но и разведчики, дипломаты и все, кому не лень не только непрерывно докладывали, но и вовсю «трубили» об опасности. Как и говорил в своём докладе Хрущёв.
Однако пойдём дальше, ведь мы приближаемся к «вопросам без ответов», которые ставит Симонов в лице Попкова уже не к военным… К кому конкретно также не говорится, но направление понятно: к кому-то повыше руководства армии. Симонов словами Попков адресата-а это конечно же Сталин – «огибает» и напирает на «мы». Кто это «мы»? Попков с Машей? Синцов с Серпилиным? А может Симонов с Серовым? Или всё-таки Сталин, партия и правительство, то есть руководство страны. Естественно, вопрос этот лично к Сталину и ни к кому более: «…обсчитались мы, какая у немца сила, – это верно. Что сила у него огромная, тоже верно. Потому он и пошел прямо с границы ломать нас».
А далее Попков ставит два действительно серьёзнейших вопроса. Первый: «…я так понимаю, что не всё у Красной Армии есть, чему надо быть! Подумать, сколько времени не можем фашиста остановить!» И второй: «А теперь я спрашиваю и прошу за это к ответу: а почему же нам не сказали?.. Почему не сказали по совести? Почему промолчали?» Таким образом Попков, который: «Да я бы на самый крайний случай и эту квартиру отдал, в одной бы комнате прожил, я бы на восьмушке хлеба, на баланде, как в гражданскую, жил, только бы у Красной Армии всё было, только б она с границы не пятилась…» обращается уже к руководству страны-читай к Сталину-которое не подготовило армию к войне, да ещё и народу не сказало о том, что армия к войне не готова. Народу, который готов был армии отдать все силы, имущество и последние накопления, чтобы остановить врага.
В итоге получается уже мифологизированная, но тем не менее всё равно странная картина неудач первого года войны: Сталин не знал про армию врага «под боком», потому что военные не доложили. Ну то есть Сталин или плохой руководитель, или полный, извините, кретин. Военные же просто «бессовестные», но не предатели. При этом армия-вопреки всем предвоенным заявлениям-не имеет всего необходимого для войны. С силой врага кто-то под термином «мы» также «обсчитался». Народу ничего «по совести» на сказали. И всё это щедро сдобрено «внезапностью», о которой – подчеркнём, официально-ни Молотов в июне, ни Сталин в июле и в ноябре не сказали ни слова. Вот такая очередная сборная «солянка». Из которой советская постхрущёвская идеология выбрала не продолжение серьёзного анализа, а стала «замыливать» и «размывать» фактическую базу. И, «замыливая», готовилась почва для последующей уже железобетонной историографии.
Итак, Хрущёв в докладе поставил под серьёзное сомнение даже сам факт «внезапности» нападения Германии, за которым немедленно потянулся целый шлейф иных вопросов и попыток всё-таки разгадать тайну жуткого начала войны и катастроф 1941–42 годов. Писатели-фронтовики, под негласным руководством Симонова, попытались «покопать». Сам Симонов взял несколько интервью у Жукова и Василевского, некоторые отрывки опубликовал в своих книгах, а иные цензура «порезала». Сегодня эти подлинные материалы вполне можно найти и мы будем на них опираться, тем более что точка зрения двух маршалов видится важной. Если, конечно, анализировать серьёзно. Их никак не отнесёшь к махровым антисталинистам, наоборот, они часто высказывались о вожде очень высоко. Безусловно, после смерти Сталина у них стали прорываться иные оценки его личности и особенно деятельности. Что из них правда нам и предстоит выяснить.
Однако вскоре оружием советской пропаганды и официальной военной историографии-уж куда неожиданней, не правда ли? – становится именно «внезапное нападение». Этот термин взяли на «вооружение» те, кто в 1964 году сместили Хрущёва с поста, на который уселся ещё один фронтовик Леонид Брежнев. Сусловско-брежневская идеологическая партийная машина ухватилась за него и, закрыв глаза на факты и документы, сделала ведущей темой первого года войны. Затем термин стал-как и завещал Сталин-аксиомой. А вскоре законом и непреложной истиной. А что? Удобно и покойно! Внезапность, она и есть внезапность. Однако если партийное руководство эта подмена понятий устроила полностью, то граждан-миллионы условных Попковых-лишь частично, а фронтовиков вообще никак. Да только кто их спрашивал? И спрашивал ли кто-то самого Симонова-который всё-таки был убеждённым коммунистом-когда этот термин плавно перекочевал в идеологическую плоскость? Неудивительно, что «внезапность» – которую хоть и в 1942 году, но всё-таки озвучил сам Сталин – логично же подтянула и следующим миф-аксиому. Такой спокойный и отстранённый, под названием «временные неудачи». Который как раз ввёл никто иной как лично Сталин в 1941 году и назвал «временными неуспехами». К ним-также по воле и слову Сталина-логично прикрепился «гитлеровский блицкриг» и его «провал». Вот так и были рождены три Чудо-Юдо-Рыбы-Кита, на которых держалась-и по сию пору держится-советский военно-идеологический мифология начала Великой Отечественной. Эта гранитная пропагандистская плита плотно накрыла «могильник с ядерными отходами» причин катастрофы начала войны. Не говоря уже о попросту сданном в запасники истории 1942 годе, о котором вплоть до начала битвы под Сталинградом вовсе не говорили. А с ними ускользнул от внимания полновластный хозяин СССР генералиссимус Сталин. Не на виду, в тенёчке стоит его монумент, но и с постамента никто его до сих пор не снял.
Однако, после прихода к власти Брежнева и к 20-летию победы ситуация стала меняться. Конечно же, только внешне, без изменения мифологизированной сути войны. На фоне очередного витка «холодной войны» народу было решено напомнить о Великой Отечественной. Только вот фронтовики после долгого и позорного забвения продолжали находиться в оппозиции к власти. Дошло до того, что по радио в начале шестидесятых непрерывно стали передавать песню-призыв: «Фронтовики! Наденьте ордена!»
Солдат в атаку шёл не за награду,
Но велика награды той цена…
Во имя чести воинской и правды,
Фронтовики, наденьте ордена!
В итоге Парады снова возродили, ввели внешние памятные атрибуты: минуту молчания, могилу Неизвестного солдата, «Уроки мужества» в школах, однако сама историография войны лишь ещё более чётко структурировалась. Советская власть, естественно, ни в какую не желала признавать тот факт, что она потерпела грандиозный, катастрофический провал в войне, которую выиграли народы СССР, а отнюдь не партия-правительство-советский строй, во главе с вождём Сталиным. Поэтому факты о войне-особенно о первых её полутора годах-были самым страшным доказательством провала советской системы и именно они были самыми опасными для большевиков-коммунистов. Выход был один: сделать войну идеологическим противостоянием. И, конечно же, было наложено «табу» на факты о том, что Германия и СССР вполне себе мирно сосуществовали и замечательно сотрудничали вплоть до 3.00. 22 июня 1941 года. Не взирая на те самые «идеологические непримиримые разногласия». Как, впрочем, и Англия с Францией до лета 1939-го. Соответственно и война, в которой всегда и во все времена стороны преследуют массу своих целей: политических, территориальных и экономических превратилась по воле советских идеологов в «битву двух систем» в которой победила советская, как наиболее прогрессивная. Выведя войну из фактической плоскости и переведя её в ранг идеологии, была «логично» написана краткая история войны, в которой «они» были плохими, а «мы» хорошими и дело с концом. А добро всегда побеждает зло, как в сказках. С трудностями разного рода-вот и здесь без них, «временных», не обошлось-и всё же.
Иного толкования в СССР быть не могло. «Война коммунизма с германским фашизмом», которая сама по себе идеологический миф, потому что у власти там стояла нацистская партия, а в СССР и вовсе диктатор, затмила всё. Закрыла занавесом лжи не только катастрофы и поражения, но даже подвиги и победы, миллионы павших героев и почти всю историю Великой Отечественной войны. За исключением её «основных этапов», которые якобы полностью отражают её начало, ход и исход, то есть победу. Добавились «по желанию» нового лидера партии несколько эпизодов героических сражений у теплого моря. Города-герои добавились. Возникла «Малая земля». Появилось чёткая разбивка войны по этапам, начиная всё с того же «внезапного» нападения, которое стало мощным и почти законным оправдывающим термином. Вот эта схема: внезапное нападение-временные неудачи-срыв плана немецкого блицкрига-победа под Москвой-Сталинград-Курская дуга-освобождение страны и Европы-штурм Берлина. Чётко и ясно.
Кинематографическая линия «нового подхода» к войне также была выстроена в канонической эпопее «Освобождение», которая начинается даже не со Сталинграда, а вообще с Курской дуги и оканчивается штурмом Берлина. Ну то есть вполне в духе тех самых «сталинских» победных киноэпопей конца сороковых, в которых было не принято акцентировать внимание на неудачном-а на самом деле катастрофическом-начальном этапе войны. В то же время главной задачей для создателей таких фильмов являлась следующая: максимально увести зрителя от мысли о том, что Сталин мог принимать единоличные решения в военный период. То есть от того самого единовластия. Всюду насаждалась идея о коллективном принятии решений в «спайке»: Сталин-армия-правительство и никак иначе. Этой цели служили показ на экране многочисленных совещаний в Кремле в предвоенный и военный периоды, коллективной работы в Ставке и так далее. То есть обстановка была сложная, а решения принимали все вместе. И, соответственно, все вместе и виноватые сначала, а затем все также вместе и победители.
Лишь в 1985 году во «внеочередной» киноэпопее «Битва за Москву» всё тот же режиссёр-«освободитель» Озеров подробно коснулся темы начала войны. И, надо сказать, что фильм этот поставил множество крайне неудобных вопросов и именно лично к Сталину. Хотя совещания Сталина с военными стали ещё более масштабными и многочисленными, однако ясно, что именно руководитель страны настаивал на принятии решений, ведущих к катастрофе начала войны. Его основным антиподом выступает Жуков, а порой он и Тимошенко. Именно Сталин «не верит» в скорый удар вермахта. Именно Сталин призывает «не провоцировать» и отказывает военным в проведении необходимых мероприятий по подготовке к войне. Именно Сталин игнорирует сообщениям не только Зорге, но и агента «Альты». Именно Сталин лично после начала войны настаивает-на очередном совещании, конечно-на том, что нельзя только обороняться, а необходить контратаковать в ответ всеми мехкорпусами… Показаны в фильме и те самые неудачные контратаки наших частей, к которым призывал Сталин. Однако ответов на вопросы фильм не дал, а намёки так и остались лишь намёками.
Последний генсек-он же первый президент – вручил Золотые звёзды Мурманску и Смоленску, и на том советская летопись войны была написана, пронумерована, подшита и опечатана. И места для иного мнения в этой «описи» Великой Отечественной не было.