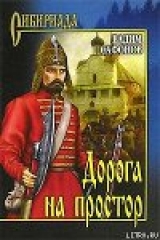
Текст книги "Дорога на простор"
Автор книги: Вадим Сафонов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
Дрогнуло и поплыло знамя Ермака.
Казачьи сотни бежали навстречу врагу.
Брязга, маленький, прыгая через рытвины, бежал впереди всех.
– Любо, любо! – кричал он и махал саблей.
Войска сшиблись бешено, с грудью грудь.
Эхо кидало, как мяч, вопли, лязг и грохот выстрелов, словно там, в воздухе, шла вторая битва над пустынной водой.
Не все ханское войско было перед казаками, а только часть его.
На вершине Чувашего мыса, за стенами и валами, Кучум слышал шум битвы.
Городок Чуваш господствовал над окрестностью. Но теперь крепость на мысу и войско в ней стояли праздными.
– Что там? – жадно спрашивал хан и полузакрывал глаза. Надо, чтобы никто не мог читать мысли на его лице. Будет так, как судил Аллах. Но, как многие слепнущие люди, хан не замечал, что, вслушиваясь, он напрягается, вытягивает шею в ту сторону, где вздымались из провала под обрывом звуки сраженья.
Когда казачий свист и крики заглушали имя Аллаха, пальцы хана сводила судорога, он привставал и начинал тихонько выть, молясь. Вестники простирались перед ним. Он приближал к ним свое пылающее лицо и до крови щипал им плечи и руки, ловя невнятные, прерывающиеся слова, слетавшие с их губ.
Не с железными ли людьми сражались татары?
Грозный клич лучших воинов хана и самая смерть не устрашали тех людей. Вокруг мертвых снова смыкались казацкие ряды. Плечистые бородачи, глядя в глаза врагу рубились с хохотом.
Когда горло начинало гореть от жажды, люди черпали воду шапкой и снова кидались в сечу; пар стоял над ней.
Казак в помятой кольчуге врубался в ряды татар. Он тяжело и без промаха крушил все вокруг себя, охая при каждом ударе, как будто рубил дерево. Кривые клинки татар отлетали при встрече с его саблей, словно она была заговорена. Громадный воин-татарин полоснул его клышем, широким прямым ножом. Кольчуга выдержала, только вмялась в голую волосатую грудь. Казак покачнулся. Но в следующее мгновенье он схватил великана за правую руку и, извернувшись, перерезал ему горло боковым ударом.
Был этот казак чернобород, с плоскими широкими ноздрями. Острые рысьи глаза неотрывно следили за ним. Пригнув голову, кошачьими прыжками подскочил к казаку Махмет-Кул. Его бухарский клинок очертил сверкающий круг. Он присел, когда засвистела казачья сабля, и тотчас выпрямился, взвизгнув. Сверкающий круг коснулся казака. Племянник хана со смехом кинул через плечо в толпу своих улан мертвую голову.
Но ни тревоги, ни замешательства не наступило в казачьем войске. То не был атаман, но простой казак, похожий на него.
Теперь новый удар, еще сильнейший, пришлось выдержать татарам. Сам Ермак и его товарищи устремились вперед.
Клинок Махмет-Кула опять засверкал в гуще боя. Рядом бились его уланы – знать, ханская опора. Они привычно ловили каждое движение его бровей. Багровое солнце коснулось зубчатой гряды пихт. Кровавый отсвет заката напитал небо и пустынную воду реки.
Спотыкаясь о мертвые тела, брели окончившие свой тяжкий, кровавый труд воины, садились на землю.
Еще вспыхивала то тут, то там битва.
Пали сумерки, и она угасла.
На крутом берегу, западнее Чувашего мыса, смутно белело знамя Ермака. Обрубали ветви деревьев татарского завала для казачьего костра.
У костра, под хоругвью, на подостланной шкуре сидел Ермак, Яков Михайлов сидел перед ним на чурбане. Другие атаманы расположились поодаль, прямо на земле. Седой Пан подремывал, свесив на грудь голову. Сотник Журба, на корточках, безмолвно ждал.
Казаки подкидывали в костер охапки сушняка, чтобы ярче было пламя. Михайлов, наклонясь, вглядывался в насечки на куске бересты (нацарапанные ножом, они больше походили на зарубки, чем на письмена) и говорил:
– К остякам и вогуличам, думаю… К туралинцам, барабинцам, коурдакам и аялинцам.
– Кого послать? – спросил Ермак.
– Акцибарского князька и Епанчина толмача.
– Надежны?
Войсковой атаман усмехнулся:
– Ермак, говоришь, ноне сам пан, от панского стола не бегают!
Михайлов продолжал ровно, глуховато:
– А скажут пусть таково: войско, мол, благодарит, что слепого Кучума обморочили; спасибо мол, и будя; пусть в юрты повертывают, как до завалов их подойдем.
– Постой! И так еще молвить: что впредь будет, то зачнем. За доброе – с своего плеча зипун дам. Князьям их – по юшлану, – ты, Матвей Мещеряк, не скаредничай, поди, слышь! А что было – быльем поросло: вспомянет кто – глаз вон.
Журба привстал было. Ермак удержал его.
– Наших двоих… да нет, четверых отрядить с ними. Да позабористей, слышь? Побархатней. Сам выберешь. Эти к туралинцам, к барабинским татаровьям сходят.
– И не промешкать: до свету, – строго сказал Михайлов.
Ермак негромко позвал:
– Кольцо!
Тот повернулся всем телом, поправил шапку.
– Заутра – левая рука войска твоя, Иван. Свою сотню туда поставишь. Тебе, Яков, правая рука. Сдержишь хана, пяди не уступая. Ведите полки. Ермак поглядел на обоих – Михайлова и Кольцо.
Ударил каблуком вытянутой ноги по земле.
– Полки, говорю. Будем биться ратным обычаем. – И досказал: – Как под Ругодив ходили, с тем Басмановым[32]32
Нарва была взята русскими войсками в 1558 году, в начале ливонской войны
[Закрыть].
– Ругодив! Ишь, что вспомянул! – изумленно пробурчал Кольцо.
Ермак молча встал под хоругвью, огляделся. Плоско лежала, чернела в туманном мороке земля. Ни огонька в эту ночь на вражьей стороне. Явственно, мирно пугукала вдали птица.
– Убыло нас, эх! Коротка наша улица…
На заре Михайлов завязал перестрелку с Чувашевым укреплением. Кольцо завернул левое крыло казачьего войска по полю, в обход, заставив татар растянуть свой стан. И через рвы и обрывистый овраг повел Ермак с Грозой и Паном на приступ ядро войска там, где был стан вогулов и остяков.
К полудню остяки покинули хана. Вскоре ушли вогулы. Они погнали оленей домой, в свои юрты, укрывшиеся в непроходимых яскальбинских болотах.
Часть татарского лагеря оказалась в руках Ермака.
Выстроив людей кругом, отбивался Михайлов от улан Махмет-Кула.
Казаки Ермака полезли на ханскую крепость.
Они лезли цепь за цепью, и татары подсекали их, пуская тучи стрел и меча камни.
Вместе с другими взбирался худощавый казак. Дважды сшибали его, он прихватывал рукой место, ушибленное камнем, вскакивал, карабкался. Он опередил товарищей.
Тучный великан снизу, из оврага, поглядывал на него. В реве голосов он расслышал звонкий выкрик. Худощавый казак был уже без зипуна, – верно, сбросил, – в одной белой рубахе, из-под нее выбилась, болталась ладанка. Ухватившись руками, он искал упора ступнями босых ног и лез все выше, с ножом за поясом. Чтобы достать его стрелой, лучникам пришлось бы высунуться под казацкие пули. Но татары скатывали камни, они, пыля, пролетали вокруг него; каждый миг он мог сорваться…
Тучный колосс, дернув круглой головой, вдруг вскочил с места и устремился к крепостной горе.
Он полез, не обращая внимания на камни и стрелы, быстро, далеко, по-обезьяньи выкидывая руки. А тем временем худощавый молодой казак последним рывком вынес свое легкое тело на край крутизны, волосы его вспыхнули на солнце, все лицо, мгновенно озаренное, стало ясно видно, и вдруг он плашмя вскинул ладонь, словно защищаясь от яркого света, – и начал валиться навзничь.
Он упал с высоты в два человеческих роста. Как отыскал великан точку опоры на крутизне, как выдержала даже его чудовищная сила?
Баглай крепко обхватил Ильина и, смотря в закатившиеся его глаза, бормотал:
– Ничего… Ты чего? Ничего…
Пуля пробила шатер Кучума. Хан вскочил с проклятием. Сухая кисть его, похожая на лапу хищной птицы, легла на плечо поспешно вбежавшего в шатер воина.
– Махмет-Кул?!
У вестника перехватило дыхание. Он пролепетал, что Махмет-Кул ранен и ближние телохранители едва успели увезти его за реку.
Хан вышел из шатра. Он услышал лошадиный визг, и грохот арб, и рев, подымающийся из-под земли за насыпью, и странный мгновенный тонкий присвист – будто птичий писк. Что-то глухо ударило на валу, удар был мягок, но тотчас сотряслось все, и комья земли больно осыпали хана, а пыль запорошила ему глаза.
Он яростно вглядывался. Он различил у насыпи лучников. Они стояли на одном колене, руки их непрерывно шевелились, и туловища качались: то отваливались назад, то наклонялись вперед. К насыпи и от насыпи все время двигались согнутые люди; воины что-то равномерно подымали с земли.
Хан знал, что воины подымают и сбрасывают камни. И, оттолкнув двух мурз, раболепно моливших его вернуться, он быстрыми шагами пошел к насыпи и стал там во весь рост, среди согнутых людей и внезапно участившегося присвистывания и птичьего писка.
Рев, близкий, подземный, там, за насыпью, не стихал. Вдруг выдалась над ней голова. Маленькая, острая, бледнолицая, со спутанными желтыми, непокрытыми волосами, – она показалась хану невыразимо омерзительной. Он хрипло вскрикнул и прыгнул вперед, и схватился за кривую саблю, чтобы заткнуть рот этой голове, открытый, точно из него и вылетал страшный подземный рев. Десять клинков протянулось, чтобы защитить и опередить хана, и дерзкий провалился за насыпь.
Но, значит, уж и тут, у самого ханского шатра, мог появиться казак! Множество рук оттащило Кучума от края…
– Пора уходить, хан! Жизнь твоя драгоценна… Яскальбинские князья открыли путь врагу. Крепость твоя – уже как остров посреди бушующего Иртыша.
Он отряхнул удерживающих его.
– Здесь стою. У меня остались воины. Пока я тут, не посмеет враг двинуться на Кашлык: в спину ударю, уничтожу!
Так все еще неприступным простоял до ночи последний оплот Кучума – Чувашское укрепление.
Но ночью туралинцы, люди из Барабы, коурдаки и аялинцы покинули хана.
Двадцать пятого октября хан велел столкнуть в Иртыш две бесполезные пушки, привезенные некогда из Казани. И когда они ухнули в реку, хан, покачиваясь, закрыл глаза.
Потом вскочил на коня, и конь, знавший дорогу, сам принес его в Кашлык.
Ночь была холодна, промозглый туман наполз из Иртыша.
Тяжело ступая, прошел Ермак по кровавому полю.
Кругом перекликались голоса. Казаки искали товарищей. Раненых разбирали по сотням.
Сбитые в кучу, сидели и лежали пленники, загнанные в котловину. Их стерег караул.
Ермак остановился, опершись на саблю.
– Уланы, – злобно сказал Гроза, указывая на пленных.
Ермак ладонью рубанул воздух.
– Головы долой!
Тихий молитвенный вой раздался в котловине.
Он пошел не оглядываясь, запахнув зипун.
Земля всхлипывала под ногами.
Тела валялись на топком прибрежье, на береговых обрывах, во рвах, на валах и в засеках, которыми усилил Кучум Чувашское укрепление. Сладковатый, едкий пар подымался от почвы.
– Три дня всему войску работать, закапывать, – сказал Мещеряк.
Ермак качнул головой:
– В Иртыш.
– Юшланы, рухлядишку поснимать, – сказал Мещеряк. Он стал высчитывать, сколько сайдаков, панцирей, хоросанских клинков досталось казакам.
В Кашлыке Кучум взял кое-что из своих сокровищ и с близкими своими бежал в Ишимские степи[33]33
на берегах Иртыша долго жило предание о зарытых сокровищах – Кучумовых кладах; в 1941 году мне пересказывали в Тобольске это предание: из колодца в овраге Сибирки есть ход в подземелье, у входа там стоит вороной конь в золотой сбруе
[Закрыть].
Так совершилось событие, о котором в Кунгурской летописи, написанной простыми казацкими словами, сказано: Ермак сбил с куреня царя Кучума.
ГОРОД СИБИРЬ Двадцать шестого октября 1582 года казаки подошли к Кашлыку.
День был на исходе.
Гора вздувалась глиняными голыми склонами за отвесными рвами, за сумрачным ущельем, где катилась Сибирка. Ключи были на дне ущелья; вода сочилась под сорокасаженным срезом, которым гора обрывалась к Иртышу. Но только жесткий кустарник щетинился во впадинах да местами по крутизне тянулись рыжеватые полосы, похожие на ржавчину или на запекшуюся кровь. Выше земля была разбита в пыль и усыпана золой. Там было жилье.
Виднелись стены из обожженного кирпича. Дома из еловых бревен поднимали шатровые крыши над глиняными лачугами.
Казаки посовещались и подождали немного, они опасались засады. Не верили, что Кучум оставил это место, огражденное Иртышом, крутыми обрывами, стеной и валами.
Столица лежала мертвой кучей, наваленной на темя горы и языками сползавшей к ее подножью.
Казаки перелезли через один вал и увидели за рвом еще больший. Позади него, опять за рвом, был третий, самый высокий.
Город стоял пустым. Все его полукочевое население бежало.
И тогда казаки поняли меру своей победы у Чувашева мыса. Они взобрались по извилистой крутой улице. Запах навоза, отбросов многолетнего человеческого обиталища застоялся в ней. Казаки входили в столицу стройно, по сотням, со знаменами и трубачами.
Ермак сразу выставил крепкие караулы у ворот.
С вершины горы он оглядел окрестность.
– Тут устроимся, – сказал он.
Широко и просторно было вокруг. Седая грива Иртыша у береговых излучин, пустынный лес в далях и стаи воронья над водой, на западе, там, где черным горбом выдавался берег…
В распахнутых жильях осталась утварь, пестрый и рваный хлам, сбитые из досок и подвешенные к потолку зыбки. В ямах-погребах – нарезанная ремнями вяленая конина, бараний жир, уже прокисшее кобылье молоко, ячмень, полба и мед. А в домах побогаче казаки нашли пологи и шитые серебром ткани, брошенные халаты и шапки и даже мечи с насеченными стихами корана. Три дня казаки считали добычу. На четвертый пришел остяцкий князь Бояр с низовьев Иртыша. Он пал на землю и прижал к ней моржовую седую бородку, выставив бурую, старческую, в морщинах, шею в знак того, что казацкий атаман волен срубить его повинную голову.
Бояр знал этот покой в цветном войлоке и коврах и то возвышенное над полом место, пред которым он простерся. То было седалище Кучума. Но с Бояром теперь случилось то, чего никогда не случалось с ним в этом покое. Человек, сидевший на ханском месте, поднял Бояра и посадил рядом с собой. Он угостил и обласкал его. И, понемногу оправившись от страха, остяцкий князь рассказал Ермаку все, что знал – о беглом хане Кучуме, о ясачных людях, о делах в своем городке и в других, соседних, княжествах. И поклялся страшными клятвами пребывать в верности и платить исправно дань. Сам он и многие другие разнесли по улусам слух об этом милостивом приеме. К воротам Кашлыка стали возвращаться бежавшие татары. Жители окрестных улусов приходили со своими старшинами. Они били себя в бороды. Женщины с пищавшими ребятами стояли у повозок, нагруженных пестрой рванью. Они знали, что надо платить победителю. Но та дань, которую потребовал от них страшный казацкий атаман, показалась им теперь малой и легкой. Он брал по счету: "с дыма и с лука". Иных, покорных, князьков прикармливал, другим, самым гордым, отъевшимся у ног хана, грозил – и тем уж ни беглый хан, ни шайтан, ни сам Аллах не могли помочь.
Простой народ казаки встречали приветливо:
– Живите мирно, где жили. Пастухам и ковачам железа будет крепкая защита. Живите за казацкой рукой! Хана и мурз его не опасайтесь. Честным гостям-купцам – настежь ворота, вольный торг.
И многие люди в селеньях почувствовали, что грозная сила русского атамана теперь обернулась на их сторону, – чудесно-непобедимая, она стала за них – против недавно еще всемогущего хана. А почувствовав это, не пожелали поворота к старому.
Так, по-хозяйски, устраивался Ермак на своих новых землях.
Выбрали места для рыбных промыслов. Ставили амбары и сушильни. В кузнях засипели мехи. По сотням выкликнули мастеров, – они принялись жечь уголь, искать – на цвет и запах – серный и селитренный камень для порохового зелья.
Еще одним удивил Ермак покоренный им люд: он звал к себе на службу иртышских татар.
И уже татары из Кашлыка и ближних городков рубили лес, тесали бревна, строили новые крепкие стены вокруг бывшей ханской столицы – взамен старых, почернелых, вросших в землю…
Ермак сказал, как о самом обычном деле:
– Пашни бы присмотреть, посеять по весне овес, ячмень, полбу, а по осени – и ржицу.
На площади перед частоколом ханского жилья (эту площадь казаки назвали майданом, как на Дону) Ермак приметил широкоплечего казака с сивой бородой лопатой.
– Заходи, – позвал его атаман.
Был то тихий казак, со многими рубцами на теле, который за двадцать лет повольной жизни так и не мог забыть крестьянства.
Просидел он у атамана недолго, а на другой день встал до свету, препоясался лыком, обмел снег с порога и пошел по улице.
Спускалась она, вся чистая, снег поскрипывал под ногами. Чуть туманно, безветренно. Казак глянул вдоль глиняных запорошенных юрт – Вышло на улицу солнышко ясное, Солнышко ясное, небушко тихое…
Старый казак Котин шел и пел обрывки того, что, сам не ведая, хранил в себе с далекого своего детства.
Кудрявились дымки, пахло хлебом.
Котин мерил шагами пустоши за Кашлыком. Ему виделось, как пустоши эти становятся полями и расстилаются поля – глазом не окинешь. В дождь растут хлеба, поднимаются, в вёдро наливаются зерна в колосья.
И глаза казака светились.
В этот день в юрте Бурнашки Баглая в первый раз очнулся Гаврила Ильин. Долго не закрывалась рана в его груди; он то лежал в тяжком забытьи, то метался в горячечном бреду; жизнь и смерть спорили в нем.
Дни и ночи, без сна, сидел около него великан. Он никому не позволял подолгу быть возле Ильина, выслал вон пятидесятника, явившегося от атамана, и самому атаману, когда тот зашел и замешкался в юрте, указал: "Иди, батька, пора". Огромной своей рукой он удерживал раненного, когда тот начинал биться и метаться; после укутывал его зипуном и овчиной. Со дна своего мешка доставал какие-то травы, собранные то ли на Волге, то ли еще на Дону, сухие, истертые в порошок; распаривал их в воде, прикладывал к ране, поил отваром. И когда восковое лицо Ильина покрылось смертной истомой, Баглай отирал ему лоб и струйку пенистой крови в уголке губ и, покачиваясь, кивал сам себе, бормотал, что-то неведомо кому рассказывая, и тонким голосом запевал диковатые песни без начала и конца.
И выходил того, кому, казалось, не жить.
Ильин проснулся, как бывало, в детстве после ночи со страшными снами. Миновавшая ночь казалась ему короткой. И он увидел белый поворот дороги и теплый, летний, насквозь озаренный солнцем подъем улицы, – там была мягкая, нагретая пыль и кусты татарника, и оттуда открывалось, – он знал это, – широким полукругом синее сверканье реки. И огромная, такая же, как вчера, но вечно новая жизнь, – жизнь, горящая и зовущая золотом неведомого счастья в степях за Доном, – стояла на дороге.
Счастье сразу нахлынуло на него. Он потянулся, еще в полудреме, с куги, где спал, к месту матери, которая, он слышал, за дверями ломала хворост и готовила кизяк для очага.
Вот она закончила свое дело и пар заклубился в дверях, и в клубах пара вошел с охапкой дров, щепы и сушняка громадный человек. И то ли заиндевели его волосы, то ли чернь их смешалась с сединой. В дверь увидел Ильин, что белизна улицы была от снега, а глина слепых юрт и заборов холодна; и была огромная незнакомая пустота за тем местом, где будто обрывалась улица. И он понял, что это не Дон, а Иртыш, и это и было то самое, куда звало его золотое горенье в задонских степях, то самое, куда он ехал и шел по дорогам своей жизни, плыл, ни к какому берегу не приставая, – и вот доехал, и больше ехать некуда.
Он сразу охватил это сознанием, но подробности еще были темны ему, и теперь он, точно явившись откуда-то издалека, точно наверстывая что-то, жадно с каждым мгновением впитывал эту новую жизнь; песня же радости не смолкала в нем.
Он хотел спрашивать, говорить.
– Кашлык?
Он подивился, что выговорил только одно слово, да и оно с таким трудом далось ему.
– Вот поспал, – сказал Бурнашка. – Чисто как я; так я-то хоть после дувана. Ты ж дуван царства Сибирского проспал. Молчи, меня слушай. Что надо – скажу, чего не скажу – знать тебе нечего.
На другой день Гаврила встал. Хотел выйти.
– Ветром сдует! – прикрикнул Баглай.
На третий день доковылял до улицы, прислонился к глиняному забору и с радостным удивлением смотрел, как толкутся неизвестно откуда взявшиеся крошечные мошки, вспыхивая против солнца.
Рядом был просторный двор юрты войскового казначея Мещеряка. Он сам стоял во дворе, в татарской распахнутой шубе. Перед ним сидел Брязга, держа между колен обеими руками рукоять длинной сабли.
Атаман Матвей руки сунул за кушак, ногу заложил за ногу – хером и, стоя в этой затейливой позе, отчитывал пятидесятника.
– Голубь ты. Голубиная твоя душа, – услышал Ильин.
Брязга открыл и закрыл рот – точно словил муху.
– Городим тын, держась за алтын, – продолжал Мещеряк, глядя сверху вниз немигающими бледно-голубыми глазами. – А бирюк ходит за Иртышом.
Брязга ответил:
– На бирюка есть огненный бой.
– Мужики таганками селитру с серкой таскают – волку клыки окуривать? Да лих: еще на мышиную отраву достанет ли?
– Ну, – сказал Брязга, – батька не крив.
Мещеряк пропустил это мимо ушей, с издевкой проговорил:
– Царевать приобыкли. Мягко да лестно. Здрав будь, царюй; сладкоречием сыт, а под горбок – мужицкую сошку!
Разговора Ильин не понял – слишком светло и радостно было у него на душе, – но, вернувшись, пересказал Баглаю. Великан сморщился, закрутил головой, что-то забормотал сердито, недовольно двигая ноздрями.
А про "бирюка" и в самом деле забыли. Казаки ездили по татарским селениям. Там завелись у них кунаки и побратимы.
Перед Николой Зимним двадцать казаков отправились ловить рыбу подо льдом в Абалацком озере. Пала ночь, рыболовы уснули у горячей золы костра. Был Абалак любимым Кучумовым городком.
Ночью вышел из лесу таившийся весь день Махмет-Кул. Татары перерезали сонных. Только один казак не дался ножу – отбился и в ту же ночь прибежал в Кашлык, к Ермаку.
Празднично было в городе, там готовились встречать день казацкого покровителя. Никто не ждал черной чести.
С проклятиями поднял Кольцо людей, как были в праздничных кафтанах – вскакивали они в седла.
– Сам, – сурово сказал Ермак и сел на коня.
Низко пригнувшись под хлеставшими ветками, летела казачья лава. Пар поднимался от конских крупов.
У Шамшинских юрт казаки настигли шайку Махмет-Кула.
Только немногие татары ушли живыми, но с ними – Махмет-Кул.
На обратном пути Ермак подъехал к Абалацкому озеру. Рядком, как спали, лежали зарезанные казаки. Кто спал на левом боку, не успел перевернуться на правый. Только голова, чуть тронь ее, откатывалась от тела.
И Ермак похоронил мертвецов на высоком Саусканском мысу, среди ханских могил.
Еще двое князей явились с повинной. Ишбердей из-за Яскальбинских болот и Суклем с речки, павшей в Иртыш ниже Тобола. Княжеские нарты с добровольным ясаком стояли у ворот Кашлыка.
Ермак принял князей так же, как Бояра. В их честь трубили трубачи и стрелки палили из пищалей. Атаман богато одарил обоих князей, и не видно было по его лицу, что только что отошла кровавая ночь у Абалацкого озера. – Служить буду тебе, – сказал Ишбердей. И назвал Ермака: – Рус-хан.
– Служи. Верно служи, – ответил Ермак и нахмурился, повысил голос: – А я не хан и не царь. Царь на Руси – Иван Васильевич, государь московский.
Узкий след прочерчивали на снегу лыжи и нарты.
Казаки в волчьих шубах длинной плетью погоняли упряжных собак. Ели конину, в земляных городках пили травяные настои, прокисшее запененное молоко и мед.
Волжская песня будила дремучую тайгу.
Люди были бесстрашны и, казалось, не знали устали.
Пятьдесят, тридцать, а то и двадцать человек приводили в покорность целые княжества. Товарищи-побратимы чуть не сам-друг пускались в нехоженные места и открывали новые земли.
Страна сбрасывала ханскую власть, как ветхую одежду с плеч долой.
А Ермак, устраивая Сибирскую землю, уже звал грамотками к себе на торг бухарских и русских купцов.
Старая, торная дорога из Бухары в Кашлык – пусть не заносит ее снегом, пусть бурьяном не зарастет она. И пусть лягут новые дороги – с Руси в город Сибирь.
На великом перепутьи станет этот город. И в нем – встреча гостей московских с гостями из Бухары, несчетно богатой.
Но еще задолго до весеннего разлива вод, всего через месяц с небольшим после занятия Кашлыка, когда ни облачка не омрачало казачьей удачи и победы, – разве только ночная резня под Абалаком, – в счастливом декабре 1582 года Ермак спросил атаманов, как они мыслят: слать ли послов сейчас или обождать?
Долгое молчание было ему ответом. Они сидели все вместе – шестеро атаманов и с ними Брязга. Они сидели у деревянного дома на юру, в темени горы. Отсюда был виден Иртыш в сизоватом льду. За рекой, широко сверкая на зимнем солнце, открывалась окрестность с лесками у берега, похожими отсюда на камыши, и черными борами на белых полях до самого неба.
Атаманы молчали. Ермак не торопил ответа. Кое-кто курил. Другие сидели, откинувшись, расстегнув ворот.
Был мир и ясный свет кругом с чуть вплетающимися золотыми нитями того поворотного часа, когда день начинает неумолимо склоняться к вечеру.
За муравьиной кучей города не видно холма по ту сторону оврага, за Сибиркой. А там, на оголенном погосте, с которого ветер выдул снег, все прибавлялось крестов, сбитых из жердей, – сверху две дощечки, сходившиеся острой крышей. А в закромах убывало пороху и свинца. За каймой лесов, в южных степях, залечивал раны Кучум и Махмет-Кул. Там стрела, призыв к священной войне, летела от кочевья к кочевью.
Сколько пути отсюда до сердца далекой Руси? И сколько обратного пути – не для казачьих гонцов, а для медлительного тяжеловесного стрелецкого ополчения?
Михайлов прикинул все это и спросил коротко:
– На год вперед считаешь?
Кольцо ожесточенно поежился.
– Матвейки Мещеряка отходная…
А Мещеряка будто ничего не касалось. На атаманских собраниях сидел брезгливый и полусонный. Сейчас он только чуть шевельнул глазом на красном, как сырое мясо, лице.
Ермак чертил прутиком по земле. Опять спросил, не подымая головы:
– Так что, браты-товарищи? Как мыслите?
Брязга вдруг сорвался с места.
– А так мыслю, братушка, что не пожили вольной волею. И не попробовали…
– Та ни, ноздрею нюхнули, – с усмешкой вставил Пан.
Брязга дернул шрамами на лбу, на щеках.
– И чего шли – с Дона слетели, с Волги слетели; со всей Руси слетели! И где же те казаки-товарищи, два ста, почитай, побитых?
Костлявое лицо Грозы с широко расставленными глазницами медленно багровело. Он несколько раз втянул воздух, будто порываясь что-то выговорить, то было для него тяжким трудом. Он выдавил наконец:
– Строгановым Сибирь… купцам, значит.
Невнятно буркнул яростное ругательство и снова посерела кожа на его лице.
– Строгановым? – с угрозой повторил Ермак, но тотчас сдержался. Сказал мягко: – Ты, Яков, что сосчитал?
Он все чертил прутиком.
Ровно, спокойно, обстоятельно объявил Михайлов:
– Счет мой нехитрый. Торопишься. И перезимуем, и перелетуем еще. На досуге и обдумаем. Прикинем так, прикинем и этак – как способней, так и отрежем. Сгоряча горшков наколотишь… А Мещеряк, курицына мать, хозяин скаредный. Ему все – ой-ой-ой мало, рундуки пусты, подавай еще!
– Ты про меня? – отозвался Мещеряк. – Это на себя погляди.
И замолк.
Ермак выслушал молча. Он знал, что не для того Мещеряк по пальцам расчел оскудение казачьих припасов, чтобы он, войсковой атаман, так поворотил судьбу войска.
– А я тебе, батька, что скажу: скор ты и забывчив.
Это уже корил Иван Кольцо. Атаман Ермак вскинул голову. Нет, не забыл он тех двух слов, – "казачье царство", – которые некогда произнес первым, а теперь умолчал о них, когда плод всей его жизни созрел настолько, что пришла пора от него отказаться!
Мысли, давние, смутные для него самого, тяжело вращались, но больше он не отпускал их от себя неузнанными, он смотрел им в лицо, и наконец они прояснились. "Что мимоходом урвали…" Тот, кто этого ищет, пройдет по земле бесследно, как вихрь. Вихрем бы и развеяло золу сожженных казачьих хижин, славу недолгого казачьего царства в Сибири.
Он отшвырнул прут.
– Хоть день, да наш? Казакам не детей качать, пожили – и чертополох на могилах?
Примирительно вступился Михайлов:
– Да кто про это! Не за то головы клали, путь небывалый с Дону прошли. А думать надо. Не смаху. Рассудить надо, как крепче стоять.
– Вот и рассудим, – опять остыв, согласился Ермак. – Рассудим. Посидим, браты.
Он замолк. Все молчали, ждали.
– Думаю так, браты-атаманы. Ты, Богдан, коренной донской. Грозой тебя, Иван, прозвали под Перекопом; а притопал ты откудова? С Мурома, глядь. Матвей – из боров заокских аль с речки Казанки, а то с пустоземья северного – под сполохами повит: сам-то молчит, свое бережет пуще войсковой казны. Колечко по всей по матушке Волге каталось. Никита… Век свой, думаю я, браты, век свой походи, а не исходишь один тех мест…
– Всех, бурмакан аркан, перебери, чего уж, – проворчал Кольцо.
Ермак как бы вглядывался во что-то внутри себя.
– А сошлись мы, атаманы, вместе. Речь у всех одна. Попы в купель одинако окунали. Сошлись все – в одну силу сложились. Людей же в войске нашем шесть сотен было, как с Камы тронулись. Половины нет, браты-товарищи. Силы той достало Кучума повоевать. Да что ж хвалиться? Русь воевала Мамая, салтана турецкого, Литву, ляхов, ливонцев воюет – не чета Кучуму… Поминки, ясак собираем ноне, – вам, что ль, кланяются князья да мурзы? Аль мне? Нам поклонились – да завтра подмяли. Руси-царству кланяются – при дедах их, помнят, стояло и при внуках стоять будет. Нет ей, крови русской, переводу…
– А мы, – бухнул Гроза, – сами русские и есть.
Брязга пожаловался, скосив глаза:
– Словечка родного другой год не слышим!..
У Кольца блеснули ровные зубы.
– А мы клич кликнем. Бирючей разошлем: мужиков, мол, да баб поболе – на простор зовем.
– Новый народ зачинать? – перебил Ермак. – Песен из Москвы привезть – вторую Русь ставить? Дороша одолели, Строгановых с себя стряхнули, – ту, что породила, не стряхнешь. – Он досадливо, нетерпеливо, поморщился. – Языки чесать собрались, что ли!
Снова не спеша заговорил Михайлов:
– Сибирь взяли, а поднять не подымем, – то дело ясное. Да чело нешто свербит, что бить челом собрался уж нынче? Обождем, говорю. Обдумаемся – как ловчей мосток через Камень перекинуть.
– Не шутейное дело, – Ермак топнул ногой, – на крови нашей оно! Сделали его своими руками – девки мы, что ли, теперь глаза долу опускать? Коль сами молчите, я скажу, атаманы, чье дело: не донское, не волжское, не строгановское – вона как повернуло, слепой видит. Шли на простор и отворили простор. И щитом Русь защитили со всхода солнечного. Ждать, Яков? На год загадал? Народ-то, землю не переждешь.
Ясней, ясней смутные мысли. Годами меряется жизнь одного человека – втуне она, как не была, если не останется ее дело, чтобы расти – сквозь годы. Немерянная, темная даль грядущих лет!
– Таиться нам нечего. Не позор, не стыдобушка перед всем казачеством, пред народом то, что добыли мы. Красно оно, говорю! Полцарства прирастили мукой своей, кровью, мечом своим. А пить захотели – чего сухим ковш держать? С озера великого чем скорей воды зачерпнем, тем здравей будем. Сидели, думали атаманы.
– Вины-то пред царем выслужили, что правда, то правда, – опять первый начал прикидывать вслух Михайлов. – Про старые дрожди не поминают двожды. Кольцо сказал:








