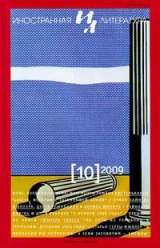
Текст книги "Башня. Истории с затонувшей земли. (Отрывки из романа) (ЛП)"
Автор книги: Уве Телькамп
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
(Барсано) «Маму вызвали на допрос. Следователь грозил ей палкой. Другой ругался. Свинскими, грубыми ругательствами. Русский язык на ругательства очень богат. Мама спросила, не в гестапо ли она попала. Оба следователя опять принялись ее оскорблять. Тогда она встала и сказала: вы, товарищи, не служили в армии, не воевали. Я вам покажу, как правильно ругаться».
(Эшшлорак) «…итак: время. Время, Роде, это и есть дьявол, потому что оно – орудие изменения… Клейкая лента, к которой мы липнем, как мухи… Потому-то именно мы живем в богоугодном государстве: потому что поставили себе цель – упразднить время. Горе, если мы потерпим неудачу… Я уже вижу зарю новой эпохи Настоящего, когда всякое изменение будет состоять в вечном повторении того же самого и когда дьявол погрузится в повседневность: уже не обеспечение изменений будет его делом, а – застой, единообразие, мельница, которая превращает все великие (или задуманные как великие) камни в пыль на дорогах вечно неизменного Настоящего…»
(Барсано) «Оба следователя так удивились, что ругательства свои прекратили. Зато они начали расспрашивать маму об интимных сторонах ее жизни, со всеми подробностями, хотя к обвинению это отношения не имело, но они хотели узнать все – и непременно в моем присутствии».
(Эшшлорак) «…это будет значить, что Бог стал дьяволом, слился с ним, Бог и есть дьявол».
Порядок и безопасность.
Но эта бумага, пестро-цирковая, этот асимметричный снегопад бумажных клочков… Мено пробирался к входу на вокзал, крепко сжимая ручку чемодана и билет на поезд; долг призывал его ехать в Берлин, но ему не хотелось: здесь происходило нечто, не имеющее отношения к привычным играм в тезис-и-антитезис, не имеющее отношения даже к привычным ответам. Луиза, его безрассудно-смелая мать, наверно, сказала бы: ты очень многим рискуешь, если не останешься сейчас здесь. Шумы в зале ожидания: как в гроте, со слабыми бесцельными отголосками. Проникновение Внешнего мира в его слух: воспринятые чисто акустически, еще не отфильтрованные голоса и шумы накатывали на барабанную перепонку, бушевали, заставляя вибрировать молоточек, наковальню, стремечко: сигналы морзе для эндолимфы, защищенной перепончатым лабиринтом и барабанной лестницей? Город был Ухом, вокзал же помещался в Улитковом протоке: Helix, звуковые колебания, шумовые частицы; они хаотически перемещаются в разных направлениях, сталкиваются, некоторые – не больше пылинки, едва-едва задевающие порог акустического восприятия, другие – с силой ударяющиеся об него: амплитуды государственной власти. Перебираемые Золушкой горошины, потом – шлепающиеся капли, потом – стеклянные градины, словно на фабрике детских мраморных шариков отодвинули заслонку и готовые шарики густо посыпались в контейнер; между тем уже выявился базовый ритм: бам-бамм! бам-бамм! – грубо-солдафонская напыщенная театральщина, мертвого Зигфрида везут в лодке по Рейну, – может, полицейских специально так обучили… или это вышло случайно. (Но бывают ли случайности в форме, подумал Мено, – в нашей стране?) «Силы особого назначения». (Против скопища человеческих слабостей.) Полицейские сбивали людей в испуганные отары и вытесняли с вокзала, размахивая дубинками, а себя защищая пластмассовыми щитами. Мено оказался вовлеченным в это движение. Выходы выблевывали бегущих, но одновременно, подобно тому как кит (настоянная пищеварительная фабрика) всасывает планктон, всасывали все новых любопытных: невидимая часть этой биомассы формировалась, похоже, на Пражской улице, из веслоногих, которые, преодолев сперва трамвайные рельсы на Венской площади, затем устремлялись к северному фасаду вокзала. Две силы; под надписью «Пиво Радебергер» (сейчас, в это голубино-сизое утро, она казалась немой и безотрадной) силы столкнулись, образовав буферную зону мельтешащих тел, жестикуляции и архаического страха-блаженства, образовав кольцо (успокоительное, как ни странно, и разбухавшее наподобие теста) с шероховато-колючими краями разрывов – там, где между двумя сталкивающимися клиньями, под воздействием силы удара тут же притупляющими друг друга, как бы лопались швы: Мено видел все это в разрозненные мгновения галюцинаторной зоркости, но такие моменты не имели ничего общего с его усилием удержаться на плаву в водовороте всеобщего опьянения; не имели ничего общего с железнодорожным билетом, воплощением смутного обещания, который, словно смертельно испуганная рыба, трепыхался в его руке, ни на секунду не ослаблявшей хватку; они не имели ничего общего и с мелькнувшей вдруг мыслью, что он, пожалуй, уже не хочет ехать в Берлин, а хочет остаться здесь, уступив своим авантюрным наклонностям. Я останусь здесь. Я хочу посмотреть. Я хочу (собственными глазами) увидеть, что здесь происходит.
Любопытство? Или молчавший до сих пор материнский ген, который теперь начал робко подмигивать на партизанском горизонте Роде, желая проявить себя в чем-то конкретном? Парящие в воздухе, хрусткие, сталкивающиеся, скомканные – гневом или радостью – обрывки бумаги… Люди просачивались к проходам. Внезапно крики: поезд! поезд! И – целые косяки отчаянно заработавших руками пловцов. Поезд, мол, уже подошел. Да где же он?! Где? Поезд! Тот, долгожданный, из Праги; который вывезет нас на свободу. Поезд. Свобода! – крикнули сразу многие голоса в лицо надвигающейся турбине защитного цвета, которая в ответ плотоядно и опасно взревела. Резиновые дубинки уже скандировали свое: проваливайте! проваливайте! Поезда все не было. Люди сразу отхлынули назад, снова заняли выжидательную позицию; среди них много болезненно-настороженных, много – впавших в ярость, еще больше – обессиленных и разочарованных; все, чтобы передохнуть, опустили рюкзаки и сумки на густо усеянные бумажками перроны. Поезд так и не подошел.
Из Берлина названивали в Дрезден. На окружном уровне – ректорам высших учебных заведений, главврачам городских больниц, в городской Центр хранения и распределения препаратов крови. Руководство этого Центра звонило, в свою очередь, на донорские станции. Там новые указания, так сказать, повисали в воздухе – принимались к сведению и замалчивались. Увеличить производство консервированной плазмы – за счет чего бы это? Пустые слова… В паузах между операциями Рихард прохаживался по клинике, что помогало ему не утратить контроля над противоречивыми впечатлениями. Он спускался в подвал, где сестры, санитары и врачи курили, шепотом обмениваясь слухами по поводу беспорядков на вокзале, по поводу ситуации в Праге. Потом выходил на воздух, в парк с его монастырской, осенней атмосферой, к фонтанным статуям, которым скульптор сумел придать особую привлекательность, что, вероятно, стоило большого труда, ибо она, эта привлекательность, была какой-то потусторонней и вместе с тем – не лживой. Никакой дешевой красивости; просто казалось, что фигуры хорошо себя чувствуют, и, вероятно, добиться такого было труднее всего. Привлекательность заблудившихся… Кристиан недавно написал: «Что я должен делать, если получу сам знаешь какой приказ? Ты всегда хотел воспитать в нас прямодушие, однако сам лгал. Твои речи в защиту лицемерия, тогда, перед 'Фельсенбургом' (они были достаточно громкими; может, мы, мальчики, нарочно тогда расшумелись, чтобы не слышать такого), и урок, который по твоей просьбе преподал нам актер Орре, и твои советы, твои упреки, когда ты навещал меня в лагере военной подготовки{120}120
Военный лагерь – в ГДР место обязательных двухнедельных военных сборов для мальчиков, учащихся девятых классов.
[Закрыть], – припоминаешь? Так что же мне делать? Наша казарма приведена в полную боевую готовность, все увольнения и отпуска отменены, телефонная связь теперь только внутренняя, газет мы больше не получаем. Если мне прикажут пустить в ход дубинку – что я должен делать? Это письмо я отдаю нашему повару – с надеждой, что оно дойдет до тебя и что твой ответ, если, конечно, ты пожелаешь ответить (или: если сможешь), тоже каким-то образом дойдет до меня». Рихард постоянно носил это письмо с собой. Никогда прежде Кристиан ему так не писал. Здесь он избегает слова «отец». А Анна? Рихард не показал ей письмо. Что же произошло, продолжало происходить с ним, с ними всеми? Все дело во времени, времени, шептали ветки деревьев, обремененные латунными листьями. Ветер пах углем.
Кто-то швырнул камень – сподручный, выбившийся из мостовой черно-белый кусок гранита; беззвучно-параболический полет камня стоило бы прокомментировать, как если бы речь шла о футбольном мяче, с помощью которого (как опытный репортер догадывается, когда игрок еще только берет разбег, чтобы нанести короткий взрывной удар) будет забит лучший гол года: тот гол потом проанализируют бессчетное число раз, отцы, которые сидели на стадионе, гордо покажут сыновьям фотографии в воскресных газетах (или и в этой стране когда-нибудь появится видео?); итак, Мено увидел, как камень полетел в фалангу прозрачных щитов, озерно отражавших по-больничному резкий неоновый свет, как он, вроде, должен был промазать, а кривая его траектории – затеряться в некоей заштрихованной зоне (вроде тех, что указываются на полетных картах); но потом оказалось, что нет, камень все-таки попал, тогда – редкий случай обратного отражения – линия его полета вспыхнула еще раз, тут будто курок щелкнул, с быстротой электрического механизма подтвердив совпадение мушки и целика:
и
окрики, свистящие дубинки, раскаленное добела алкание{121}121
«Раскаленное добела алкание» (helle Gier) – выражение из песни тирольского рыцаря и поэта Освальда фон Волькенштейна (ок. 1377-1445).
[Закрыть]. Загоняли толпу в котел, перемешивали ее, вбуравливались. Из Шандау – пешим ходом – вернулись тысячи: отчасти – потому что их прогнала полиция и прочие представители власти, отчасти же – просто из-за усталости от долгих мытарств вдоль железнодорожного полотна
и
зачинщики, на чьих лицах треснула корка повседневных шлаков, дав выход белому подспудному потоку ненависти-ненависти-ненависти: такие с хрустом выламывали доски строительных лесов, oтбивaли донышки бутылок, чтобы получить убийственно зазубренное орудие, мигом набирали полные руки булыжников и швыряли их в накатывающую волну стражей общественного порядка; щиты разбивались, забрала лопались, оконные стекла обрушивались, как сверкающие кулисы, дождь осколков, казалось, усеивал землю крупицами крупной соли, в ответ каждый раз раздавался рев многих голосов; Мено, прижатый к какому-то столбу, дрожал, не мог шевельнуться
и
все-таки они приблизились – подъехавшие на машинах спецназовцы, и полицейские заградительного отряда, и готовые к ударам резиновые дубинки, «Опишите-ка течку оленихи и ритуал встречи двух оленей-соперников», почему-то пронеслось в голове у Мено, чемодан был еще при нем, а вот билет – нет, только зажатый в кулаке клочок, сам билет кто-то вырвал из его руки
и
черные собаки, лающие, с таким розовым языком в бело-клыкастой слюнявой пасти, они рвались с поводков у собаководов, сотрясаемых силой черных собачьих ляжек; странная гравировка, оставленная когтями на гладком твердом полу вокзала: петли и завитки, может, цветы даже, «собачьи узоры», подумал Мено
и
дубинки замолотили, заморосили, засвистели – сверху вниз; грохот, как когда шарики каштанов падают на крыши припаркованных машин; искаженная реальность ответных криков; люди, упавшие, оказавшиеся под ногами других, вскинутые в самозащите руки – но дубинки уже лизнули, уже
страха и
крови и
крови и
вожделенья напробовались
и
там были туалеты, Мено побежал с другими, толпа, инстинктивно… искала возможностей… Туалет. Сводчатое помещение, голубой кафель, запах аммиака как боевой метательный диск рассек дыхание вторгнувшихся. Мено сразу рванулся назад: ловушка, ты отсюда не выберешься, ловушка, зачем же ты, а если они перекроют вход, – выбежал наружу, видел лица полицейских, офицеров за их спинами, властно протянутые руки с указующими перстами. Прочь, прочь с вокзала, прочь с этого вокзала. Капсулы со слезоточивым газом уже звякали об пол, люди побежали, сразу стала видна зияющая свободная зона, словно надрез, сделанный хирургическим скальпелем по тугой коже, – и тут заклубился дым. Водометные машины пробивали просеки в гигантском клубке (из бегущих и тех, кто наносил удары), превращали в жидкое месиво бумагу, оттесняя ее к краям платформ, где она громоздилась причудливыми слизистыми замками. Мено поднял голову, увидел видеокамеры, увидел разбитые информационные мониторы; вода капала с распорок, наполняла вокзал пеной и металлически поблескивающими лентами, в которые, словно под лупой времени, вплетали свой тканый узор кровяные нити.
– Бумага, —
писал Мено, —
– бумага, гора из бумаги —
Кристиан сидел в каптерке, от которой у него теперь был ключ, и с мычанием вгрызался зубами в свежую пачку солдатского белья. Порой ему казалось, он сходит с ума. Потому что он видел во сне только казарму, танки, переводы из одной роты в другую – тягучую, неприятную галиматью, которая когда-нибудь все же должна закончиться, и тогда он будет лежать ночами в своей постели, свободный, может, и «Комедийных гармонистов» слушать, с граммофона сестер Штенцель. Успокоившись, он прошел в казарменную библиотеку – гротескное место, охраняемое добродушной толстушкой в фартуке, как у его бабушки, и с вязаньем в руках (она вязала согревающие пояса для «молодых товарищей»). Белокурые деревья трепетали на казарменных улицах. Офицеры нервно приветствовали друг друга. Напряжение и страх – на всех лицах. Количество часов, отведенных на политзанятия, в последнее время удвоилось. Фразы, которым их там учили, слюною капали из ртов, покрывали землю незримой, но притягивающей пыль пленкой да так и лежали под слоем пыли – презренные, никем не принимаемые всерьез. Солдаты тренировались, работали с танками, вскоре должны были начаться осенние маневры. Кристиан считал часы, оставшиеся до дембеля. Иногда ему, уже отслужившему почти пять лет, казалось, будто он не выдержит немногих последних дней сидения взаперти; он забирался на крышу батальонного штаба – гудрон был еще по-летнему вязким, и между черными вытяжными трубами воздух сильно нагревался, – писал письма, которые один из младших поваров тайком выносил из казармы и бросал в гражданский почтовый ящик, или читал то, что присылал ему Мено (книги издательства «Реклам», томики советской прозы, публикуемые издательством «Гермес», которые удивительным образом изменились: теперь внезапно вынырнули откуда-то синие кони на красной траве{122}122
«Синие кони на красной траве» (1978) – пьеса Михаила Шатрова (р. 1932).
[Закрыть]). Большинство их солдат работало теперь в народном хозяйстве, на различных предприятиях Грюна. Сам Кристиан стоял у токарного станка, снимал металлическую стружку, он был помощником токаря. Всем солдатам хотелось домой, но утром 5 октября им раздали резиновые дубинки; Жиряк рассмеялся: «Втыкалки мы от рождения получили, а рукоятки к ним – только теперь!» Что Кристиан собирается делать, спросил он. Кристиан этого не знал. Он даже представить себе ничего такого не мог, да и не хотел представлять. Прибыли полицейские и стали на полковом футбольном поле обучать их разным приемам. Атака слева, атака справа. Распознавание зачинщиков, наступление на группу. Одно время поговаривали, что отряд Кристиана выступит с огнестрельным оружием. Отряд был сборным, пополнялся из еще оставшихся рот (весной 89-го, вроде бы, вышел приказ о сокращении армии): из Котбуса, Мариенберга, Гольдберга; потоки перемещающихся солдат, с лета 1989-го, ни для кого не оставались секретом. Бухарь радовался уже тому, что раздобыл для всех форму и продукты. Подъехали грузовики. Младшему повару разрешили еще раз выйти за казарменные ворота, он вернулся и пересказал слухи, касающиеся Грюна, где рабочие металлургического завода уже перешептывались о последних событиях, а также – Карл-Маркс-Штадта, Лейпцига и Дрездена. Вечером приказ: «По машинам! Без стрелкового оружия. Резиновые дубинки, летняя полевая форма, защитные жилеты, дополнительный рацион – алкоголь и сигареты на каждого». Солдаты в основном молчали, уставяcь в пол. Жиряк курил.
– Тебе, небось, все до лампочки, – сказал сосед Кристиана.
– Поцелуй меня в задницу, – огрызнулся Жиряк. И высунул голову из-под брезента. – Ничего не видно, никаких дорожных щитов.
– Знать бы, куда нас везут, – вздохнул солдат помоложе, ему оставалось служить еще год.
– В Карл-Маркс-Штадт, – предположил сосед Кристиана. – По логике вещей. Тамошних среди нас раз-два и обчелся.
– Уже проехали, – возразил Жиряк.
– У тебя что, топографическая карта внутри? – спросил ефрейтор.
– Плюс спидометр.
– Тогда, значит, в Дрезден, – сказал молодой солдат.
– Перетасовать компашку голубых, мужики, – это я понимаю, – сказал ефрейтор. – Эй, Немо, в Дрездене много голубых? Думаю, их там хватает.
– Классовых врагов, – подсказал Жиряк, пока кто-то давал ему прикурить.
– Вы, значит, тоже верите тому, что нам говорят? Что там просто дебоширы и все в таком роде? Засланные с Запада, а еще контрреволюционные группы? – спросил молодой солдат.
– Может, ты тоже один из таких, а? Смотри у меня… – пригрозил ефрейтор. – Эй, Немо, ты что, язык проглотил?
– Да не цепляйся ты к нему, – как бы между прочим бросил Жиряк.
– Я не позволю, чтобы мне угрожали, и не позволю очернять государство, – сказал ефрейтор.
– Парень, из какого темного захолустья ты выскочил? – пробормотал сонный голос с места перед кабиной водителя.
– Ты, выходит, собрался их бить, – сказал Жиряк.
– Ясное дело, они же свиньи. Лучшего не заслуживают!
– Тогда я и тебя заодно припечатаю. Ты так хрюкаешь!
– Я, Кречмар, заявлю на тебя куда следует. Вы все слышали, что он сказал.
– Ни на кого ты не заявишь, – сказал Кристиан.
– Я тоже так думаю, – поддакнул Жиряк. – Здесь никто ничего не слышал. Ни-тче-во.
– В Дрездене, говорят, полицейского повесили.
– Детские сказки!
– Главный вокзал, говорят, закрыт. Выглядит хуже, чем после бомбардировки.
– А ты уши развесил! И веришь всему, что тебе втемяшивают! Этой дерьмовой лжи!
– Кто это сказал? Кто сейчас сказал про дерьмовую ложь?
– Но если так оно и есть?
– Да заткнитесь же наконец, – пробормотал сонный голос.
Солдаты молчали, курили, смотрели на номера автобусов, обгонявших их колонну.
Дрезден. Всем выйти из машины.
Они стояли на Пражской улице. Кристиан смотрел на уличные огни как на что-то чужое, незнакомое; он в этом городе родился, но, казалось, больше к нему не принадлежал, а все предметы, все здания, казалось, ожили: Круглый кинотеатр стыдливо прятал витрины с киноафишами, международные отели высокомерно не замечали солдат, дежурных полицейских, курсантов офицерских школ, которые строились перед своими бегающими взад-вперед офицерами, но сверх того получали наставления от каких-то начальников в штатском: крики, приказы, угрозы.
Действовать беспощадно.
Решительные меры.
Противник.
Контрреволюционная агрессия.
Защита рабоче-крестьянской родины.
Перед ними – устремляющиеся к вокзалу люди. Солдаты построились сотнями, образовали цепь, соединив руки. Кристиан оказался во втором ряду, рядом с Жиряком. Со стороны вокзала – глухой ритмический стук. «Впее-ред!» – гаркнули офицеры. Кристиан почувствовал, как колени у него подогнулись, то же ощущение, что при оглашении приговора в зале суда, сейчас бы убежать, сделать что-то, прекратить это безумие, повернуться и просто уйти, но ему было страшно, он видел, что и Жиряку страшно. Вокзал казался клокочущим, алчным шестереночным механизмом, освещенной глоткой, которая заглатывает шаги и выплевывает воду, пар, лихорадочное возбуждение. Туда? Туда он должен идти? Трамваи бессильно замерли, как косточки в набухающей фруктовой плоти, состоящей из человеческой массы. Один автомобиль уже опрокинули и подожгли, бутылки с «коктейлем Молотова» мелькали в воздухе, словно горящие пчелиные ульи, разбиваясь, они выпускали на волю мириады убийственно-раздраженных огненных жал. Солдаты остановились перед книжным магазином имени Генриха Манна, перегородили Пражскую улицу. Тут Кристиан и увидел Анну.
Она стояла в паре метров от магазина, окруженная группой людей, говорила что-то полицейскому. Полицейский поднял дубинку и ударил. Раз, второй. Анна упала. Полицейский наклонился и продолжал наносить удары. Пнул ее ногой. Немедленно получил подкрепление, как только кто-то из группы попытался его удержать. Анна, словно ребенок, заслонила лицо руками. Кристиан видел мать, как она лежит на земле и как полицейский ее топчет, бьет. Лампы скользнули куда-то мимо, ушли, будто ныряльщики под воду. Вокруг Кристиана образовалось пустое пространство, пропащая область тьмы, в которой сгинули все скопленные им ресурсы молчания, послушания, чувства самосохранения. Он сжал дубинку обеими руками и собрался уже кинуться на полицейского, бить его, пока не подохнет, но кто-то Кристиана удержал, кто-то обхватил его сзади, кто-то кричал: «Кристиан! Кристиан!», и Кристиан крикнул что-то в ответ, и взвыл, и задрыгал ногами, и от бессилия обоссался, на чем все и кончилось: в железной хватке Жиряка он обмяк, как молодой кобель, которому проломили затылок, они могут делать с ним что хотят, сам он уже ничего не хочет, разве что… оказаться в будущем, в далеком, как можно более далеком, он ничего не хотел, разве что… находиться не здесь, и Жиряк оттащил его назад, а Кристиан всхлипывал, Кристиан хотел умереть.
Он вернулся в казарму, где на следующий день его вызвал для разговора сотрудник, ведавший всеми запломбированными, зарешеченными дверями. Сотрудник долго изучал дело Кристиана, после чего положил голову на свои сплетенные пальцы, как на комфортную подставку для подбородка, пробубнил задумчивое «гм-гм».
Кристиан, еще прежде получивший от врача в медпункте успокоительный укол, сказал (вспомнив прощальные слова Корбиниана и Куртхена{123}123
Сокамерники Кристиана в следственной тюрьме, где он находился до начала судебного процесса.
[Закрыть]: «Даст Бог еще увидимся, отсюда тебе не выбраться, держись и прости, если что не так»): «Шведт», – он сказал это трезво, утвердительно.
Его визави встал, подошел к окну, почесал небритую щеку:
– Я еще не решил, что нам с вами делать. Но не думаю, что Шведт был бы разумной мерой. Нет. Я думаю, вы нуждаетесь в…
Кристиан равнодушно ждал, нервы его теперь мало на что реагировали.
– В отпуск, – сказал тот, другой. – Я вас отправлю в отпуск. Вам ведь совсем недолго осталось служить. Вот и съездите к своему дедушке в Шандау. Хотя с вас станется и там наделать глупостей… Так что лучше отправляйтесь-ка в Гласхютте. – Он вытащил из ящика увольнительную, подписал ее, поставил печать. – Не советую вам ехать через Дрезден. Есть прямой автобус от Грюна до Вальдбруна, а оттуда дорогу вы знаете.
Кристиан не мог заставить себя подняться. Увольнительная лежала перед ним на столе.
– Вы бы мне хоть спасибо сказали, товарищ капитан. Мы не совсем такие…
Улицы, по которым машины зарубежных делегаций будут приближаться к центру с его трибунами, и еще пустые проспекты, где вскоре пройдут демонстранты, тщательно подметены, дома – до максимальной высоты, видной из проезжающих мимо дипломатических машин, – заново оштукатурены и снабжены оптимистическими лозунгами. В окуляре – нервные клетки, ауратически вспыхивающие под воздействием психококтейлей, тропические растения распустились на берегах Шпрее, Дворец Республики весь заполонен притаившимися в засаде, красными, как мясо, цветами-паразитами; прочие нервные клетки, похоже, отключены: поскольку к ним не поступают ни питательные вещества, ни вещества-медиаторы, они постепенно атрофируются и, впав в своего рода ретро-эмбриональный ступор, в такте тикающих часов как бы замуровывают себя заживо, то есть слой за слоем наращивают вокруг своих клеточных мембран известковую кору. Сан мозг стар, это дряхлый мозг, и тонкие кровеносные сосуды, обеспечивающие его снабжение, лопаются подобно поверхности пирога из слоеного теста, как только исследовательский эндоскоп – ведь не один я нахожусь в пути, в Системе попадаются и другие недоверчивые сотрудники – начинает продвигаться внутри какого-нибудь изгиба; образуются склеротические бляшки, в результате – мастер Игольное ушко и затор, сквозь который пробиваются, доставляя кислород, лишь единичные красные кровяные тельца. Гала! Песочный человечек взлетает на вертолете. Суд Немецкой ассоциации игроков в скат, заштрихованный розовыми диаграммами нарастающих болевых ощущений, объявляет Grand ouvert; Карл-Эдуард фон Шницлер, боцман с Черного канала, чьи нелепые позывные, подходящие разве что для драмы из жизни вампиров, наполняют сейчас вестибюль Дворца Республики – этой лавки ламп, которая сегодня на иллюминацию не скупится, – уже превратился в корабельного древоточца, главный пропагандист заставил его изогнуться в гримасе ненависти и муки, и теперь можно видеть, как он ввинчивается в каюту «Почтового ящика желаний», где Ута Шорн и Герд Э. Шэфер, болтая за чашечкой кофе, обмениваются анекдотиками; но здесь он надолго не задерживается – как, впрочем, и у веселых «Парней в синем» из «Klock acht», поющих шанти под аккомпанемент судового рояля, и в «Klönsnack», и в «Godewind»; он пересекает зал, где разыгрывается «Ледовое шоу Кати», после чего исчезает в недрах буко-буквенного министерства, которое обосновалось в Центре Вернике, в акустико-речевом секторе, – и начинает вбуравливаться в трухлявую массу старых документов, вахтенных журналов. «Самбу танцуй со мной всю ночь! Самба заботы прогонит прочь» – доносится с Александерплац, и гости на государственном приеме теперь переходят к кулинарным удовольствиям: окорокам свинок из Виперсдорфа, выкормленных под тамошними оливковыми дубами, жаркому из дичи, куски которого красиво уложены между декоративно скрещенными охотничьими двустволками, позаимствованными из Музея огнестрельного оружия в Зуле, в дула двустволок вставлены пучки петрушки, и к этому подаются: коньяк марки «Гурман», лимонад для советской братской делегации, мейсенское вино, ананасы, а также все прочее, что советует попробовать телезрителям повар из кулинарной передачи
– Правда! Правда! – чирикнула птичка Миноль-Пироль. – Правда печатается там, в партийных газетах, в ЦЕНТРАЛЬНОМ ОРГАНЕ и в окружной прессе, вот видишь проводочки, тонкие как паутинка: дотронься до них, и зазвонит телефон, и отзовется какой-нибудь редактор, дрожащим голосом, потому что ты застукаешь его в час выпивки, которая происходит еженедельно по четвергам после заседания политбюро (по вторникам) и после совещания секретариата ЦК (по средам), так соединяйтесь же, главреды всех газет Медного острова, в чаще Медного леса, сиречь массовых организаций, соединяйтесь в кабинете у руководителя пресс-службы правительства, подключайте к этой машине, к этому аппарату и прочих функционеров: пуансон-речь раскатывает язык=lingua! автоматические руки в белых перчатках дергают за него, речевой пуансон работает, потом – пробный пуск! – что-то с дребезжанием падает на пол: шкурки слов, жестяные заголовки, извиваются бумажные змеи: ТОВАРИЩ, ВАЖНЕЙШИМ КРИТЕРИЕМ ОБЪЕКТИВИОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПАРТИЙНОСТЬ! БЫТЬ ОБЪЕКТИВНЫM – ЗНАЧИТ СТОЯТЬ ЗА ИСТОРИЧЕСКУЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ, ЗА РЕВОЛЮЦИЮ, ЗА СОЦИАЛИЗМ! На речевом пуансоне имеется ярко-красная кнопка: ленинская кнопка, сейчас на нее нажмут: ПРАВДИВАЯ ПРЕССА{138}138
У В.И. Ленина в статье «С чего начать» (1901) сказано: «Газета – не только…» (дальше как здесь).
[Закрыть] – НЕ ТОЛЬКО КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРОПАГАНДИСТ И КОЛЛЕКТИВНЫЙ АГИТАТОР, НО ТАКЖЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР! —
(Конферансье) «Балет Государственной оперы танцует полонез из 'Лебединого озера' Чайковского. Для тех наших телезрителей, которые смотрят передачу в черно-белом режиме, я расскажу о красивых балетных пачках товарищей танцовщиц…»
Поцелуйчик здесь, поцелуйчик там, снаружи горстка демонстрантов, но все танцуют и поют, это улучшает настроение, а начальник спецназовского штаба, расположившегося в Доме учителя, пока не решился устроить большую очистительную акцию на Алексе …
(Конферансье) «А теперь послушайте хор 'Проснись' из 'Нюрнбергских мейстерзингеров' Вагнера!»
(Генеральный секретарь) «Сегодня Германская Демократическая Республика – аванпост мира и социализма в Европе!»
(Горбачев) «Того, кто опаздывает…{140}140
«Того, кто опаздывает, наказывает жизнь» – слова из выступления М.С. Горбачева на государственном приеме во Дворце Республики в Берлине 7 октября 1989 г.
[Закрыть]»
(Народ, хором) «Свободу!»
(Министр полиции) «Сейчас бы самое милое дело – устроить хорошую взбучку этим мерзавцам, чтобы таким ни одна куртка не была к лицу… Меня не надо учить, как обращаться с классовым врагом!»
(Народ, хором) «Свободу!»
(Министр госбезопасности) «Что же, когда он, то есть товарищ Горбачев, отправится восвояси, я сразу отдам приказ о начале операции, и с гуманизмом будет покончено!»
Пористые зоны: мозг отключает бодрствующие участки, и становятся видимыми альфа-волны сна. Но этот придаток – орган-щит, панель управления обменом веществ – не спит никогда, этот серый дворец из бетона, с частично зеркальными, частично замазанными краской окнами, под которыми слизистым, враждебно-заразным молочным потоком движется лимфа…
…но потом вдруг…
часы пробили —
Гудрун сказала: «Мы все выходим из своих ролей». Никлас сказал: «В Опере дают 'Фиделио'{141}141
«Фиделио» (1805) – опера Людвига ван Бетховена, действие которой разворачивается в тюрьме.
[Закрыть], и когда начинает петь хор арестантов, весь зал поднимается и поет вместе с ними». Барбара сказала: «А Барсано сидит в королевской ложе, мысли его витают где-то далеко, и он не поет». Анна, чье лицо еще разбито, а запястья распухли от ударов дубинкой, взяла свечу. Рихард и Роберт, отложивший свой отпуск на последние дни перед дембелем, проверили, высохли ли надписи «Никакого насилия!' на бумажных шарфах, которые они оба повесили себе через плечо. Все вышли на улицу.
По пути им попадалось много людей. На всех лицах заметны были страх, оставшийся от последних дней, печаль и беспокойство, но также и нечто новое: излучаемое ими сияние. Это, видел Рихард, уже не подавленные, понурые люди, как во все прошлые годы, не те прохожие, что спешили по своим делам, обменивались приветствиями, сдержанно кивали, но старались не смотреть долго друг другу в глаза, – теперь они подняли головы, дышат хоть и стесненно еще, но с гордостью, потому что такое стало возможным, это Напрямик: что вот они идут, распрямившись, и тем самым заявляют о себе, о том, кто они, чего хотят и чего не хотят, что идут все более уверенно, чувствуют такую же элементарную радость, какая свойственна детям, впервые встающим на ноги, чтобы научиться ходить. Шведес и Орре шагали под руку, среди других обитателей «Дома глициний»; из дома «Уленбург»{142}142
Дом назван в честь Уленбурга – замка в стиле «везерского Ренессанса»; сейчас он является частью города Лёне (земля Северный Рейн – Вестфалия).
[Закрыть], соседнего с «Каравеллой», вышло в полном составе многодетное семейство торговца углем Хаушильда («От мала до велика, как органные трубы», – сказала Барбара) и, кажется, разом зажгло все свои припасенные на зиму свечи; господин Гризель, сопровождаемый женой и письмоносцем Глодде, который только что вернулся с работы, замыкал эту детскую процессию; в мастерской у столяра Рабе пилы умолкли, мастер отер руки тряпкой, свистнул ученикам и тоже извлек из кармана вельветовых брюк огарок свечи.
На мгновенье все замерли в нерешительности – спуститься ли по Ульменляйте, к церкви, или сперва завернуть на Риссляйте, к булочной Вальтера? Очередь перед булочной при их приближении поредела, распалась на группки; из дверей выглянули, смущенно комкая фартуки, продавщицы; «Булочек захватите!» – крикнул кто-то; взмахи рук, крики; «Присоединяйтесь, мы нуждаемся в каждом мужике!» А зубная врачиха Кнабе, подтолкнув вперед своего запуганного супруга, добавила: «Правильно – и в каждой бабе!» Ульрих сорвал с себя и бросил на землю партийный значок. Барбара договорилась с Лайошом Винером о переносе на другой день своего визита к нему – пока он писал на двери парикмахерской: «Закрыто по причине революции». Госпожа фон Штерн, повесившая через плечо жестяную коробку для завтраков, бодро стучала об землю узловатой палкой: «Это на случай, если кто-то нарушит должную дистанцию. Невероятно, что мне-таки довелось увидеть такое – после событий октября семнадцатого!» Рихарду же этот день, этот октябрьский день 1989 года, вдруг показался серьезным и простым, исполненным энергии; на небе за деревьями проступили едва заметные, не толще волоска, трещинки; Рихард видел выбоины, беспомощно заделанные асфальтовыми кляксами, – халтурно заштопанную кожистую оболочку старых улиц, которая, как у змей при линьке, похоже, вот-вот должна была лопнуть; и хотя уже сгущались сумерки, через все эти трещины веяло дурманящей свежестью, какую он чувствовал молодым человеком, когда затевалось очередное приключение, одна из тех внезапно вспыхивающих грандиозных авантюр, которые нарушают норму, но награждают Я золотым нимбом, сотканным из счастья и боевой песни. «Ханс», – сказал он своему брату, вынырнувшему из-за угла Волчьего спуска; «Рихард», – сказал токсиколог, вот и все, но то были первые слова, которыми они обменялись за долгое время. Ирис и Мюриэль отказались взять свечи, предложенные им пастором Магенштоком; воздержался от этого и Фабиан, теперь – уже молодой человек, с немножко смешными гайдуцкими усиками; все трое не несли ни свечей, ни плакатов с изображением Горбачева, в отличие от столь многих: они не хотели никакого улучшенного социализма, они вообще не хотели социализма и для поддержания своих надежд не нуждались ни в проповедях, ни в световых цепочках. Рихард не мог не признать, что и Хонихи, на свой лад, проявили мужество: они развернули гэдээровское знамя, высмеиваемое и презираемое (притом во многих местах города, как знал Рихард, уже обезоруженное тем, что из него вырезали кругообразный кусок); как бы то ни было, Хонихи присоединились к шествию, и их никто не прогнал, на них просто не обращали внимания.








