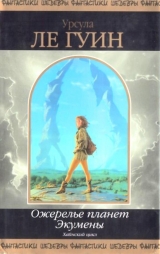
Текст книги "Ожерелье планет Экумены"
Автор книги: Урсула Кребер Ле Гуин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 66 страниц)
Он выбрал пивную рядом с одним из государственных Домов любви. Но заказал не пиво, а «живую воду»: явно не собирался терять время даром. После первой рюмки он положил руку мне на ладонь и, приблизив свое лицо к моему, страстно прошептал: «Ведь мы не случайно встретились сегодня: я ждал вас. Молю, будьте моим кеммерингом!» – и назвал меня моим домашним именем. Я не отрезал ему язык только потому, что, с тех пор как покинул Эстре, не ношу с собой ножа, и сообщил, что намерен в ссылке блюсти воздержание. Он продолжал ворковать, что-то бормотать и цепляться за руки. У него был женский тип кеммера, и он очень быстро входил в полную фазу. Гаум в состоянии кеммера особенно красив, и он очень рассчитывал на свою красоту и сексуальную неотразимость, зная, по-моему, что, будучи ханддаратом, я вряд ли стану принимать средства, снижающие половую активность, так что особенно упорствовать не стану. Он забыл, что отвращение порой действует не хуже иного лекарства. Я высвободился из его объятий – разумеется, не совсем оставшись равнодушным – и предложил ему воспользоваться услугами ближайшего Дома любви. И тут он посмотрел на меня с ненавистью, достойной сострадания, потому что, как бы недостойны ни были его цели, сейчас он действительно находился в глубоком кеммере и был очень сильно возбужден.
Неужели он всерьез рассчитывал, что я польщусь на его дрянную красоту? Он, должно быть, думал, что после той истории мне будет здорово не по себе; и мне действительно стало здорово не по себе.
Будь они все прокляты, эти грязные людишки! Среди них нет ни одного с чистой душой.
Одсордни Сузми.Сегодня днем Дженли Аи выступал с речью в Зале Тридцати Трех. Больше никого туда не пустили, и никакой радиопередачи сделано не было, но Обсл потом пригласил меня к себе и прокрутил собственную магнитофонную запись заседания. Посланник говорил хорошо, с трогательной искренностью и убедительностью. Есть в нем некая невинность, которую я привык считать чуждой нам и довольно глупой; и все же в отдельные моменты именно за этой кажущейся невинностью открывается такая широта знаний и такая дальновидность, что мне становится страшно. Его устами говорит уверенный в себе и очень великодушный народ – такой народ, который сплел воедино премудрость древнего, немыслимо глубокого и невообразимо разнообразного жизненного опыта множества человеческих обществ. Но сам-то Аи еще молод, нетерпелив, неопытен. Он выше нас и видит шире, но, как бы то ни было, он всего лишь обычный человек.
Теперь он говорит куда лучше, чем в Эренранге: проще, искуснее, – постепенно выучился и этому мастерству. Как, впрочем, и все мы.
Его речь часто прерывали члены доминирующей партии, требуя, чтобы председательствующий остановил этого безумца, выдворил его из Зала и вернулся к обычному распорядку дня. Комменсал Иеменбей вел себя особенно шумно и непредсказуемо. «Неужто ты готов жрать этот словесный бред, это дерьмовое гиши-миши!» – орал он время от времени, обращаясь к Обслу. В аудитории стоял такой невообразимый шум, что даже на пленке было почти невозможно его слушать; шум, по словам Обсла, был специально организован Кахаросайлом и его сообщниками.
Цитирую по памяти:
Альшель(председательствующий): Господин Посланник, мы находим вашу информацию, а также предложения, сделанные господином Обслом, господином Слозом, господином Итепеном, господином Иегеем и другими лицами, весьма и весьма интересными, весьма и весьма обнадеживающими. Нам нужно, однако, нечто большее, чтобы развивать наши отношения. (Смех в зале.) Поскольку король Кархайда запер вашу… хм, тот механизм, на котором вы прилетели, и мы лишены возможности видеть его, то нельзя ли, как это вами же и было предложено, вызвать вашу… э… ваш Звездный Корабль и посадить его в Оргорейне? Как вы называете этот механизм?
Аи: «Звездный Корабль» – хорошее название, господин председатель.
Альшель: А? Но как вы сами-то его называете?
Аи: Ну, с технической точки зрения это искусственный межзвездный планетолет, цетианская модель НАФАЛ-20.
Голос из зала: Вы уверены, что это не санки Святого Петете? (Смех.)
Альшель: Прошу вас! Да. Хорошо. Так вот, если бы вы могли посадить ваш корабль здесь – чтобы он обрел, так сказать, твердую почву под собой, – а мы могли бы, так сказать, получить некое, вполне материальное…
Голос из зала: Вполне материальное рыбье дерьмо!
Аи: Я очень хотел бы посадить этот корабль, господин Альшель, – как в качестве доказательства, так и в качестве свидетельства нашего взаимного расположения. Я жду лишь вашего предварительного публичного заявления об этом событии.
Кахаросайл: Разве вы не видите, Комменсалы, что это такое? Это ведь не просто глупая шутка. Это по своему замыслу публичное издевательство над нашим доверием, точнее – нашей доверчивостью! И человек этот издевается над нами с невероятной настойчивостью и наглостью, глядя нам прямо в глаза. Вы ведь знаете, что он из Кархайда. Знаете, что он кархайдский агент. Вы все можете убедиться, что это извращенец, Перверт, которые в Кархайде в связи с распространенным там культом Тьмы не только не подвергаются лечению, но даже искусственно создаются для оргий кархайдских Предсказателей. И тем не менее, когда он говорит, что прилетел из далекого Космоса, некоторые из вас отказываются верить собственным глазам, глушат голос разума и верятему! Никогда не думал я, что такое возможно! (И так далее, и тому подобное.)
Если судить по записи, Аи реагировал на гнусные намеки и оскорбления терпеливо. Обсл сказал, что он вообще держался хорошо. Я бродил вокруг зала Тридцати Трех, чтобы увидеть, как все они будут выходить. Вид у Аи был мрачно-задумчивый. Что ж, причин задуматься у него хватало.
Моя беспомощность непереносима. Именно я запустил эту машину и теперь не способен контролировать ее деятельность. Надвинув на лицо капюшон, я прокрадывался по улицам, чтобы только взглянуть на Посланника. И для этой жизни – крадучись, ползком! – я отказался от власти, денег, друзей? Что ты за дурак. Терем!
Почему я всегда прилепляюсь сердцем к чему-то недопустимому, невозможному?
Одепс Сузми.Коммуникационное устройство Дженли Аи теперь передано Тридцати Трем под ответственность Обсла; но и оно ничего не изменит в представлениях кого бы то ни было. Без сомнения, устройство функционирует именно так, как говорит Аи, однако если королевский математик Шорст способен был сказать о нем лишь: «Я не понимаю принципов его работы», то и любой математик или инженер Орготы скажет не больше, и ничего не будет ни доказано, ни опровергнуто. Замечательный результат – если бы эта страна представляла собой, например, одну из Цитаделей Ханддары, но, увы, мы должны идти дальше, пятная своими следами свежий и рыхлый снег, доказывая и опровергая, задавая вопросы и отвечая на них.
Еще раз я попытался надавить на Обсла, требуя, чтобы Аи была предоставлена возможность связаться по радио со своим большим кораблем, разбудить команду и попросить кого-то из них переговорить с Тридцатью Тремя. На этот раз у Обсла уже была заранее подготовлена причина, согласно которой делать это ни в коем случае не следовало. «Послушайте, Эстравен, дорогой мой, всем нашим радио заправляет Сарф, теперь вам это известно. И я понятия не имею – даже я! – кто из людей в Бюро Связи работает на Сарфа; большая часть, без сомнения, ибо мне достоверно известно, что они свободно пользуются передатчиками и радиоприемниками любых категорий, вплоть до тех, что находятся в ремонтных мастерских. Они могут – и непременно это сделают – заблокировать или фальсифицировать любой радиосигнал, который к нам поступит. Если он действительно поступит! Вы представляете себе подобную сцену в Зале? Мы, «жертвы внешнего Космоса», жертвы собственной мистификации, затаив дыхание, будем слушать лишь электрические разряды – и ничего больше! Ни ответа, ни привета!»
«А у вас, конечно, нет денег, чтобы нанять для такого сеанса порядочных техников или перекупить кого-то из команды Сарфа?» – спросил я; впрочем, без толку. Он боится за свой престиж. Его поведение по отношению ко мне уже изменилось. И если сегодня он отменит прием в честь Посланника, то дела совсем плохи.
Одархад Сузми.Прием он отменил.
Утром я отправился на встречу с Посланником в полном соответствии с орготскими правилами приличий. Не явился открыто с визитом в дом Шусгиса, где все нашпиговано людьми Сарфа, да и сам Шусгис – один из них, но встретился с ним на улице, «случайно», в стиле Гаума. Тайком, украдкой. «Господин Аи, не уделите ли мне минутку?» Он изумленно огляделся и, узнав меня, встревожился. Впрочем, через минуту он взорвался: «Что, в конце концов, вам от меня нужно, господин Харт? Вы же знаете, что я не могу полагаться на ваши слова с тех пор как в Эренранге…»
Это было по крайней мере искренне, хотя и очень непонятно. Впрочем, все же отчасти понятно: он знал, что я хочу дать ему совет, а не просить у него что-то, и сказал так, чтобы пощадить мою гордость.
«Это Мишнори, а не Эренранг, – сказал я, – но опасность, которой вы подвергаетесь, везде одна и та же. Если вы не сможете убедить Обсла и Иегея, что вам необходимо связаться по радио с вашим кораблем, чтобы люди на борту, оставаясь в безопасности, могли бы как-то подтвердить ваши заявления, тогда, как мне кажется, вам следует немедленно использовать этот ансибль и вызвать корабль на Гетен. Риск, которому в таком случае подвергнется он, меньше, чем тот риск, которому подвергаетесь теперь вы в одиночку».
«Споры между Комменсалами относительно моих радиопосланий держатся от меня в секрете. Откуда вам известно о моих «заявлениях», господин Харт?»
«Дело моей жизни – знать…»
«Но в данном случае это вовсе не ваше дело. Это дело Комменсалов Оргорейна».
«Говорю вам, что жизнь ваша в смертельной опасности, господин Аи», – сказал я; на это он не ответил ничего, и я ушел.
Мне, конечно же, следовало поговорить с ним еще несколько дней назад. Теперь слишком поздно. Страх разрушает и его затею, и мои надежды, снова разрушает все. Но не страх перед этим инопланетянином, не страх перед кем-то из иного мира, с иной планеты. В Орготе у них на это не хватает ни широты мышления, ни широты души – понять то, что в действительности и невероятно, и странно. Они даже не видят этого. Они смотрят на человека из иного мира и видят – что? Какого-то шпиона из Кархайда, Перверта, агента, жалкую «государственную единицу» – единичку, подобную им самим.
Если он немедленно не пошлет за кораблем, то завтра будет поздно; возможно, уже слишком поздно.
Это моя вина. Я все сделал неправильно.
12. О Времени и Тьме
Из «Поучений Тухулме, Верховного Жреца»; «Канон Йомеш», Северный Оргорейн.
Запись текста произведена около 900 лет назад.
Меше есть Центр Всех Времен. Он ясно увидел все сущее, когда прожил на этой земле уже тридцать лет. И еще тридцать лет прожил он после того, так что Ясное Видение приходится на самую середину его жизни. Века, прошедшие до мгновения Ясного Видения, столь же долги, как и те, что придут им на смену, ибо Ясновидение Меше было Центром Всех Времен, где нет ни прошлого, ни будущего. Но есть и прошлое и будущее одновременно. Прошлого не было, и будущее не наступит. Есть Центр Всех Времен. И все – в нем.
Невидимого для Меше не существует.
Когда тот бедняк из Шенея пришел к Меше, жалуясь, что ему нечем накормить свое кровное дитя, что нет у него даже зерна для посева, ибо дожди еще в полях сгноили весь урожай, и теперь семья его голодает, Меше сказал: «Выкопай яму на каменистом поле Тюэрреша; в ней – множество серебра и драгоценных камней, ибо вижу я, как король хоронит в этом месте свое сокровище десять тысяч лет тому назад, опасаясь соседа, с которым у него давняя тяжба».
Бедняк из Шенея вырыл в мореновой гряде Тюэрреша яму и в том самом месте, которое указал Меше, извлек на поверхность целую груду старинных драгоценностей. При виде их он громко закричал от радости. Но Меше, стоя с ним рядом, заплакал и сказал: «Я вижу, как некий человек убивает брата своего из-за одного лишь такого блестящего камушка. И происходит это десять тысяч лет спустя. Эта вот яма, откуда достал ты сокровище, станет могилой убиенного, о человек из Шенея. Я знаю также, где твоя собственная могила, ибо я вижу тебя лежащим в ней».
Жизнь каждого человека – в Центре Времен; все жизни были ясно увидены Меше и запечатлелись в его Глазу. Мы, люди, стали зеницами очей его. А деяния наши – его Ясновидением. Бытие наше дало ему Знание.
В самой гуще леса Орнен, что раскинулся на сто тысяч шагов в длину и сто тысяч шагов в ширину, стояло дерево хеммен. Дерево было старым, раскидистым, с сотней крупных ветвей, и на каждой сотня мелких веточек, а на каждой веточке – сотни сотен иголок. И дерево это сказало своей душе, что гнездится в корнях: «Видны все мои листья-иглы, кроме одной; эту единственную иголку скрывают во тьме остальные. Это моя великая тайна. Кто распознает ее во тьме, среди бесчисленных моих игл? Кто сочтет их все?»
В своих скитаниях Меше проходил как-то через лес Орнен и именно с этого дерева хеммен сорвал именно ту маленькую веточку с заветной иголкой, которую и сломал.
Ни одна дождевая капля не упадет снова с небес во время осенней непогоды, если она падала раньше; а осенние дожди выпадали и раньше, и выпадают сейчас, и будут выпадать всегда в это время года. Меше видит каждую каплю, знает, куда она падала, падает и упадет в будущем.
У Меше в зенице ока – все звезды и тьма межзвездная, все это залито ярким светом.
Отвечая на тот Вопрос лорда Шортха, в миг Ясновидения Меше узрел все небеса разом, как если бы все это было одно лишь солнце. Над землей и под землей – вся сфера небесная была залита светом, как поверхность солнца, и тьмы не было вовсе. Ибо видел он не то, что было, и не то, что будет, но то, что есть. Те звезды, что, исчезая с небосклона, уносят с собой свой свет, единовременно запечатлелись в его Глазу и светили теперь все сразу [6]6
Мистическая интерпретация одной из теорий, поддерживающих гипотезу о расширяющихся границах Вселенной; гипотеза впервые выдвинута Математической школой Ситха более четырех тысячелетий назад и в целом принята на вооружение последующими поколениями космологов, хотя метеорологические условия на планете Гетен не позволяют собрать достаточных доказательств при наблюдении астрономических тел. Скорость расширения Вселенной (константа Хаббла, константа Рерхерека) может фактически оцениваться в соответствии с зафиксированным количеством света, исходящего из ночного неба; основной постулат теории: если бы Вселенная не расширялась, ночное небо не казалось бы темным (Дж. Аи).
[Закрыть].
Тьма есть лишь в глазу смертного, считающего, что он видит все, однако не видит ничего. Во взгляде Меше тьмы не существует.
А потому те, кто взывает ко Тьме [7]7
Ханддараты (Дж. Аи).
[Закрыть], обезумели и были исторгнуты со слюной изо рта Меше, ибо они дают имена тому, чего не существует, называя это несуществующее Истоком и Концом.
Нет ни истока, ни конца, и все существует лишь в Центре Времен. Подобно тому как все звезды разом могут отразиться в одной лишь капле дождя, падающего с небес в ночи, так и капля эта тоже отражается сразу во всех звездах мира. Не существует ни тьмы, ни смерти, ибо все сущее – лишь в великом Миге Ясновидения, и концы и начала едины.
Един Центр Всех Времен, как един миг Ясного Видения, как един закон и вечный свет. Так загляни же теперь в Глаз Меше!
13. На ферме
Обеспокоенный внезапным появлением Эстравена, его осведомленностью и яростной настойчивостью его предостережений, я остановил такси и помчался прямо к Комменсалу Обслу, намереваясь спросить, откуда Эстравену известно столь многое и почему он внезапно возник передо мной буквально из пустоты, пытаясь заставить меня сделать именно то, что еще вчера сам Обсл советовал мне ни в коем случае не делать. Комменсала дома не оказалось; привратник не знал, где он и когда вернется. Тогда я поехал к Иегею, но с тем же результатом. Шел сильный снег; это был самый мощный снегопад за всю осень; шофер отказался везти меня дальше, поскольку резина у него на колесах была нешипованная, и отвез к Шусгису. В тот вечер мне также не удалось и по телефону связаться ни с Обслом, ни с Иегеем, ни со Слозом.
За обедом Шусгис объяснил мне: идет праздник Йомеш; на торжественной церемонии ожидается присутствие Святых, а также высокопоставленных лиц и администрации Комменсалии. Он также объяснил мне поведение Эстравена, и, надо сказать, довольно-таки злобно: как поведение человека, некогда могущественного, но утратившего власть, который хватается за любую возможность повлиять на кого-то или на что-то, но поступает все более и более неразумно, со все возрастающим отчаянием, ибо сознает, что неизбежно погружается в бессильную безвестность. Я согласился; это, пожалуй, соответствовало возбужденному, почти отчаянному поведению Эстравена. Однако по-прежнему не мог избавиться от беспокойства, странным образом охватившего и меня после той встречи. В течение всей долгой и обильной трапезы я чувствовал какую-то смутную тревогу. Шусгис говорил не умолкая, обращаясь не только ко мне, но и к своим многочисленным помощникам и лизоблюдам, которые каждый вечер садились с ним вместе за стол; я никогда еще не видел его столь велеречивым и оживленным. Когда обед наконец закончился, было уже достаточно поздно, чтобы снова куда-то ехать. К тому же, как сказал Шусгис, торжественная церемония еще продолжается и окончится далеко за полночь, так что все Комменсалы все равно будут заняты. Я решил отказаться от ужина и пораньше лег спать. Где-то среди ночи, когда до рассвета было еще далеко, меня разбудили какие-то неизвестные мне люди и сообщили, что я арестован; после чего меня под стражей препроводили в тюрьму Кундершаден.
Кундершаден – очень старое, одно из немногих древних строений, еще сохранившихся в Мишнори. Я часто обращал на него внимание, когда бродил по городу: это длинное мрачное и даже какое-то зловещее здание со множеством башен весьма отличалось от светлых каменных кубов и прочих геометрически правильных форм, свойственных архитектуре периода Комменсалии. Здание полностью соответствует своему назначению и названию. Это настоящая тюрьма. Не просто название, за которым скрывается что-то иное, не метафора, это тюрьма как явление жизни, полностью соответствующая значению этого слова.
Тюремщики – грубые коренастые люди – протащили меня по коридорам и на какое-то время оставили одного в маленькой комнате, очень грязной и очень ярко освещенной. Почти сразу же в комнатку ввалилась новая толпа стражников, во главе которых шел человек с тонкими чертами лица и весьма важным видом. Он выставил их всех за дверь, оставив в комнате лишь двоих. Я спросил, нельзя ли передать записку Комменсалу Обслу.
– Комменсал знает о вашем аресте.
– Знает? – переспросил я с довольно глупым видом.
– Разумеется, мое руководство действует в соответствии с указаниями Тридцати Трех… Вы будете подвергнуты допросу.
Стражники схватили меня за руки. Я начал вырываться, сердито приговаривая:
– Я и так с готовностью отвечу на все ваши вопросы, может быть, можно обойтись и без этого возмутительного насилия?
Человек с тонким лицом не обратил на мои возражения ни малейшего внимания, лишь позвал на помощь еще одного стражника. Втроем им удалось наконец растянуть меня на столе, намертво закрепить руки и ноги и сделать мне какой-то укол. По-моему, мне ввели «эликсир правды».
Не знаю, сколько длился допрос и о чем вообще шла речь, потому что мне без конца делали инъекции, видимо вводя дополнительные дозы сильного наркотика. Так что я плохо что-либо помню. Когда я снова пришел в себя, то понятия не имел, сколько времени провел в Кундершадене: дня четыре-пять, судя по внешнему виду и физическому состоянию; но в этом я не был уверен. Я еще довольно долго никак не мог сообразить, какой же может быть день и месяц, и вообще еле-еле, с трудом начал осознавать, где именно нахожусь.
А находился я в грузовике, очень похожем на тот, что привез меня через перевал Каргав в Рир; только тогда я ехал в кабине, а теперь – в крытом кузове. Там кроме меня было еще человек двадцать-тридцать; точнее определить было трудно: окна отсутствовали и свет проникал только сквозь щель в задней стенке, загороженной к тому же четырьмя слоями стальной сетки. Мы, по всей очевидности, уже давно были в пути, когда я, очнувшись, обрел наконец способность соображать. У каждого в фургоне было свое определенное место, в воздухе висел тяжкий запах испражнений, рвоты и пота, который не исчезал ни на минуту, но вроде бы и не усиливался. Все мы были друг другу абсолютно незнакомы. Ни один не знал, куда нас везут. Разговаривали мало. Во второй раз я оказался запертым в темноте вместе с покорными, ни на что не жалующимися и ни на что не надеющимися жителями Оргорейна. Теперь я понял, что за знак был дан мне в мою первую ночь в этой стране. Тогда я не придал должного значения пребыванию в темном подвале и отправился искать сущность оргорейнцев на поверхности земли, при солнечном свете. Ничего удивительного, что там все казалось мне ненастоящим.
По-моему, грузовик наш двигался на восток; я так и не смог до конца отделаться от этого ощущения, даже когда стало совершенно ясно, что движется он на запад, все дальше и дальше в глубь Оргорейна. Чувство ориентации относительно полюсов часто подводит человека на чужой планете, а в тех случаях, когда разум не способен или просто не имеет возможности компенсировать это неверное восприятие визуально, наступает растерянность, ощущение полного одиночества.
Один из нас – из того живого груза, который везли в кузове, – в ту ночь умер. Его, видимо, раньше сильно избили дубинкой или ударили сапогом в живот: умер он от непрерывного кровотечения изо рта и анального отверстия. Никто ничем ему не помог; да и помочь, собственно, было нечем. Пластиковый кувшин с водой, который сунули в фургон несколько часов назад, давно уже был пуст. Умирающий был моим соседом справа, и я положил его голову к себе на колени, чтобы ему легче было дышать; у меня на коленях он и умер. Все мы были голыми, но потом я будто оделся: мои ноги, бедра и руки покрыла сухая, жесткая, коричневая корка, его кровь – одеяние, не дающее тепла.
Ночью становилось жутко холодно, и мы были вынуждены жаться друг к дружке, чтобы согреться. Труп, поскольку тепла он дать нам не мог, просто отбросили в сторону – как бы исключили из общества. Остальные сплелись в клубок, покачиваясь и подпрыгивая на ухабах. Тьма внутри нашей стальной коробки была всепоглощающей. Мы ползли по какой-то сельской дороге, и за нами явно не шла ни одна машина; даже вплотную прижав лицо к стальной решетке, невозможно было ничего разглядеть сквозь щель в двери, кроме темноты и неясных мелькающих теней – снежных хлопьев.
Падающий снег; снег, только выпавший; давно выпавший снег; снег после дождя или дождь, перешедший в снег; снежный наст… В Орготе и Кархайде для каждого из этих понятий было свое слово. В кархайдском языке (который я знал лучше) существовало, по моим подсчетам, шестьдесят два слова для обозначения различных видов, состояний, долговременности и прочих качеств снежного покрова; вот теперь это был снег падающий, снегопад; примерно столько же слов существует для ледостава; еще один из лексических наборов – штук двадцать словосочетаний, если не больше, – определяет такие свойства погоды, как уровень температуры, сила ветра и общее количество осадков за последние дни. Всю ночь я пытался воскресить в памяти списки этих словосочетаний. Каждый раз, вспоминая еще одно, я повторял весь список сначала, расставляя понятия в алфавитном порядке.
Вскоре после рассвета грузовик остановился. Люди кричали в дверную щель, что в кузове мертвец и что его надо вынуть. Кричали все по очереди. И все вместе. Что было сил колотили по стенам и полу своей стальной коробки, устроив такой дьявольский концерт, что в конце концов сами не выдержали. Однако никто так и не пришел. Грузовик несколько часов стоял без движения, наконец снаружи послышались голоса, грузовик дернулся, буксуя на заледенелой дороге, и снова двинулся в путь. Через щель было видно, что уже довольно позднее утро, светит солнце, а движемся мы по заросшим лесом склонам гор.
Грузовик прежним манером полз еще три дня и три ночи – прошло уже четверо суток с тех пор, как я очнулся. Мы совсем не останавливались на контрольных пунктах, потому что, наверное, объезжали все города и селения стороной, по окольным, секретным дорогам. Впрочем, грузовик все-таки иногда останавливался, например, чтобы сменить шофера и перезарядить батареи питания; были и другие, более длительные остановки, причину которых невозможно было установить, находясь внутри наглухо закрытого фургона. В течение двух дней мы с полудня до темноты стояли на месте, а потом всю ночь ехали без остановок. Один раз в день, около полудня, через дверцу в задней стенке нам просовывали большой кувшин с водой.
Считая покойника, нас было двадцать шесть, два раза по тринадцать. Гетенианцы часто считают «чертовыми дюжинами»: двадцать шесть, пятьдесят два, – скорее всего, видимо, потому, что лунный цикл составляет у них двадцать шесть дней, то есть примерно соответствует продолжительности их полового цикла. Труп плотно притиснули к щели в дверях, где было холоднее всего. Живые же, то есть мы, сидели или лежали скрючившись – каждый на своем месте, на своей территории, в своем княжестве – до наступления ночи, когда холод становился настолько невыносимым, что все потихоньку начинали сползаться все ближе и ближе друг к другу и в конце концов снова сплетались в клубок в центре кузова. Этот человеческий комок в сердцевине своей хранил тепло, а по краям был очень холодным.
Еще от него исходила доброта. Я и некоторые другие, например один старик и еще один человек, которого мучил кашель, были негласно признаны наименее стойкими к холоду, так что каждую ночь мы неизменно оказывались в центре этого клубка из двадцати пяти человеческих тел, где было тепло. Мы не боролись за теплое местечко – просто оказывались там каждую ночь. Сколь поразительна и ужасна эта сила человеческой доброты! Ужасна потому, что все мы в итоге предстали нагими и нищими перед всепобеждающими холодом и тьмой. Доброта была нашим единственным достоянием. Мы, прежде столь богатые, полные сил люди, в итоге вынуждены были довольствоваться такой вот малостью. Больше нам нечего было дать друг другу.
Несмотря на то что ночью мы жались друг к дружке как можно теснее, буквально сплетались телами, все пассажиры грузовика были необычайно разобщены. Некоторые еще не совсем пришли в себя после инъекций наркотиков; некоторые, возможно, были умственно отсталыми или ущербными; и, наконец, все были ошеломлены и напуганы. Но все-таки странно, что из двадцати пяти человек ни один даже ни разу не заговорил, обращаясь ко всем сразу, даже ни разу никто не выругался вслух. Доброта и долготерпение чувствовались в этих людях, но – лишь в молчании, вечно в молчании. Сбитые, точно сельди в бочке, в этой прокисшей тьме, отчетливо ощущая смертность друг друга, мы стукались локтями, тряслись на ухабах, дышали одним и тем же воздухом, много раз перемешанным нашими легкими; чтобы согреться, складывали свои тела вместе, как складывают поленья в очаге или костре, но при этом оставались друг другу чужими. Я так и не знаю имен тех, кто проделал столь долгий путь на этом грузовике.
Однажды, правда, – я думаю, то было на третий день, когда грузовик простоял много часов неподвижно и уже стало казаться, что нас попросту бросили в пустыне, чтобы мы так и сгнили заживо в этом фургоне, – один из них заговорил со мной. Он долго рассказывал о том, как работал на мельнице в Южном Оргорейне и как влип в историю, поспорив с надзирателем. Он все говорил и говорил тихим, монотонным голосом и все время касался ладонью моей руки, как бы для того, чтобы убедиться, что я его слушаю. Солнце уже клонилось к западу, а мы все стояли на обочине пустынной дороги. Неожиданно солнечный луч проник сквозь щели в двери, осветив все вокруг, даже тех, кто сидел в самом темном углу, и я вдруг увидел перед собой девушку. Грязную, глупенькую, но очень хорошенькую и измученную. Она заглядывала мне в лицо с застенчивой улыбкой, словно искала утешения. Это был кеммер женского типа, и ее явно тянуло ко мне. Единственный раз кто-то из моих несчастных сокамерников просил у меня помощи, но этой помощи я дать не мог. Я встал и подошел к щели в задней двери, как бы желая подышать воздухом и посмотреть, что там снаружи, и долгое время не возвращался.
В ту ночь грузовик без конца полз по холмистым склонам то вверх, то вниз. Время от времени по совершенно необъяснимым причинам он останавливался. При каждой остановке вокруг нашего стального ящика воцарялась мертвая звенящая тишина – тишина бескрайних, пустынных высокогорных долин. Тот, что был в кеммере, по-прежнему льнул ко мне и все порывался коснуться меня рукой. Я снова очень долго простоял у дверной щели, прижавшись лицом к стальной сетке и дыша чистым воздухом, который огнем жег горло и легкие. Пальцев своих, вцепившихся в решетку, я не чувствовал. В конце концов я осознал, что они либо уже отморожены, либо очень скоро это произойдет. От моего дыхания между губами и сеткой нарос целый ледяной мостик. Пришлось ломать его пальцами, прежде чем я смог отвернуться. Когда я наконец присоединился к остальным, уже сбившимся в тесный клубок, то меня начала бить такая сильная дрожь, что все тело подпрыгивало и содрогалось, будто в конвульсиях. Потом грузовик двинулся дальше. Шум и движение создавали слабую иллюзию живого тепла, но меня не оставляла лихорадка, я так и не смог уснуть в ту ночь. По-моему, большую часть ночи мы ехали на очень большой высоте, но точно определить ее я бы не смог; в таких условиях частота дыхания и пульса и даже давление слишком ненадежные показатели.
Как я узнал позже, в ту ночь мы преодолевали перевал Сембенсиен и находились на высоте более трех километров.
Голод меня не особенно мучил. Последний раз я ел, похоже, как раз во время длительной и обильной трапезы в доме Шусгиса; возможно, меня кормили и в Кундершадене, но этого я не помню. Еда как бы не вписывалась в ту жизнь, которую мы вели в своей стальной коробке, и я почти не думал о ней. Жажда, однако, казалась основополагающим фактором здешней жизни. Один раз в день во время остановки маленькая дверца-ловушка в тяжелой задней двери грузовика, явно предназначенная специально для этого, открывалась, кто-нибудь из нас просовывал наружу пустой пластиковый кувшин для воды, и вскоре его всовывали обратно, но уже полным; вместе с ним влетал и глоток свежего ледяного воздуха. У нас не было никакой возможности как-то разделить воду между собой. Кувшин просто пускали по рядам, и каждый делал по три-четыре больших глотка, прежде чем передать кувшин следующему. Никто – ни в одиночку, ни группой – не пытался захватить кувшин надолго, но никто и не позаботился о том, чтобы сберечь немного воды для того человека, который давно уже сильно кашлял, а теперь еще и горел в жару. Я как-то раз предложил оставить ему немного, мои соседи кивнули в знак согласия, однако так ничего и не сделали. Воду делили более или менее поровну – никто не пытался выпить больше, чем ему полагалось; кувшин пустел в течение нескольких минут. Однажды троим последним, что сидели в дальнем углу, у кабины, воды не досталось; кувшин, достигнув их, оказался пуст. На следующий день двое из них потребовали, чтобы им дали напиться первыми, что и было сделано. Третий лежал, скрючившись, в своем углу и не шевелился; и снова никто не позаботился о том, чтобы он получил свою долю. Почему же это не попытался сделать я? Не знаю. То был уже мой четвертый день в кузове грузовика, и, если бы меня тоже вот так обделили, я не уверен, что предпринял бы хоть малейшую попытку добиться своей порции. Умом я понимал, что тот человек, наверное, очень хочет пить, что он жестоко страдает, как и больной, что разрывался от кашля; что все остальные страдают тоже. Я воспринимал их страдания значительно отчетливей, чем свои собственные, но был не в состоянии хоть чем-то облегчить участь этих людей, а потому принимал все как должное, спокойно и покорно.








