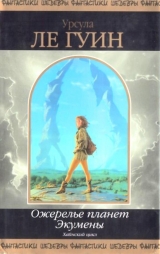
Текст книги "Ожерелье планет Экумены"
Автор книги: Урсула Кребер Ле Гуин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 66 страниц)
Нусутх – вечный и двусмысленный ответ ханддаратов. Как и всегда.
Мы шли рядом по дорожке, и Фейкс посмотрел на меня. Лицо его – одно из самых красивых человеческих лиц, какие я когда-либо видел, – тонкое и твердое одновременно, казалось вырезанным из камня.
– Во Тьме, – сказал он, – нас было десять; не девять. Там был кто-то еще, не Предсказатель.
– Да, был. Я не сумел мысленно отгородиться от вас. Вы, Фейкс, прирожденный Слушатель, реципиент, к тому же у вас естественный дар проникновения в чужую душу; так что, по всей вероятности, вы прирожденный и весьма сильный телепат. Именно поэтому вы и есть Ткач, тот, кто инициирует и поддерживает напряжение всей группы Предсказателей, объединяя их общий дар предвидения до тех пор, пока связь не нарушится и вместе с ней не исчезнет и та «паутина», что была соткана вами; в этот момент вы и получите ответ.
Он слушал мрачно, но заинтересованно.
– Странно слышать, как тайны моего искусства излагает посторонний, человек Извне… Я-то ощущаю его лишь изнутри, как последователь Ханддары.
– Если вы… если ты позволишь, Фейкс… конечно, если ты сам этого захочешь – что до меня, то мне бы этого очень хотелось! – мы можем попробовать поговорить с тобой мысленно.
Теперь я был уверен, что он прирожденный телепат; его согласие, немного практики – и непроизвольно созданный им барьер исчезнет.
– Если ты научишь меня этому, я смогу слышать, что думают остальные?
– Нет, нет. Во всяком случае, не больше, чем ты слышишь теперь благодаря своему дару Ткача. Телепатия – это сугубо произвольная форма связи между людьми.
– Тогда почему же людям не говорить друг с другом как обычно?
– Как тебе сказать… Разговаривая как обычно, кое-кто может и солгать.
– А при мысленном разговоре?
– Тогда солгать невозможно, во всяком случае – преднамеренно.
Фейкс какое-то время размышлял, потом сказал:
– Это искусство, которым должны бы заинтересоваться короли, политики и деловые люди.
– Деловые люди повели с телепатией яростную борьбу: едва обнаружилось, что этому искусству легко можно научиться, как они на десятилетия объявили его вне закона.
Фейкс улыбнулся:
– А короли?
– У нас больше нет королей.
– Да. Я понимаю, что… Что ж, благодарю тебя, Дженри. Но мое дело – забывать то, что знал, а не учиться новому. И я, пожалуй, пока не стану учиться искусству, которое может полностью изменить наш мир.
– Согласно твоему собственному предсказанию, ваш мир и так изменится не позднее чем через пять лет.
– И я тоже изменюсь с ним вместе, Дженри. Но у меня нет ни малейшего желания самому менять его.
Шел дождь, затяжной мелкий дождь гетенианского лета. Мы поднимались прямо сквозь лес по горному склону чуть выше Цитадели; брели просто так, без дороги. Между темными ветвями виднелось серое пасмурное небо, с алых иголок хемменов стекала чистая дождевая вода. Воздух был пропитан сыростью, но казался довольно теплым. Все вокруг было наполнено шумом дождя.
– Фейкс, скажи мне вот что. У вас, ханддаратов, есть дар, которым жаждут обладать люди всех миров: вы можете предсказывать будущее. И все же вы живете, как и все остальные… как будто вам этот дар безразличен…
– Но какую роль в обычной жизни может играть этот дар, Дженри?
– Ну, например… Возьмем этот спор между Кархайдом и Оргорейном по поводу долины Синотх. Мне кажется, в последнее время престиж Кархайда сильно пострадал из-за этого конфликта. Так почему же король Аргавен не посоветуется со своими Предсказателями, не спросит, какую политику избрать, кого из членов киорремии назначить на пост премьер-министра? Или еще что-нибудь в этом роде?
– Такие вопросы задавать трудно.
– Не понимаю почему. Он ведь может просто спросить: «Кто наилучшим образом будет служить мне в качестве премьер-министра?», и больше ничего.
– Спросить-то он может. Вот только не знает, что значит «служить наилучшим образом». Для него это может, например, значить, что избранник непременно отдаст долину Синотх Оргорейну, а может быть удалится в ссылку, а может быть – убьет короля. Это понятие может означать множество вещей, которых король вовсе не ожидает, да и не желает.
– Тогда ему нужно предельно точно сформулировать свой вопрос.
– Да. Но, видишь ли, вопрос такого рода потянет за собой еще целую цепочку вопросов. Даже король обязан уплатить свою цену за каждый из них.
– А вы ему назначите высокую цену?
– Очень, – спокойно сказал Фейкс. – Задающий вопрос, как тебе известно, платит столько, сколько может себе позволить. Вообще-то короли приходи раньше к Предсказателям за советом; но не слишком часто…
– А что, если один из Предсказателей сам обладает в обществе достаточной властью?
– Обитатели Цитадели не имеют ни власти, ни государственного статуса. Меня, конечно, могут вызвать в Эренранг и даже избрать членом киорремии; что ж, если я соглашусь принять этот пост и поеду туда, то верну себе и общественное положение, и свою тень, но моей роли Ткача тогда придет конец. И если у меня самого возникнет вопрос, мне придется поехать в Цитадель Орньи, уплатить цену и получить ответ. Но мы, ханддараты, не стремимся получать ответы. Иногда, правда, трудно подавить это желание, но мы стараемся.
– Фейкс, я что-то не совсем тебя понимаю…
– Дело в том, что наша основная задача здесь – узнать, какие вопросы задавать нельзя.
– Но ведь вы же Те, Кто Дает Ответы!
– Значит, ты все еще не понял, Дженри, зачем мы совершенствуем и практикуем искусство предсказания?
– Наверное, нет…
– Чтобы доказать полную бессмысленность получения ответа на вопрос, который задан неправильно.
Я довольно долго размышлял над этим, пока мы брели под мокрыми от дождя густыми ветвями отерхордского леса. Лицо Фейкса под белым капюшоном казалось усталым, но спокойным; внутренний свет, обычно горевший в его глазах, угас. В глубине души я все-таки почему-то немного побаивался его. Когда он смотрел на меня своими ясными, добрыми, честными глазами, мне в лицо будто заглядывали тринадцать тысячелетий развития Ханддары. Этот старинный способ мышления и бытия, прекрасно организованный, всеобъемлющий и последовательный, давал человеку настолько полную свободу мысли и уверенность в себе, такое совершенство дикого, естественного существа, что казалось, будто неведомое Великое и Вечное взирает на тебя из своего непреходящего «сейчас»…
– Неведомое, – тихо звучал в лесу голос Фейкса, – непредсказанное, недоказанное – вот на чем основана жизнь. Лишь неведение пробуждает мысль. Недоказанность – вот основа для любого действия. Если бы твердо было доказано, что Бога не существует, не существовало бы и религий. Не было бы ни Ханддары, ни Йомеш, не было бы домашних божеств – ничего. Впрочем, если бы имелись четкие доказательства, что Бог существует, религии тоже не существовало бы… Скажи мне, Дженри, что является абсолютно достоверным? Что можно счесть постижимым, предсказуемым, неизбежным?.. Назови хотя бы что-то, известное тебе, что непременно свершится в твоем будущем и моем?
– Мы оба непременно умрем.
– Да. Это верно. Существует один лишь вопрос, на который можно дать твердый ответ, и этот ответ мы уже знаем сами… А потому единственное, что делает продолжение жизни возможным, – это постоянная, порой непереносимая неуверенность в ней, незнание того, что произойдет с тобой в следующий миг…
6. Один из путей, ведущих в Оргорейн
Меня разбудил повар, который всегда приходил в дом очень рано. Спал я крепко, и ему пришлось долго трясти меня, приговаривая мне прямо в ухо:
– Вставайте, вставайте, лорд Эстравен, из королевского дворца гонец прибыл!
Наконец до меня дошло, и я, борясь со сном, с трудом встал и поспешил в гостиную, где ожидал королевский гонец. И голеньким, точно новорожденный младенец, угодил прямиком в ссылку.
Читая переданное гонцом послание, я довольно спокойно подумал, что, в общем-то, ожидал подобных событий, хотя и не так скоро. Однако, когда гонец на моих глазах стал приколачивать чертов указ к дверям моего дома, мне показалось, что он вбивает гвозди мне прямо в лоб; я отвернулся, но продолжал стоять рядом, лишившись и дома, и родины, терзаемый болью, которой я заранее предусмотреть не сумел.
Впрочем, когда боль от первого удара прошла, я начал прикидывать, что можно еще успеть сделать, и, когда колокол на башне пробил Час Девятый, покинул территорию дворца. Больше ничто меня здесь не задерживало. Я взял с собой то, что мог унести. Недвижимую собственность продать я не мог, а банковские вклады не мог получить наличными, не подвергая кого-то смертельной опасности. Причем наибольшей опасности подвергались именно те, кто был готов мне помочь. Я написал своему старому другу и кеммерингу Аше, как ему следует наилучшим образом воспользоваться кое-каким моим имуществом, чтобы доход от продажи получили наши с ним сыновья, однако предупредил его, что пытаться переслать деньги мне не стоит, потому что Тайб непременно будет держать всю границу с Оргорейном под контролем. Даже подписать письмо своим именем я не мог. Даже просто позвонить кому-то по телефону в моем положении означало своими руками отправить невинного человека в тюрьму. Так что я поспешил убраться из дому, пока какой-нибудь беспечный приятель не забрел ко мне в гости и не потерял не только свои деньги, но и свободу – в награду за дружбу с изгоем.
Я двинулся по улицам города к западной окраине. Потом на одном из перекрестков остановился и задумался. Почему бы, собственно, мне не пойти на восток, через горы и долины, в свой родной Керм? Преодолеть пешком весь этот далекий путь, подобно самым нищим беднякам, и в таком виде явиться в Очаг Эстре, в тот самый каменный дом на крутом горном склоне, где я родился… Почему бы, в самом деле, мне не вернуться домой? Три или четыре раза я вот так останавливался и смотрел назад, на восток, и каждый раз среди равнодушных лиц прохожих мне попадалось по крайней мере одно заинтересованное – лицо шпиона, подосланного, чтобы проследить, как я уберусь из Эренранга; и каждый раз я понимал, сколь безумны мои намерения вернуться домой. С тем же успехом можно было бы сразу совершить самоубийство. Я от рождения был обречен жить в ссылке – так во всяком случае, мне казалось, – и путь в родной дом был для меня равносилен пути к смерти. Так я продолжал шагать на запад и больше уже назад не оглядывался.
Через три обещанных мне дня отсрочки я, если очень повезет, должен оказаться самое дальнее в Кусебене на берегу залива, километрах в ста пятидесяти отсюда. Изгнанников чаще всего предупреждали о королевском указе еще накануне вечером, за ночь до вступления указа в силу, так что обычно у них была возможность сесть на какой-нибудь корабль и плыть по течению реки Сесс к заливу, прежде чем капитаны судов станут по закону ответственны за помощь преступнику. Но Тайб по гнусной природе своей на такое благородство способен не был. Теперь ни один капитан не осмелится взять меня на борт; в порту все меня отлично знают, поскольку именно я строил его для Аргавена. Ни один вездеход не посадит меня в кабину, а до границы с Оргорейном от Эренранга километров шестьсот. Выбора у меня не оставалось: нужно было пешком добраться до Кусебена.
Повар мой успел подумать именно об этом. Я его, разумеется, тотчас же отослал, но, прежде чем уйти, он выложил на видное место все припасы и тщательно упаковал все, что мог, приготовив мне «горючее» на три дня маршевого броска. Его доброта не только спасла меня, но и поддержала мой боевой дух, ибо каждый раз, останавливаясь по дороге, чтобы перекусить хлебным яблоком и сушеными фруктами, я думал, что есть все-таки хоть один человек, который не считает меня предателем, потому что дал мне эту еду.
Оказалось, что зваться предателем тяжело. Даже странно, до чего это тяжело, ведь так просто назвать предателем кого-то другого. Это слово прилипает к тебе навечно и звучит очень убедительно. Я и сам наполовину поверил в то, что стал предателем.
Я пришел в Кусебен к вечеру на третий день пути – полный тревоги, со стертыми в кровь ногами, потому что последние годы в Эренранге пристрастился к роскоши и обжорству и совершенно утратил былую любовь к пешим прогулкам. В Кусебене у городских ворот меня поджидал Аше.
Мы были кеммерингами целых семь лет; у нас родилось двое сыновей. Поскольку родил их непосредственно Аше, то они носили его имя: Форет рем ир Осборт – и воспитывались в его Очаге Кланхарт. Три года назад Аше удалился в Цитадель Орньи и теперь носил золотую цепь Целомудренного. В течение последних трех лет мы не виделись, и все же, когда я заметил его в вечерних сумерках под каменной аркой ворот, мне сразу вспомнилась прежняя теплота наших отношений, словно расстались мы лишь вчера; я сразу понял, что в нем живы любовь и преданность; имени эта любовь и послала его навстречу мне в час невзгод. И, чувствуя, что вновь запутываюсь во всем этом, я рассердился: любовь Аше всегда заставляла меня идти против собственной воли.
Я прошел мимо него. Мне необходимо быть жестоким, так что нечего тянуть, нечего притворяться добреньким.
– Терем, – окликнул он меня и пошел следом. Я быстро спускался по крутым улочкам Кусебена к порту. С моря дул южный ветер, трепал в садах черные деревья, и этим теплым летним вечером я удирал от Аше, словно от убийцы. Он все-таки догнал меня – мои стертые ноги не позволяли мне идти достаточно быстро – и сказал: – Терем, я пойду с тобой.
Я не ответил.
– Десять лет назад тоже был месяц Тува, и мы дали клятву.
– А три года назад ты первым нарушил ее и бросил меня. Впрочем, ты поступил разумно.
– Я никогда не нарушал клятву, которую мы тогда дали друг другу, Терем.
– Что ж, верно. Нечего было нарушать. Все это было неправдой. Во второй раз такую клятву не дают. Ты и сам это знаешь; да и тогда знал. Единственный раз я по-настоящему поклялся в верности, так никогда и не произнеся этого вслух, потому что это было невозможно; а теперь тот, которому я поклялся в верности, мертв, а моя клятва уже давно нарушена. Так что никакой обет нас не связывает. Отпусти меня.
Я говорил гневно, но обвинял в нашей трагедии не Аше, а скорее себя самого; вся прожитая мной жизнь была словно нарушенная клятва. Но Аше этого не понял, в глазах его стояли слезы, когда он сказал:
– Ты возьмешь это, Терем? Пусть нас не связывает клятва, но я очень люблю тебя.
И он протянул мне небольшой сверток.
– Нет, Аше. Денег у меня достаточно. Отпусти меня. Я должен уходить один.
Я двинулся дальше, и он не пошел за мной. Но за мной следовала тень моего брата. Плохо я поступил, заговорив о нем. Я вообще всегда все делал плохо.
В гавани мне не повезло. У причалов не оказалось ни единого судна из Оргорейна, на котором я уже к полуночи мог бы оказаться за пределами Кархайда, как было предписано Королевским Указом. Мне встретилось всего несколько человек, да и те спешили домой; я заговорил с рыбаком, возившимся у своей лодки с разобранным двигателем; рыбак только молча взглянул на меня и тут же отвернулся. Мне стало страшно: если этого человека не предупредили заранее, то откуда бы ему меня знать? Значит, слуги Тайба опередили меня и специально стараются задержать в Кархайде, чтобы истекло время отсрочки. Тогда казнь неизбежна. Горечь и злоба душили меня; теперь к ним прибавился страх. Я как-то не думал, что Указ о ссылке – всего лишь предлог, и меня в любом случае намерены физически уничтожить. Едва лишь пробьет Час Шестой, как люди Тайба возьмут меня голыми руками. Тогда бессмысленно будет кричать «Убивают!», ибо свершится правосудие.
Я уселся на мешок с песком. Причал был открыт всем ветрам и взорам. Слышались бесконечные шлепки волн о сваи, внизу качались и подпрыгивали привязанные рыбачьи лодки. У дальнего конца пирса горел фонарь. Я сидел и смотрел на этот огонек и дальше – в темную морскую даль. Некоторые сразу начинают решительную борьбу с опасностью, но только не я. Этим даром я не обладаю; у меня скорее дар предвидения. Когда же угроза становится реальностью, я почему-то резко глупею. А потому я и сидел на мешке с песком, тупо размышляя, сможет ли человек доплыть до Оргорейна без лодки. Воды залива Чарисун только что очистились ото льда – на месяц или два. Некоторое время в ледяной воде можно, конечно, продержаться, но до порта Орготы около двухсот километров. Впрочем, плавать я совсем не умею. Потом я стал смотреть в сторону города и обнаружил, что ищу взглядом Аше; я все еще надеялся, что он последует за мной, несмотря на запрет. И тут я ощутил такой жгучий стыд, что сразу вышел из оцепенения и вновь обрел способность мыслить трезво.
Выбора у меня не оставалось: придется дать взятку или убить его – этого рыбака, что все еще возился со своей лодкой. Кстати, отвратительная лодка, с ней и возиться-то не стоило. И мотор у нее никуда не годится. Еще оставалась кража. Однако рыбаки всегда запирают моторы своих лодок. Так что нужно сперва отомкнуть цепь, которой лодка крепится к причалу, добраться до мотора, завести его, выбраться – при свете яркого фонаря, что горит на пирсе! – в открытое море и плыть одному в Оргорейн, хотя я ни разу в жизни не плавал на моторной лодке. Довольно глупое и, пожалуй, безнадежное предприятие. Впрочем, мне приходилось иметь дело с весельной лодкой – на Ледяном озере в Керме… Я еще раньше приметил одну весельную лодку, привязанную между двумя сваями во внешнем доке. Ну что ж, увидел – украл. Я бросился туда прямо под удивленно уставившимися меня глазами фонарей, спрыгнул в лодку, легко отвязал ее от причала, вставил весла в уключины и решительно двинулся по кипящей черной воде в открытое море; отблеск фонарей плясал и дробился на волнах. Когда я отплыл уже достаточно далеко, то на минуту остановился, чтобы поправить одно из весел, которое туго поворачивалось в уключине, ведь мне еще предстояло грести и грести, хотя в глубине души я надеялся, что на следующий день меня подберет, например, орготский патрульный корабль или какое-нибудь рыболовное судно. Нагнувшись над уключиной, я неожиданно почувствовал столь сильную слабость, что почти потерял сознание и, скрючившись, застыл на банке. То было последствие пережитого мной приступа трусости. Я и не подозревал, что способен до такой степени струсить. Я поднял глаза и тут же на самом краю пирса увидел две черные фигуры – как две кривые черные ветки дерева в свете фонаря, раскачивающегося над разделяющей нас водой. Тут до меня дошло, что мой внезапный паралич следствие не столько пережитого страха, сколько непроизвольного предчувствия смерти: кто-то тщательно целился в меня из ружья.
Я сумел разглядеть это ружье у одного из них в руках. Если бы уже перевалило за полночь, то он, по-моему, давно бы с удовольствием застрелил меня; однако выстрел из обыкновенной винтовки производит слишком много шума – пришлось бы объясняться. А потому они воспользовались акустическим ружьем. Когда жертву хотят только оглушить, то заряд рассчитывают метров на тридцать, не больше. Не знаю, на каком расстоянии выстрел из него смертелен, но я отплыл явно недостаточно далеко. Меня всего скрючило, и я упал на дно лодки, извиваясь, как малый ребенок при желудочной колике. Даже вздохнуть было трудно, потому что ослабленный расстоянием выстрел угодил мне прямо в грудь. Поскольку они весьма скоро непременно подыскали бы моторное судно, чтобы догнать и прикончить меня, нельзя было терять ни минуты, и я, задыхаясь, яростно заработал веслами. Тьма лежала за моей спиной, впереди тоже была тьма, и туда, в эту тьму, я направил свою лодку. Руки у меня дрожали от слабости, приходилось следить, чтобы не уронить весла – я их почти не чувствовал. Залив остался позади; вокруг была кромешная тьма. Пришлось ненадолго остановиться. С каждым гребком руки немели все сильнее. Сердце билось неровными толчками, а легкие, казалось, разучились работать вовсе. Я попытался снова грести, но не был уверен, сдвинулся ли хотя бы с места. Тогда я решил на время осушить весла, но не смог даже поднять их. Когда прожектор сторожевого катера засек меня, плавающего подобно снежинке на угольно-черной воде, я даже не в силах был отвернуться от яркого света.
Они отцепили мои пальцы от весел, вынули меня из лодки и, как большую выпотрошенную черную рыбу, втащили на палубу. Я лежал и чувствовал, что меня рассматривают очень внимательно, однако не понимал, что именно они говорят. Мне показалось только – скорее по интонациям, – что капитан судна сказал: «Час Шестой еще не пробил» – и потом сердито ответил кому-то: «Какое мне дело до этого? Король сослал его, и я подчинюсь королевскому указу, но это ведь тоже человек».
Итак, вопреки приказам, полученным по радио от людей Тайба с берега, вопреки возражениям команды, опасавшейся наказания, этот офицер кусебенской портовой охраны перевез меня через залив Чарисун целым и невредимым и высадил в Оргорейне в порту Шелт. Не знаю, поступил ли он так, руководствуясь собственным шифгретором, восстав против безжалостных слуг Тайба, готовых убить безоружного, или просто из доброты. Это и неважно. Нусутх. Как говорится, прекрасное необъяснимо.
Я впервые поднялся на ноги, когда увидел, как побережье Орготы выплывает из утреннего тумана. Потом я заставил себя как можно скорее пойти прочь от корабля по приморским улочкам Шелта, но вскоре, видимо, снова упал. А когда очнулся, то обнаружил, что нахожусь в общественном госпитале Комменсалии чарисунского Округа номер четыре; в двадцать четвертой Комменсалии Сеннетни. У меня были все возможности в этом удостовериться: эта надпись на орготском языке имелась на спинке кровати, на подставке настольной лампы, на металлической чашке, стоявшей на столике, на самом столике, на одежде сиделки, на простынях и моей ночной рубашке. Вошел врач и сказал:
– Почему вы сопротивлялись дотхе?
– Я не погружался в дотхе, – изумился я. – В меня просто стреляли из акустического ружья.
– Все симптомы указывают на то, что вы сопротивлялись релаксационной фазе дотхе.
Он не допускал возражений, этот строгий врач, и в итоге заставил меня признать, что я, возможно, все-таки использовал силу дотхе, чтобы преодолеть парализующее воздействие акустического шока: ведь я греб как бешеный, даже не отдавая себе отчета в том, что делаю; а потом, утром, во время фазы танген, когда нужно соблюдать полный покой, я, оказавшись на территории Орготы, решительно двинулся прочь от набережной и тем самым чуть не убил себя. Когда я все это припомнил и, к его большому удовлетворению, подтвердил первоначальный диагноз, он сообщил мне, что я смогу выйти из больницы лишь через день-два, и переключился на следующего больного. Следом за врачом явился Инспектор.
Следом за каждым человеком в Оргорейне непременно появляется Инспектор.
– Имя?
Я не попросил его прежде назвать свое. Придется учиться жить, не отбрасывая тени, как они это делают в Оргорейне, – не обижаться самому и не обижать без причины других. Но своей родовой фамилии я ему не назвал: никому нет до нее дела.
– Терем Харт? Это не орготское имя. Из какой вы Комменсалии?
– Я из Кархайда.
– Это государство не входит в число Комменсалий Оргорейна. Покажите мне ваши документы, разрешение на въезд и удостоверение личности.
А интересно, где мои документы?
Я, видно, достаточно долго провалялся на улице, прежде чем кто-то подвез меня до госпиталя и сдал туда – без документов, без денег, без верхней одежды, босиком… Когда я узнал об этом, то, вместо того чтобы рассердиться, только засмеялся: упав на дно колодца, не имеет смысла гневаться. Смех мой Инспектора явно оскорбил.
– Разве вы не понимаете, что явились без документов и без разрешения в чужое государство? Как вы намереваетесь вернуться обратно в Кархайд?
– В гробу.
– Прекратите ваши неуместные шутки и отвечайте мне как официальному лицу. Если вы не намерены возвращаться на родину, то здесь вас пошлют на Добровольческую Ферму – там самое место всяким подонкам и отщепенцам, а также нарушителям государственной границы! Иного места в Оргорейне для попрошаек и бунтовщиков нет. Лучше бы вам все-таки заявить о своем намерении вернуться в Кархайд в течение трех дней, иначе я…
– Из Кархайда я выписан навечно.
Врач, который как раз в этот момент кончил заниматься с моим соседом, услышав мое имя, отвел Инспектора в сторонку и о чем-то некоторое время шептался с ним. После чего Инспектор несколько скис и, вернувшись ко мне, процедил сквозь зубы:
– В таком случае, я полагаю, вам следует подать прошение о разрешении на постоянное проживание в Великой Комменсалии Оргорейна и функционировании в качестве одной из государственных единиц – учитывая ваши прежние способности и возможности.
– Да, конечно, – ответил я.
Шутить с этим типом мне абсолютно расхотелось, особенно когда он произнес слово «постоянное» – самое зубодробительное из всех его чудовищных слов.
Через пять дней, согласно моему заявлению, мне был предоставлен вид на жительство: я стал «государственной единицей» города Мишнори (как и просил), получил временное удостоверение личности и мог отправляться туда немедленно. Мне пришлось бы здорово поголодать эти пять дней, если бы старый врач не оставил меня в больнице. Ему доставляло удовольствие держать под своим присмотром в палате премьер-министра Кархайда, и премьер-министр был ему очень за это благодарен.
Я отработал проезд до Мишнори грузчиком на машинах со свежей рыбой, идущих караваном из Шелта. Это было не очень продолжительное, но очень «пахучее» путешествие, окончившееся на одном из огромных рынков Южного Мишнори, где я вскоре подыскал себе и постоянную работу. В таких местах летом всегда есть работа – разгрузка, погрузка, хранение, упаковка, укладка, перевозка скоропортящихся продуктов. Я имел дело в основном с рыбой; так что и поселился неподалеку от рынка вместе со своими напарниками по работе в леднике. «Рыбный Остров» прозвали они свой дом. Мы буквально провоняли рыбой, но мне нравилось, что большую часть дня приходится проводить в холодном погребе. Мишнори летом напоминает парную баню. С ледников даже не тянет прохладой, вода в реке только что не кипит, люди плавают в собственном поту. В течение целого месяца Окре средняя температура была не ниже пятнадцати градусов, а однажды днем поднялась до тридцати двух! Когда под конец рабочего дня приходилось выбираться из холодного, пропахшего рыбой убежища в это вонючее пекло, я обычно проходил километра три до набережной Кундерер, где росли деревья и можно было сверху смотреть на великую реку, хотя к воде спуститься было нельзя. Там я торчал допоздна, а потом тащился к себе, на Рыбный Остров, и горячий, густой ночной воздух облеплял меня, как влажная простыня. В той части Мишнори, где я жил, уличные фонари обычно бывали разбиты всякой шпаной и прочими любителями темноты. По темным улочкам без конца шныряли машины Инспекторов, высвечивая фарами прохожих, отнимая у бедного люда его единственную собственность – ночь.
Новый закон о регистрации иностранцев, вступивший в действие в следующем месяце, Кус, и ставший новым шагом в поединке Оргорейна с Кархайдом, аннулировал мой вид на жительство, и я, лишившись работы, полмесяца провел в приемных бесконечных Инспекторов. Мои бывшие напарники давали мне денег в долг и воровали для меня рыбу, так что с голоду я умереть не успел, прежде чем мне снова выдали вид на жительство, однако урок получил хороший. Мне, пожалуй, даже нравились мои новые друзья – надежные, крепкие парни, – хотя жили они в ловушке, выхода из которой не было. Я же должен был делать свое дело и возвращаться в общество таких людей, которые нравились мне куда меньше. Наконец я все-таки позвонил тем, встречу с которыми откладывал долгих три месяца.
На следующий день я стирал свою рубаху в прачечной Рыбного Острова среди прочих его обитателей; все мы были совсем или наполовину голые, кругом клубы пара, рыбная вонь, грязь… и тут сквозь плеск воды я услышал, как кто-то позвал меня, причем моим родовым именем. Это оказался Комменсал Иегей, который и в грязной прачечной выглядел точно так же, как когда-то во время приема Полномочного Посла Архипелага в парадном зале королевского дворца в Эренранге. Это было месяцев семь тому назад.
– Может быть, вы все-таки выйдете отсюда, Эстравен? – громко и высокомерно сказал он своим высоким гнусавым голосом, этот мишнорский богатей. – Да оставьте вы, черт возьми, эту рубаху!
– Другой у меня нет.
– Тогда вылавливайте ее поскорей из этого вонючего супа и ступайте за мной. Здесь несколько жарковато.
Мои соседи уставились на него с суровым любопытством, понимая, что перед ними человек очень богатый. Откуда им было знать, что это не кто-нибудь, а Комменсал. Мне было неприятно, что он сам явился сюда, ему бы следовало послать кого-нибудь за мной. Жители Орготы чаще всего имеют весьма слабое представление о приличиях. Мне хотелось, чтобы он поскорее ушел из прачечной. Мокрую рубашку все равно невозможно было надеть, поэтому я попросил одного бездомного, который вечно слонялся возле нашего Острова, постеречь ее для меня, пока я не вернусь. Долги мои я отдал, за жилье заплатил, документы были в кармане хайэба. Так, без рубашки, я и покинул Рыбный Остров близ рыночной площади и пошел следом за Иегеем туда, где жили власть имущие.
В качестве «секретаря» Иегея я снова был перерегистрирован, но уже не как полноправный житель Оргорейна, а как Депендент. Имен для них всегда недостаточно, им необходимо прежде всего наклеить соответствующий ярлык, тогда в их классификации для тебя моментально находится место, даже если о сущности твоей они и понятия не имеют. Но на этот раз ярлык был точно к месту: я на самом деле был Депендентом, подчиненным и зависимым лицом, и вскоре мне не раз предстояло проклинать ту цель, что привела меня сюда, заставила есть чужой хлеб и быть у кого-то на иждивении, ибо в течение целого месяца в жизни моей не было ни малейшего просвета, ни малейшего намека на то, что я хоть сколько-нибудь приблизился к искомой цели. С тем же успехом можно было оставаться и на Рыбном Острове.
В последний день лета, уже к вечеру, Иегей послал за мной. Шел дождь. Я явился в его кабинет и застал там Комменсала округа Секиве, Обсла, которого знавал еще в те времена, когда он возглавлял Представительство торгового флота Орготы в Эренранге. Короткий и важный, с маленькими треугольными глазками на плоском, жирном лице, Обсл составлял странную пару с тощим и изящно-изысканным Иегеем. Старая жирная карга и великосветский щеголь – вот как они выглядели рядом; но было в этом сочетании и что-то неуловимо важное, что исходило сразу от них обоих: оба входили в состав Тридцати Трех, что правили Оргорейном; но и помимо этого в союзе Обсла и Иегея крылась какая-то тайна.








