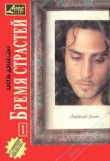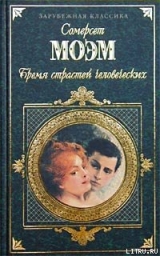
Текст книги "Бремя страстей человеческих"
Автор книги: Уильям Моэм
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
40
Через несколько дней миссис Кэри отправилась на вокзал проводить Филипа. Она стояла у двери вагона, глотая слезы. Филип был оживлен и полон нетерпения. Ему хотелось, чтобы поезд поскорее отошел.
– Поцелуй меня еще разок, – попросила она.
Он высунулся из окна вагона и поцеловал ее. Поезд тронулся, а она все стояла на перроне маленькой станции и махала платком, пока поезд не скрылся из виду. На сердце у нее было тяжко, и дорога до дома показалась ей нескончаемо долгой. «Ничего удивительного, что ему не терпелось поскорее уехать, – думала она, – он ведь еще мальчик, и его манит будущее, а вот ей, ей…» И она изо всех сил стиснула зубы, чтобы не заплакать. Мысленно она помолилась Богу, чтобы он оградил ее мальчика от всякого зла и соблазна, даровал ему счастье и удачу.
Но Филип забыл и думать о ней, как только сел в вагон. Он думал только о будущем. Он написал миссис Оттер – massiere, к которой Хейуорд дал ему рекомендательное письмо, и в кармане у него лежало ее приглашение на завтра к чаю. Приехав в Париж, Филип велел погрузить свои вещи на извозчика и медленно покатил по оживленным улицам, через мост, по узеньким переулкам Латинского квартала. Он сиял комнату в «Отель де дез эколь» на одной из самых захудалых улочек возле бульвара Монпарнас, откуда ему рукой было подать до шкоды «Аматрано», где он собирался учиться. Лакей снес его сундук на пятый этаж, и Филипа провели в крошечную комнатушку, очень душную, так как окна не открывались. Большую часть номера занимала громадная деревянная кровать с балдахином из красного репса; на окнах висели засаленные портьеры из той же материи; комод служил и умывальником, а тяжелый гардероб был в стиле, который принято приписывать доброму королю Луи-Филиппу. Обои выцвели от времени; они были темно-серые, и на них можно было различить гирлянды из коричневых листьев. Филипу комната показалась забавной и очень уютной.
Время было позднее, но Филип, слишком возбужденный, чтобы заснуть, спустился вниз и пошел по бульвару, туда, где горели огни. Они привели его на вокзал; площадь перед ним была освещена дуговыми фонарями. Яркий свет, грохот сновавших во все стороны желтых трамваев так обрадовали Филипа, что он громко засмеялся. Повсюду были открыты кафе, и, захотев пить, а главное – получше разглядеть толпу, он уселся за столик перед «Кафе де Версай». Ночь была теплая, и за столиками сидело много народу; Филип жадно разглядывал посетителей: тут были мужья с женами и детьми, компания бородатых мужчин в каких-то странных головных уборах, которые громко разговаривали и размахивали руками; рядом с ним сидели двое мужчин, похожих на художников, с дамами, которые, надо надеяться, не были их законными женами; за сливой какие-то американцы отчаянно спорили об искусстве. Филип был взволнован до глубины души. Он сидел долго, усталый с дороги, но такой счастливый, что с трудом заставил себя подняться с места, а, когда наконец лег спать, уснуть все равно не мог и прислушивался к многоголосому шуму Парижа.
На следующий день, часов в пять, он отправился к Бельфорскому Льву и на новой улице, которая шла от бульвара Распай, нашел квартиру миссис Оттер. Это бесцветное существо, лет тридцати, провинциального склада, усиленно изображало даму из общества; она познакомила его со своей матерью. Из разговора выяснилось, что миссис Оттер учится в Париже уже три года и не живет со своим мужем. В маленькой гостиной висели два написанных ею портрета; на неопытный взгляд Филипа, сделаны они были мастерски.
– Неужели и я когда-нибудь смогу так хорошо писать! – воскликнул Филип.
– Надеюсь, что да, – сказала ода не без самодовольства. – Но сразу всему не научишься.
Она была очень любезна и дала ему адрес магазина, где он мог купить себе папку, бумагу для рисования и уголь.
– Я пойду в «Амитрано» завтра к девяти и, если вы будете там в это время, позабочусь, чтобы вы получили удобное место.
Она спросила, с чего он собирается начать, и Филипу не захотелось показать, как он мало разбирается в этом новом для него деле.
– Да как вам сказать… Прежде всего надо научиться рисовать как вы, – ответил он.
– Вот молодец! Другие ужасно торопятся. А я не притрагивалась к маслу целых два года, и посмотрите – вот вам результат.
Она взглянула на портрет матери – довольно топорное изображение, висевшее над пианино.
– И на вашем месте я была бы осторожнее в выборе знакомых. Не стала бы, например, водиться со всякими иностранцами. Я лично очень разборчива в своих знакомствах.
Филип поблагодарил ее за совет, но он показался ему странным. Ему не очень-то хотелось быть разборчивым.
– Мы живем так, словно и не уезжали из Англии, – вставила молчавшая до сих пор мать миссис Оттер. – Мы даже перевезли сюда всю нашу обстановку.
Филип оглядел комнату. Она была заставлена громоздкой мебелью, а на окнах висели такие же кружевные гардины, какие тетя Луиза вешала на лето. Пианино было задрапировано блестящим шелком и каминная доска тоже. Миссис Оттер поймала его взгляд.
– Вечером, когда закрываешь ставни, и в самом деле кажется, будто ты не уезжал из Англии.
– И едим мы то же самое, что ели дома, – добавила мать. – На завтрак мясо, обедаем в середине дня…
Выйдя от миссис Оттер, Филип отправился покупать рисовальные принадлежности, а наутро, ровно в девять, явился в школу, изо всех сил стараясь не выдать, как он робеет. Миссис Оттер была уже там и подошла к нему с приветливой улыбкой. Его тревожило, как его примут другие ученики: Филип не раз читал, какими грубыми шутками встречают новичков в некоторых студиях. Но миссис Оттер его успокоила:
– Ну, у нас не бывает ничего подобного. Чуть не половина наших учеников – дамы. Они-то и задают тон.
Студия была просторной и пустой, на серых стенах были наколоты премированные рисунки. На стуле сидела натурщица в небрежно накинутом халате, а вокруг нее стояло человек десять мужчин и женщин. Кое-кто из них разговаривал, остальные заканчивали свои наброски. Это был перерыв, натурщица отдыхала.
– На первых порах не беритесь за что-нибудь слишком трудное, – сказала миссис Оттер. – Поставьте мольберт сюда. Вы увидите, что с этой точки ее рисовать проще всего.
Филип поставил мольберт, куда она показала, и миссис Оттер познакомила его с молодой женщиной, сидевшей с ним рядом.
– Мистер Кэри, мисс Прайс. Мистер Кэри еще только начинает учиться, будьте добры, помогите ему немножко, пока он не освоится. – Потом она обратилась к натурщице: – La pose[42]42
в позу (фр.)
[Закрыть].
Натурщица бросила «Птит репюблик», которую читала, и, недовольно скинув халат, влезла на помост. Она встала, слегка расставив для устойчивости ноги, и закинула руки за голову.
– Дурацкая поза, – сказала мисс Прайс. – Не пойму, зачем они такую выбрали.
Когда Филип вошел в студию, на него посмотрели с любопытством и даже натурщица равнодушно скользнула по нему взглядом, но теперь никто больше не обращал на него внимания. Филип, сидя перед чистым листом бумаги, смущенно поглядывал на натурщицу. Он не знал, с чего начать. Филип никогда не видел обнаженной женщины. Она была уже не молода, с дряблой грудью. Бесцветные русые волосы в беспорядке падали на лоб, кожа была покрыта крупными веснушками. Филип бросил взгляд на рисунок мисс Прайс. Она работала над ним только два дня, и видно было, что ей нелегко: бумага стала шершавой от беспрерывного стирания резинкой, и, на взгляд Филипа, фигура казалась как-то странно перекошенной.
«Надо надеяться, что я сделаю не хуже», – подумал он.
Он начал рисовать голову, собираясь перейти от нее к торсу и ниже, но почему-то рисовать с натуры оказалось бесконечно труднее, чем по памяти. Он запутался и украдкой поглядел на мисс Прайс. Она работала с ожесточением. Брови ее были сдвинуты; глаза горели тревогой. В студии было жарко, и на лбу у нее выступили капельки пота. Это была девушка лет двадцати шести с густыми матово-золотистыми волосами; волосы были красивые, но небрежно причесаны: стянуты со лба назад и кое-как закручены в узел. Лицо широкое, одутловатое, с приплюснутым носом и небольшими глазами; кожа скверная, с какой-то нездоровой бледностью. Выглядела она немытой, неухоженной – невольно казалось, что она и спит, не раздеваясь. Держалась мисс Прайс серьезно и молчаливо. Когда снова объявили перерыв, она отошла, чтобы поглядеть на свою работу.
– Непонятно, зачем я так мучаюсь, – сказала она. – Но мне хочется, чтобы все было правильно. – Она посмотрела на Филипа. – А как ваши дела?
– Да никак, – ответил он с невеселой улыбкой.
Она поглядела на его рисунок.
– А на глазок ничего у вас и не выйдет. Надо найти пропорции. И расчертить бумагу.
Она быстро показала ему, как взяться за дело. Филипу понравилось ее серьезное отношение к занятиям, но его отталкивало, что она так некрасива. Он был благодарен ей за помощь и снова принялся за работу. В это время в студии прибавилось народу (главным образом мужчин, потому что женщины всегда приходили первыми), и для начала сезона учеников набралось довольно много. Вскоре в комнату вошел молодой человек с жидкими черными волосами, громадным носом и длинным лицом, в котором было что-то лошадиное. Он сел по другую руку от Филипа и кивнул издали мисс Прайс.
– Как вы сегодня поздно, – сказала она. – Только что встали?
– День уж очень славный. Захотелось полежать в достели и помечтать о том, как хорошо на улице.
Филип засмеялся, но мисс Прайс отнеслась к словам его соседа совершенно серьезно.
– Странно. По-моему, куда разумнее было бы выйти и погулять на воздухе.
– Путь юмориста усеян терниями, – сказал молодой человек, даже не улыбнувшись.
Ему, видимо, не хотелось работать. Поглядев на свой холст – он писал маслом и вчера уже набросал фигуру натурщицы, – сосед повернулся к Филипу.
– Только что из Англии?
– Да.
– А как вы попали в «Амитрано»?
– Это – единственная школа, о которой я знал.
– Надеюсь, у вас нет иллюзии, будто здесь вас могут научить чему-нибудь полезному?
– Но это лучшая школа в Париже, – сказала мисс Прайс. – Тут к искусству относятся серьезно.
– А кто сказал, что к искусству надо относиться серьезно? – спросил молодой человек и, так как мисс Прайс презрительно передернула плечами, добавил: – Дело в том, что всякая школа плоха. Она по самой своей природе академична. Эта школа не так вредна, как другие, потому что учат здесь хуже, чем где бы то ни было. А раз вы ничему не можете научиться…
– Тогда зачем же вы сюда ходите? – прервал его Филип.
– «Я знаю более прямую дорогу, но не иду по ней». Мисс Прайс – женщина образованная, она скажет, как это по-латыни.
– Прошу вас не впутывать меня в ваши разговоры, мистер Клаттон, – отрезала мисс Прайс.
– Единственный способ научиться писать, – продолжал он невозмутимо, – это снять мастерскую, взять натурщицу и выбиваться в люди самому.
– Разве это так трудно? – спросил Филин.
– На это нужны деньги.
Он принялся рисовать, и Филип стал его искоса разглядывать. Клаттон был высок и отчаянно худ; его крупные кости словно торчали из тела; острые локти, казалось, вот-вот прорвут рукава ветхого пиджака. Брюки внизу обтрепались, а на каждом из башмаков красовалась грубая заплата. Мисс Прайс встала и подошла к мольберту Филипа.
– Если мистер Клаттон хоть минуту помолчит, я вам немножко помогу.
– Мисс Прайс не любит меня за то, что у меня есть чувство юмора, – сказал Клаттен, задумчиво рассматривая свой холст. – Но ненавидит она меня за то, что я – гений.
Он произнес эти слова с таков важностью, а лицо его, на котором выделялся огромный уродливый нос, было так комично, что Филип расхохотался. Однако мисс Прайс побагровела от злости.
– Только вы один и подозреваете себя в гениальности.
– Один я хоть в какой-то мере и могу об этом судить.
Мисс Прайс стала разбирать работу Филипа. Она бойко рассуждала от анатомии, композиции, планах, линиях, а также о многом другом, чего Филип не понял. Мисс Прайс посещала студию уже очень давно и знала, какие требования мастера предъявляют к ученикам; но, хотя она и могла показать, в чем ошибки Филипа, подсказать ему, как их исправить, она не умела.
– Я страшно вам благодарен за то, что вы так со мной возитесь, – сказал ей Филин.
– Чепуха, – ответила она, покраснев от смущения. – Вы или другой – какая разница! И мне помогали, когда я начинала учиться.
– Мисс Прайс желает подчеркнуть, что она делится с вами своими познаниями только из чувства долга, а отнюдь не ради ваших прекрасных глаз, – пояснил Клаттон.
Мисс Прайс кинула на него разъяренный взгляд и вернулась к своему наброску. Часы пробили двенадцать, и натурщица, с облегчением вздохнув, спустилась с помоста.
Мисс Прайс собрала свое имущество.
– Кое-кто из наших ходит обедать к «Гравье», – сказала она Филипу, посмотрев на Клаттона. – Лично я ем дома.
– Если хотите, я свожу вас к «Гравье», – предложил Клаттон.
Филип поблагодарил и собрался идти с ним. У выхода миссис Оттер осведомилась, как его дела.
– Фанни Прайс вам помогла? – спросила она. – Я посадила вас рядом, понимая, что она может быть вам полезна – если, конечно, захочет. Она очень неприятная, желчная девица и совсем не умеет рисовать, но знает здешние порядки и может помочь новичку, если на нее найдет такой стих.
На улице Клаттон сказал Филипу:
– Вы покорили сердце Фанни Прайс. Берегитесь!
Филип засмеялся. Он еще не встречал человека, сердце которого ему меньше хотелось бы покорить. Они подошли к дешевенькому ресторанчику, который посещали многие ученики их школы, и сели. За столиком уже обедали трое или четверо молодых людей. Им подали яйцо, мясо, сыр и маленькую бутылку вина, и все это стоило один франк; За кофе платили отдельно. Столики были расставлены прямо на тротуаре, и мимо них по бульвару, без отдыха звеня, сновали маленькие желтые трамваи.
– Кстати, как вас зовут? – спросил Клаттон, усаживаясь.
– Кэри.
– Разрешите, господа, представить вам моего старого, верного друга по фамилии Кэри, – произнес Клаттон. – Мистер Фланаган, мистер Лоусон.
Посмеявшись, молодые люди продолжали свой разговор. Болтали о тысяче разных вещей и все разом. Никто не обращал никакого внимания на собеседников. Рассказывали о том, где побывали летом, о своих мастерских, о различных школах, называли незнакомые Филипу имена: Моне, Мане, Ренуар, Писарро, Дега. Филип слушал, затаив дыхание, и, хотя все это было ему еще чуждо, сердце его замирало от восторга. Время летело. Клаттон встал из-за стола и сказал Филипу:
– Если вам захочется, приходите сюда вечером: я, наверно, буду. Для того чтобы обзавестись катаром желудка, лучше места не найдешь. Но зато не найдешь и дешевле во всем Латинском квартале.
41
Филип прошелся по бульвару Монпарнас. Этот Париж был совсем не похож на тот, что он видел весной, когда приезжал проверять счета отеля «Сент-Джордж», – о том периоде жизни он не мог теперь думать без дрожи. Все здесь скорее напоминало провинцию, дышало каким-то привольем, простотой, нагретый солнцем простор навевал мечтательное настроение. Стройные подстриженные деревья, яркая белизна стен, широкая улица ласкали глаз, и Филип чувствовал себя здесь совсем как дома. Он брел по тротуару, разглядывая прохожих; казалось, что и в самом простом рабочем в широких штанах, подпоясанных красным кушаком, и в щуплых солдатиках, одетых в поношенные, но изящные мундиры, есть какая-то удивительная элегантность. Дойдя до авеню д'Обсерватуар, он даже вздохнул от удовольствия, поглядев на открывшуюся перед ним величественную и все же полную грации панораму. Он вошел в Люксембургский сад; на дорожках играли дети и парочками прогуливались няньки с длинными лентами на чепцах, мимо шли деловые люди с портфелями под мышкой и какие-то странно одетые юноши. Пейзаж был строгий, изысканный, природа причесана и одета, но с таким вкусом, что рядом с ней непричесанная и неодетая природа показалась бы просто варварством. Филип был очарован. Его волновало, что вот он стоит на месте, о котором столько читал, – земля эта была для него священна; он чувствовал такое же благоговение, какое испытывает старый знаток античности, глядя впервые на ласковую долину Спарты.
Гуляя, он увидел мисс Прайс, одиноко сидевшую на скамейке. Он поколебался, подойти ли к ней, – ему в эту минуту ни с кем не хотелось разговаривать, к тому же ее нескладная внешность не гармонировала с той прелестью, которая была разлита вокруг, – но он чутьем угадал, что она болезненно обидчива, и, так как она его явно заметила, решил, что будет невежливо пройти мимо.
– Что вы здесь делаете? – спросила она, когда он к ней подошел.
– Радуюсь жизни. А вы?
– А я каждый день прихожу сюда от четырех до пяти. Мне кажется, что вредно работать весь день без перерыва.
– Можно присесть с вами рядом?
– Если хотите.
– Не скажу, чтобы вы были очень любезны, – засмеялся он.
– А я не мастерица говорить любезности.
Филип был слегка обескуражен и молча закурил сигарету.
– Говорил вам Клаттон что-нибудь насчет моих вещей? – спросила она вдруг.
– Нет, кажется, не говорил.
– Знаете, а он ведь ничтожество. Он думает, что он гений! Но это неправда. Во-первых, он лентяй. А гений – это беспредельная способность трудиться. Единственный путь – это работать не покладая рук. И, если ты всерьез решил чего-то достигнуть, ты своего добьешься.
Она говорила со страстной настойчивостью, в которой звучала какая-то сила. На ней была матросская шляпка из черной соломки, белая блузка не первой свежести и коричневая юбка. Руки без перчаток нуждались в мыле и щетке. Вид у нее был такой неприглядный, что Филип пожалел: зачем он с ней заговорил? Да и трудно было понять, хочет она, чтобы он остался или ушел.
– Для вас я сделаю все, что смогу, – сказала она вдруг без какой бы то ни было связи с предыдущим разговором. – Я ведь знаю, как это трудно.
– Большое спасибо, – ответил Филип. И, помолчав немножко, добавил: – Давайте выпьем где-нибудь чаю.
Она метнула на него взгляд и залилась краской. Когда она краснела, ее одутловатое лицо покрывалось некрасивыми пятнами и становилось похоже на мятую землянику со сливками.
– Нет, спасибо. Очень мне нужен ваш чай! Я только что обедала.
– Да просто посидим в кафе, – сказал Филип. – Скоротаем время.
– Если время вам в тягость, зачем вы принуждаете себя со мной сидеть? Я ничуть не огорчусь, если останусь одна.
В эту минуту мимо них прошли два молодых человека в вельветовых куртках, широченных брюках и беретах. Несмотря на молодость, оба были с бородой.
– Как по-вашему, они художники? – спросил Филип. – Можно подумать, что это ожившие герои «Жизни богемы».
– Это американцы, – презрительно сморщилась мисс Прайс. – Французы уж тридцать лет не носят ничего подобного, а вот американцы с Дальнего Запада, как приедут в Париж, нарядятся в такие костюмы и бегут к фотографу. Вот и все, что у них есть общего с искусством! Но им-то что, у них много денег!
Филипу нравилась смелая живописность костюма американцев, ему казалось, что она свидетельствует о романтическом взгляде на жизнь. Мисс Прайс осведомилась, который час.
– Мне пора в студию, – сказала она. – А вы придете на эскизы?
Филип не знал, о чем она говорит, и мисс Прайс объяснила, что по вечерам от пяти до шести в студии сидела натурщица и каждый, кто хотел, мог прийти и рисовать, заплатив пятьдесят сантимов. Ежедневно у них другая модель, и эти уроки очень полезны.
– Думаю, что вам еще рано, – сказала она. – Надо сперва немножко подучиться.
– А почему бы не попробовать? Все равно мне нечего делать.
Они встали и пошли в студию. Мисс Прайс держала себя так, что Филип не мог понять, надо ему идти с ней или она предпочитает побыть одна. Он остался из чистого смущения, не зная, как от нее уйти, но она не пожелала с ним разговаривать и на его вопросы отвечала крайне нелюбезно.
У дверей студии стоял человек с большим блюдом, куда каждый входящий клал свои полфранка. В студии было более людно, чем утром, но теперь здесь стало меньше англичан и американцев, да и женщин как будто бы тоже поубавилось. Филипу показалось, что эта публика больше соответствует тому, что он ожидал здесь встретить. В комнате было жарко, скоро стало нечем дышать. На этот раз позировал старик с огромной седой бородой, и Филип старался выполнить то, чему успел научиться утром, но дело шло у него неважно; он понял, что рисует гораздо хуже, чем предполагая. Он с завистью поглядывал на эскизы своих соседей и думал, что вряд ли когда-нибудь сумеет так мастерски владеть углем. Час прошел незаметно. Не желая навязывать свое общество мисс Прайс, он сел от нее поодаль, но в конце урока, когда он шел мимо нее к выходу, она коротко спросила, каковы его успехи.
– Да не слишком хороши, – улыбнулся он.
– Если бы вы удостоили меня вашим обществом и сели поближе, я могла бы вам кое-что подсказать. Но вы, видно, зазнаетесь.
– Да совсем наоборот! Я боялся быть вам в тягость.
– Когда вы мне будете в тягость, я не постесняюсь вам об этом сказать.
Филип понял, что, несмотря на грубоватый тон, она готова оказать ему помощь.
– Тогда я завтра просто не отстану от вас.
– Ну что ж, – сказала она.
Филип вышел, раздумывая, чем бы ему заняться до ужина. Ему захотелось отведать что-нибудь чисто парижское. Absinthe![43]43
абсент (фр.)
[Закрыть] Конечно, вот что надо бы попробовать. Филип медленно побрел к вокзалу, сел за столик одного из кафе и заказал абсент. Пил он через силу, но зато с чувством удовлетворения. Вкус ему показался противным, но действие оказалось великолепным: каждой клеткой своего существа Филип ощущал себя настоящим художником, а, так как пил он на пустой желудок, настроение стало у него просто радужным. Глядя на прохожих, он чувствовал, что все люди – его братья. Он был счастлив. Когда Филип пришел к «Гравье», столик, за которым сидел Клаттон, был занят, но художник, увидев, как Филип, хромая, идет по проходу, подозвал его к себе. Соседи потеснились и освободили для Филипа место. Подали ужин: тарелку супа, мясо, фрукты, сыр и полбутылки вина, но Филип не обращал внимания на то, что ест: он больше разглядывал людей, сидевших за столиком. Тут опять был Фланаган – низенький, курносый молодой американец с открытым лицом и смеющимся ртом. На нем были длинная куртка из довольно пестрой ткани, синее кашне и матерчатая кепка странного фасона.
В ту пору в Латинском квартале царил импрессионизм, но его победа над старой школой была еще совсем недавней, и Каролюса-Дюрана, Бугеро и иже с ними до сих пор противопоставляли Мане, Моне и Дега. Восхищаться этими художниками было до сих пор признаком изысканного вкуса. Влияние Уистлера на англичан и его соплеменников было очень сильно, а люди сведущие коллекционировали японские гравюры. К старым мастерам предъявляли новые требования. То поклонение, которым веками был окружен Рафаэль, теперь вызывало у передовых молодых людей только издевку. Они с легкостью променяли бы все его полотна на портрет Филиппа IV работы Веласкеса, висевший в Национальной галерее.
Вокруг Филипа загорелся горячий спор об искусстве. Напротив него сидел Лоусон, с которым он познакомился за завтраком. Это был худой рыжий юноша с веснушками и ярко-зелеными глазами. Как только Филип уселся за столик, он уставился на него и вдруг произнес:
– Рафаэль был сносным художником только тогда, когда писал чужие картины. Он очень мил, когда пишет за Перуджино или Пинтуриккьо, но в картинах Рафаэля, – произнес он, презрительно пожимая плечами, – он всего-навсего Рафаэль.
Лоусон говорил так воинственно, что Филипа взяла оторопь, однако ему не пришлось возражать: в разговор нетерпеливо вмешался Фланаган.
– А ну его к дьяволу, это ваше искусство! – закричал он. – Давайте лучше наклюкаемся!
– Да вы ведь и вчера наклюкались, Фланаган, – сказал Лоусон.
– Это ничто по сравнению с тем, как я намерен клюкнуть сегодня. Какая глупость: приехать в Париж и думать все время только об искусстве. – Он говорил с резким американским акцентом. – О Господи, как хорошо жить! – Он выпрямился и стукнул кулаком по столу. – Говорю вам: к дьяволу ваше искусство!
– Вы это не только говорите, вы это повторяете с утомительной настойчивостью, – строго сказал ему Клаттон.
За столом сидел еще один американец. Он был одет, как те франты, которых Филип видел днем в Люксембургском саду. У него было красивое лицо – тонкое, аскетическое, с темными глазами; свое фантастическое одеяние он носил с дерзким видом морского пирата. На голове у него росла целая копна волос, которые падали ему на глаза, и он то и дело театрально откидывал голову назад, чтобы избавиться от назойливой пряди. Он заговорил об «Олимпии» Мане, висевшей тогда в Люксембургском музее.
– Я простоял перед ней сегодня целый час, и вы мне поверьте: картина совсем не так хороша.
Лоусон положил вилку и нож. Его зеленые глаза метали молнии, он задыхался от гнева, но видно было, что он старается сохранить спокойствие.
– Любопытно выслушать мнение дикаря, – сказал он. – Может, вы объясните, чем картина нехороша?
Не успел американец ответить, как кто-то другой закричал с жаром:
– Вы смеете утверждать, будто картина не хороша? Да ведь тело-то как написано!
– Я против этого не спорю. Я считаю, что правая грудь написана отлично.
– К черту правую грудь! – заорал Лоусон. – Вся картина – чудо живописи!
Он стал подробно описывать прелести картины, но за столиком у «Гравье» все разговаривали только для собственного просвещения. Никто друг друга не слушал. Американец сердито прервал Лоусона.
– Уж не хотите ли вы сказать, что и голова хорошо написана?
Белый от ярости Лоусон стал защищать голову, но в разговор вмешался молчавший до той поры Клаттон. Лицо его выражало добродушное презрение.
– Уступите ему голову. Нам голова не нужна. Она не играет в картине никакой роли.
– Ладно, отдаю вам голову, – закричал Лоусон. – Возьмите себе голову и будьте неладны!
– А что вы скажете насчет черной черты? – с торжеством прокричал американец, откидывая со лба прядь, которая чуть было не попала ему в суп. – В жизни предметы не бывают обведены черным.
– О Господи, испепели небесным огнем этого богохульника! – взмолился Лоусон. – При чем тут жизнь? Никто не знает, какая она, ваша жизнь! Люди познают жизнь такой, какой ее увидел художник. Столетиями художники изображали, как лошадь, перепрыгивая через изгородь, вытягивает все четыре ноги, и, видит Бог, господа, она их вытягивала! Люди видели тень черной, пока Моне не открыл, что она многоцветна, и, видит Бог, господа, тень была черной. Если мы станем окружать предметы черной чертой, люди будут видеть эту черную черту и, значит, она будет существовать в действительности, а если мы нарисуем траву красной и коров синими, их такими и увидят и, клянусь вам, трава станет красной и коровы – синими!
– К дьяволу искусство, – бормотал Фланаган. – Я хочу наклюкаться.
Лоусон не обращал на него никакого внимания.
– Помните, когда «Олимпию» вывесили в Салоне, Золя – несмотря на издевку мещан, шиканье pompiers[44]44
халтурщиков (фр.)
[Закрыть], академиков и толпы – сказал: «Я предвижу тот день, когда картина Мане будет висеть в Лувре напротив „Одалиски“ Энгра и от этого соседства выиграет отнюдь не „Одалиска“. И она там будет висеть! С каждым днем это время становится все ближе. Через десять лет „Олимпию“ повесят в Лувре.
– Никогда! – завопил американец, взмахнув обеими руками в отчаянной попытке раз навсегда избавиться от всех своих волос сразу. – Через десять лет об этой картине и не вспомнят! Это – мода, и больше ничего! Ни одна картина не может жить, если в ней нет того, чего начисто нет в вашей «Олимпии»!
– Чего?
– Великое искусство немыслимо без морального начала.
– О Господи! – в бешенстве закричал Лоусон. – Я знал, что вы до этого дойдете! Ему нужна мораль! – Сжав руки, он молитвенно простер их к небесам. – О Христофор Колумб, Христофор Колумб, что ты наделал, открыв Америку!
– Рескин говорит…
Но, прежде чем ему удалось добавить хоть слово, Клаттон властно постучал рукояткой ножа об стол.
– Господа, – сказал он сурово, и его огромный нос даже сморщился от возмущения. – Тут было произнесено имя, которое я надеялся больше не слышать в порядочном обществе. Свобода слова – дело похвальное, однако следует все же соблюдать хоть какие-то приличия. Можете говорить о Бугеро, если вам так уж хочется, – в самом звуке этого имени есть что-то шутовское, нечто смехотворное, но не будем же грязнить свои уста произнесением таких имен, как Джон Рескин, Уоттс или Берн-Джонс.
– А кто такой этот ваш Рескин? – спросил Фланаган.
– Один из столпов Викторианской эпохи. Великий английский стилист.
– Стиль Рескина – это пестрые лоскутья с лиловыми разводами, – заявил Лоусон. – И будь они прокляты, эти столпы Викторианской эпохи. Когда я развертываю газету и читаю, что один из этих столпов отправился на тот свет, я благодарю Господа, что еще одним из них стало меньше. Единственным их талантом было долголетие, а ни один художник не имеет права жить после сорока: в этом возрасте он уже создал свои лучшие произведения, потом он только повторяется. Разве вам не кажется, что Китсу, Шелли, Боннингтону и Байрону необычайно повезло, что они умерли молодыми? Каким бы гением казался нам Суинберн, если бы он погиб в тот день, когда вышла первая книга «Поэм и баллад»!
Идея эта всем понравилась, потому что ни одному из тех, кто сидел за столом, не было больше двадцати четырех, и они принялись с жаром ее обсуждать. Раз в кои-то веки они были единодушны. Они поочередно развивали эту мысль. Кто-то предложил развести огромный костер из работ сорока академиков и кидать в него живьем всех великих викторианцев в день их сорокалетия. Предложение было встречено с восторгом. Карлейль и Рескин, Теннисон, Броунинг, Дж.Ф. Уоттс, Э.Б. Джонс, Диккенс, Теккерей – всех их швырнули в огонь; туда же отправились Гладстон, Джон Брайт и Кобден. Немножко поспорили насчет Джорджа Мередита, но с Мэтью Арнольдом и Эмерсоном покончили без сожаления. Наконец настал черед Уолтера Патера.
– Только не Уолтера Патера! – прошептал Филип.
Лоусон вперил в него на минуту свои зеленые глаза, а потом кивнул.
– Да, вы правы: Уолтер Патер – единственное оправдание «Моны Лизы». Вы знаете Кроншоу? Он был знаком с Патером.
– Кроншоу – поэт. Он живет здесь. Пойдем в «Лила».
«Клозери де лила» было кафе, куда они часто ходили после ужина; там с девяти вечера до двух часов ночи всегда можно было встретить Кроншоу. Но Фланаган пресытился интеллектуальными разговорами и в ответ на предложение Лоусона обратился к Филипу:
– Вот еще! Пойдем лучше к девочкам. Махнем в «Гэте Монпарнас» и наклюкаемся.
– Да нет, я предпочитаю поглядеть на Кроншоу и остаться трезвым, – засмеялся Филип.