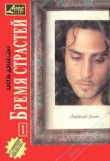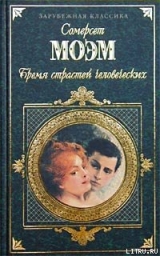
Текст книги "Бремя страстей человеческих"
Автор книги: Уильям Моэм
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
29
Настала зима. Уикс уехал в Берлин слушать лекции Паульсена, а Хейуорд стал подумывать об отъезде на юг. Местный театр начал давать представления. Филип и Хейуорд посещали их два-три раза в неделю с похвальным намерением усовершенствоваться в немецком языке; Филип нашел, что это куда более приятный способ изучать язык, чем слушая проповеди. Начинался расцвет новой драмы. В репертуаре было несколько пьес Ибсена; «Честь» Зудермана – тогда еще новинка – взбудоражила тихий университетский городок; одни ее непомерно хвалили, другие ожесточенно ругали; прочие драматурги тоже писали в новом духе, и Филип увидел ряд спектаклей, разоблачавших человеческую низость. До сих пор Филип никогда не бывал в театре (в Блэкстебл иногда заглядывали жалкие странствующие труппы, но священник не посещал спектаклей, боясь осквернить свой сан и считая театр зрелищем для черни); теперь юноша страстно увлекся сценой. Переступая порог маленького, убогого, плохо освещенного театрика, он испытывал трепет. Вскоре он уже хорошо знал небольшую труппу и по распределению ролей мог заранее угадать характеры действующих лиц, но это его не смущало. Для него на сцене шла подлинная жизнь. Жизнь странная, мрачная и мучительная, в которой мужчины и женщины показывали безжалостному взору зрителя все зло, которое таилось у них в душе: за красивой внешностью гнездился разврат; добродетель служила маской для тайных пороков; люди, казалось бы, мужественные трепетали от малодушия; честные были продажными, целомудренные – похотливыми. Вас словно приводили в комнату, где прошлой ночью шла оргия; окна с утра еще не открывались, воздух был пропитан запахом прокисшего пива, табака и светильного газа. Тут было не до смеха. Разве изредка усмехнешься над участью глупца или лицемера. Герои изъяснялись жестокими словами, – казалось, они исторгнуты из их сердец стыдом и страданиями.
Филипа увлекали эти низменные страсти. Он словно видел мир заново, по-другому, и ему не терпелось познать этот мир. После спектаклей они заходили с Хейуордом в пивную, где были свет и тепло; они съедали по бутерброду, запивая его стаканом пива. Кругом сидели, болтая и смеясь, компании студентов, а за некоторыми столиками – целые семьи: отец, мать, сыновья и дочь; порою дочь отпускала острое словцо, и отец откидывался на стуле, хохоча от души. Все тут выглядело мило и безобидно, дышало каким-то домашним уютом, но Филип не замечал ничего вокруг. Мысли его все еще были поглощены спектаклем.
– Ведь это и есть жизнь, правда? – говорил он с возбуждением. – Знаете, я, кажется, не смогу здесь дольше оставаться. Хочется уехать в Лондон и жить по-настоящему. Хочется испытать все. Мне так надоело готовиться к жизни – пора наконец начать жить.
Иногда Хейуорд предоставлял Филипу добираться до дому одному. Он никогда толком не отвечал на жадные расспросы Филипа, отделываясь Глуповатым смешком и намекая на какую-то любовную интрижку; цитировал строчки Россетти и как-то показал Филипу сонет, в котором поминались страсть и багрец, меланхолия и пафос, – и все это посвящалось некой молодой даме по имени Труда. Хейуорд любил окружать свои пошлые, незамысловатые похождения ореолом поэзии, воображая, будто ничем не уступает Периклу и Фидию, раз называет свою подружку греческим «hetaira»[20]20
Гетера.
[Закрыть], а не более грубым и точным английским словом. Однажды днем любопытство привело Филипа в переулок возле старого моста, застроенный опрятными белыми домиками с зелеными ставнями, где, по словам Хейуорда, жила его Труда; но из дверей выглядывали женщины с хищными лицами и накрашенными щеками и зазывали его. Филипа охватил страх, и он в ужасе бежал от их грубых и цепких объятий. Ему так хотелось познать жизнь, что он чувствовал себя смешным, не испытав еще в свои годы того, что, как писали в книгах, было самым важным в человеческой жизни; но, обладая злосчастным даром видеть вещи такими, какие они есть, он отступал перед действительностью, которая так резко отличалась от его идеала.
Он еще не знал, какую бескрайнюю, каменистую, полную опасности пустыню приходится преодолеть путешественнику по жизни, прежде чем он придет к примирению с действительностью. Ведь это иллюзия, будто юность всегда счастлива, – иллюзия тех, кто давно расстался с юностью; молодые знают, сколько им приходится испытывать горя, ведь они полны ложных идеалов, внушенных им с детства, а придя в столкновение с реальностью, они чувствуют, как она бьет их и ранит. Молодежи начинает казаться, что она стала жертвой какого-то заговора: книги, подобранные для них взрослыми, где все так идеализировано, разговоры со старшими, которые видят прошлое сквозь розовую дымку забвения, – все это готовит их к жизни, совсем непохожей на действительность. Молодежи приходится открывать самой, что все, о чем она читала и о чем ей твердили, – ложь, ложь и ложь; а каждое такое открытие – еще один гвоздь, пронзающий юное тело, распятое на кресте человеческого существования. Удивительнее всего, что тот, кто сам пережил горькое разочарование, в свою очередь, помимо воли, поддерживает лживые иллюзии у других. Для Филипа не могло быть ничего вреднее дружбы с Хейуордом. Это был человек, который не видел жизни своими глазами, а постигал ее только через книги и был вдвойне опасен тем, что убедил себя в своей искренности. Он непритворно принимал свою похоть за возвышенные чувства, слабодушие – за непостоянство артистической натуры, лень – за философское спокойствие. Ум его, пошлый в своих потугах на утонченность, воспринимая все в чуть-чуть преувеличенном виде, расплывчато, сквозь позолоченный туман сентиментальности. Он лгал, не зная, что лжет, а когда другие в этом его попрекали, говорил, что ложь прекрасна. Словом, он был идеалист.
30
Филип потерял покой. Намеки Хейуорда смутили его воображение; душа его жаждала романтики. Так он по крайней мере себя уверял.
К тому же в доме фрау Эрлин произошло событие, которое еще больше разожгло его интерес к женщине. Бродя по холмам в окрестностях города, он несколько раз встречал фрейлейн Цецилию – она гуляла в одиночестве. Поклонившись, он шел дальше и в нескольких шагах от нее встречал китайца. Филип не придавал этому значения, но однажды вечером, когда уже стемнело, он обогнал по пути домой две фигуры, которые шли, тесно прижавшись друг к другу. Услышав его шаги, они быстро отпрянули в разные стороны, и, хотя в темноте нельзя было их разглядеть, он узнал Цецилию и Суна. Их поспешное движение говорило о том, что раньше они шли под руку. Филип был озадачен. Он никогда не обращал внимания на фрейлейн Цецилию. Это была невзрачная девушка с грубыми чертами лица. Ей не могло быть больше шестнадцати, ее длинные светлые волосы все еще были заплетены в косу. В тот вечер за ужином он посмотрел на нее с любопытством; последнее время фрейлейн Цецилия была не очень разговорчива за столом, но на этот раз обратилась к нему с вопросом:
– Где вы сегодня гуляли, герр Кэри?
– Я поднимался на Кенигсштуль.
– А я вот никуда не выходила, – почему-то сообщила она. – У меня болела голова.
Сидевший рядом с ней китаец повернул голову.
– Какая жалость, – сказал он. – Надеюсь, вам сейчас лучше?
Фрейлейн Цецилии было явно не по себе, она снова заговорила с Филипом.
– А по дороге вы встречали много народу?
Как и всегда, когда ему приходилось лгать, Филип густо покраснел.
– Нет, я не встретил ни души.
Ему показалось, что она вздохнула с облегчением.
Вскоре, однако, всем стало ясно, что между этими двумя существует какая-то близость: обитатели дома фрау профессорши стали замечать, как они шепчутся в темных углах. Престарелые дамы, сидевшие во главе стола, принялись обсуждать назревающий скандал. Фрау профессорша сердилась и нервничала. Она изо всех сил делала вид, что ничего не замечает. Близилась зима, и найти пансионеров было не так легко, как летом. Герр Сун был хорошим жильцом: он занимал две комнаты в первом этаже и за обедом выпивал бутылку мозельского. Профессорша брала с него по три марки за бутылку и неплохо на этом зарабатывала. Никто из других гостей не пил вина, а многие не пили даже пива. Не хотелось ей терять и фрейлейн Цецилию, чьи родители имели торговое дело в Южной Америке и хорошо оплачивали материнские заботы фрау профессорши; стоит ей написать о том, что происходит, дяде девушки, живущему в Берлине, и он немедленно увезет Цецилию. Фрау профессорша ограничилась тем, что за столом бросала на парочку суровые взгляды и, не смея грубить китайцу, отводила душу, грубя Цецилии. Но трем престарелым дамам этого было мало. Две из них были вдовами, а третья, голландка по национальности, – мужеподобной старой девой; они платили за пансион гроши, а хлопот доставляли хоть отбавляй, но зато были постоянными жиличками и с ними приходилось считаться. Они явились к фрау профессорше и заявили, что необходимы какие-то меры; дело принимало неприличный оборот, и пансион мог приобрести дурную славу. Фрау профессорша пыталась упорствовать, сердиться, пустила в ход слезы, но три старые дамы одержали верх; почувствовав наконец прилив благородного негодования, фрау профессорша заявила, что сумеет положить этому конец.
После обеда она увела Цецилию к себе в спальню, чтобы серьезно с ней поговорить; к ее удивлению, девушка держалась вызывающе; она намерена вести себя так, как ей вздумается, и, если ей угодно ходить на прогулки с китайцем, кому какое дело? Фрау профессорша пригрозила написать дяде.
– Ну что ж, Onkel Heinrich[21]21
дядя Генрих (нем.)
[Закрыть] поместит меня на зиму в какой-нибудь семейный дом в Берлине, для меня это будет даже лучше. А герр Сун тоже переедет в Берлин.
Фрау профессорша расплакалась; слезы катились по ее шершавым, красным, жирным щекам, а Цецилия только смеялась.
– Это значит, что зимой у вас будут пустовать три комнаты, – сказала она.
Тогда фрау профессорша решилась применить другой метод. Она воззвала к лучшим чувствам фрейлейн Цецилии; она стала доброй, рассудительной, терпимой; она говорила с девушкой не как с ребенком, а как со взрослой женщиной. Она сказала, что все это не выглядело бы так страшно, если бы он не был китайцем – подумать только, мужчина с желтой кожей, плоским носом и маленькими поросячьими глазками! Вот что ужасно. Даже подумать противно!
– Bitte, bitte[22]22
прошу вас, прошу вас (нем.)
[Закрыть], – сказала Цецилия, немножко задыхаясь. – Я не желаю слушать о нем гадости.
– Но это же не серьезно? – ахнула фрау Эрлин.
– Я люблю его. Люблю его. Люблю его.
– Gott im Himmel![23]23
Владыко небесный! (нем.)
[Закрыть]
Фрау профессорша растерянно на нее уставилась; она-то думала, что это детский каприз, невинное увлечение, но страсть, звучавшая в голосе девушки, выдавала ее с головой. Цецилия поглядела на нее пылающим взором, а потом, передернув плечами, вышла из комнаты.
Фрау Эрлин никому не обмолвилась ни словом о подробностях этой беседы, но спустя день или два пересадила всех за столом. Герра Суна она попросила сесть рядом с собой, и тот сразу же согласился со свойственной ему вежливостью. Цецилия приняла этот новый распорядок равнодушно. Но, убедившись, что их отношения все равно известны, они словно совсем лишились стыда: перестали держать в секрете свои прогулки и каждый день после обеда открыто отправлялись в горы. Им было безразлично, что о них говорят. В конце концов даже профессор Эрлин потерял свою невозмутимость и настоял на том, чтобы его жена поговорила с китайцем. Она увела его к себе и принялась увещевать: он-де губит репутацию девушки, наносит урон всему дому, он и сам должен видеть, как предосудительно себя ведет. Но китаец улыбался и все отрицал; герр Сун ведать не ведал, о чем она толкует, он и не думал ухаживать за фрейлейн Цецилией, он никогда не ходил с ней гулять; все, что она рассказывает, – неправда, все, до последнего слова.
– Ах, герр Сун, как вы можете так говорить? Вас столько раз видели вместе.
– Нет, вы ошибаетесь. Это неправда.
Он глядел на нее, не переставая улыбаться, показывая ровные белые зубки. Он был безмятежно спокоен. И продолжал все отрицать, отрицать с вежливым бесстыдством. В конце концов фрау профессорша вышла из себя и сказала, что девушка призналась, что любит его. Это на него нисколько не подействовало. Он по-прежнему улыбался.
– Чепуха? Чепуха! Все это неправда.
Фрау профессорша так ничего и не добилась. Тем временем испортилась погода; выпал снег, начались заморозки, а потом наступила оттепель и потянулась вереница безрадостных дней – прогулки перестали доставлять удовольствие. Однажды вечером после немецкого урока с герром профессором Филип задержался на минуту в гостиной, болтая с фрау Эрлин; в комнату торопливо вошла Анна.
– Мама, где Цецилия? – спросила она.
– Наверно, в своей комнате.
– Там темно.
Фрау профессорша вскрикнула и с тревогой поглядела на дочь. Ей пришла в голову та же мысль, что и Анне.
– Позвони Эмилю, – произнесла она охрипшим от волнения голосом.
Эмиль был тот увалень, который прислуживал за столом и выполнял почти всю работу по дому. Он явился.
– Эмиль, ступай в комнату герра Суна, войди туда без стука. Если там кто-нибудь есть, скажи, что ты пришел затопить печку.
Флегматичное лицо Эмиля не выразило удивления.
Не спеша, он спустился по лестнице. Фрау профессорша и Анна оставили двери открытыми и стали ждать. Вскоре они услышали, что Эмиль возвращается наверх, и позвали его.
– Там кто-нибудь есть? – спросила фрау профессорша.
– Да, герр Сун у себя.
– А он один?
Рот слуги растянулся в плутоватой улыбке.
– Нет, у него фрейлейн Цецилия.
– Какой срам! – вскричала фрау профессорша.
Эмиль широко осклабился.
– Фрейлейн Цецилия каждый вечер там. Она не выходит от него часами.
Фрау профессорша принялась ломать руки.
– Какой ужас! Почему же ты мне ничего не сказал?
– А мне-то какое дело? – ответил он, спокойно пожимая плечами.
– Наверно, они хорошо тебе заплатили. Пошел вон. Ступай.
Он неуклюже затопал к двери.
– Мама, они должны уехать, – сказала Анна.
– А кто будет платить аренду? Скоро надо вносить налоги. Легко говорить: они должны уехать. Если они уедут, я не знаю, чем расплачиваться по счетам. – Она повернулась к Филипу, заливаясь слезами. – Ах, герр Кэри, не говорите никому ни слова. Если фрейлейн Ферстер – это была голландка, старая дева, – если фрейлейн Ферстер об этом узнает, она немедленно от нас уедет. А если все разъедутся, придется закрыть дом. Мне не на что будет его содержать.
– Разумеется, я ничего не скажу.
– Если она останется, я не буду с ней разговаривать, – заявила Анна.
Фрейлейн Цецилия вовремя пришла ужинать, но щеки ее были румянее обычного, а лицо выражало упрямство; герр Сун, однако, долго не показывался, и Филип уже решил, что он струсил. Наконец он пришел и, широко улыбаясь, извинился за опоздание. Как всегда, он заставил фрау профессоршу выпить бокал своего мозельского; он предложил вина и фрейлейн Ферстер. Было жарко: печь топилась целый день, а окна открывали редко. Эмиль двигался по комнате, как медведь, но ухитрялся прислуживать быстро и аккуратно. Три старые дамы сидели молча, всем своим видом выражая осуждение; фрау профессорша еще не успела прийти в себя, супруг ее был молчалив и озабочен. Беседа не клеилась. Знакомые лица показались сегодня Филипу какими-то зловещими, все словно преобразились при свете двух висячих ламп; на душе у него была тревога. Встретившись взглядом с Цецилией, он прочел в ее глазах ненависть и вызов. Духота становилась невыносимой. Казалось, что плотская страсть этой пары волнует всех присутствующих, что самый воздух дышит похотью Востока, благовонными курениями, тайными пороками. Филип ощущал, как кровь пульсирует у него в висках. Он не мог понять охватившего его чувства: в нем было что-то томящее, но в то же время отталкивающее и страшное.
Так тянулось несколько дней. Атмосфера была отравлена противоестественной страстью, нервы у всех были напряжены до предела. Один только герр Сун оставался невозмутимым; он так же улыбался и был таким же вежливым, как всегда; трудно было сказать, что означало его поведение: торжество более высокой цивилизации или презрение Востока к побежденному Западу. Цецилия вела себя дерзко. В конце концов даже фрау профессорша не смогла этого дольше вынести. Профессор Эрлин с грубой прямотой объяснил ей возможные последствия этой связи, протекавшей у всех на глазах; фрау профессорша пришла в ужас: она увидела, что неминуемый скандал погубит ее доброе имя и репутацию пансиона. Ослепленная погоней за наживой, она почему-то никогда не задумывалась над такой возможностью; теперь она совсем потеряла голову от страха, и ее с трудом удержали от того, чтобы она тут же не выбросила девушку на улицу. Только благодаря здравому смыслу Анны удалось предотвратить открытый скандал; было написано осторожное письмо берлинскому дядюшке: ему предлагали взять Цецилию к себе.
Но, решившись расстаться с двумя жильцами, фрау профессорша не смогла устоять перед искушением дать волю своему бешенству, которое она так долго сдерживала. Теперь-то она могла выложить Цецилии все, что у нее накипело.
– Я написала твоему дяде, Цецилия, чтобы он тебя забрал, – сказала она. – Я больше не могу держать тебя у себя в доме.
Ее маленькие круглые глаза засверкали, когда она заметила, как побледнела девушка.
– Стыда у тебя нет. Бесстыдница, – сказала она и стала осыпать девушку ругательствами.
– Что вы написали дяде Генриху? – спросила та, сразу же потеряв всю свою независимость.
– Ну, знаешь, об этом он скажет тебе сам. Завтра я жду от него ответа.
На следующий день она объявила Цецилии за ужином, чтобы унизить ее перед всеми:
– Я получила от твоего дяди письмо. Ты сегодня же вечером уложишь вещи, и завтра утром мы посадим тебя в поезд. Дядя встретит тебя в Берлине на Центральном вокзале.
– Хорошо.
Герр Сун улыбался госпоже профессорше, глядя ей прямо в глаза, и, невзирая на ее протесты, налил ей бокал вина. Фрау профессорша ела в тот вечер с завидным аппетитом. Но ее торжество было преждевременным. Ложась спать, она позвала слугу.
– Эмиль, если сундук фрейлейн Цецилии уложен, ты сейчас же снесешь его вниз. Носильщик придет за ним перед завтраком.
Слуга ушел, но сразу же вернулся.
– Фрейлейн Цецилии нет в комнате и ее чемодана тоже.
Фрау профессорша с воплем кинулась в комнату девушки: на полу стоял запертый и стянутый ремнями сундук, но чемодан исчез; исчезли также и пальто и шляпа фрейлейн Цецилии. На туалете было пусто. Тяжело дыша, фрау профессорша бросилась вниз, в комнаты китайца; лет двадцать ей не доводилось бегать так проворно; Эмиль кричал ей вдогонку, чтобы она поостереглась и не свалилась с лестницы. Она ворвалась к герру Суну без стука. Комнаты были пусты. Вещей его тоже не было, и раскрытая дверь в сад позволяла догадаться, как их вынесли. В конверте на столе лежали деньги за пансион и на оплату дополнительных расходов. Внезапно лишившись сил, фрау профессорша со стоном плюхнулась на диван. Сомнений не было. Парочка сбежала. Эмиль был бесстрастен и равнодушен, как всегда.
31
Хейуорд уже целый месяц твердил, что завтра уезжает на юг, но откладывал отъезд с недели на неделю: ему было лень собирать вещи, и его страшила дорожная скука; наконец под самое Рождество его выжили приготовления к празднику. Самая мысль об увеселениях этих тевтонов была ему невыносима. Мороз продирал по коже, когда он думал об их шумном, горластом празднестве, и, стремясь от него улизнуть, он решил пуститься в путь в самый сочельник.
Его отъезд не опечалил Филипа: он был человек последовательный, и его раздражало, когда кто-нибудь не знал, чего хочет. Хотя он и находился под сильным влиянием Хейуорда, он никак не мог согласиться с ним, что нерешительность – свидетельство тонкой душевной организации; его злила усмешка, с которой Хейуорд взирал на его прямолинейность. Они стали переписываться. Хейуорд отлично писал письма и, зная за собой этот дар, не жалел на них сил. Он был восприимчив к красоте и в своих письмах из Рима умел передать тонкий аромат Италии. По его мнению, столица древних римлян была чуть-чуть вульгарна – эпоха упадка Римской империи была куда благороднее; но особенно близок был ему папский Рим, и в его изощренно-отточенных фразах оживала изысканная прелесть стиля рококо. Он писал о старинной церковной музыке и об Альбанских горах, о томящем запахе ладана и о прелести ночных улиц в дождливую пору, когда мостовая блестит в таинственном свете уличных фонарей. Может быть, он переписывал свои изящные письма по нескольку раз, адресуя их разным приятелям. Он не представлял себе, как волновали эти письма Филипа; жизнь стала казаться ему такой унылой. С наступлением весны Хейуорд стал изливаться в дифирамбах Италии. Он звал туда Филипа. Оставаться в Гейдельберге было пустой тратой времени. Немцы – люди грубые, а жизнь в Германии так тривиальна; можно ли обрести величие духа, глядя на чопорный ландшафт? В Тоскане весна пригоршнями рассыпала цветы, а Филипу всего девятнадцать лет; пусть он приедет – они пойдут бродить по горным селениям Умбрии. Звучные итальянские слова отзывались в сердце Филипа. Цецилия и ее любовник тоже поехали в Италию. Вспоминая о них, Филип испытывал непонятное беспокойство. Он проклинал судьбу за то, что у него не было денег на путешествие: он знал, что дядя ни за что не пошлет ему больше пятнадцати фунтов в месяц, о которых они договорились. Да и эти деньги он тратил не слишком-то разумно. Плата за пансион и за уроки поглощала их почти целиком, а общество Хейуорда обходилось ему недешево. Хейуорд часто подбивал его отправиться куда-нибудь подальше на прогулку, сходить в театр или предлагал распить бутылочку винца, когда деньги Филипа уже были истрачены; юношеское легкомыслие не позволяло ему признаться приятелю, что он не может разрешить себе такую роскошь.
К счастью, письма Хейуорда приходили довольно редко, и в промежутках между ними Филип продолжал трудолюбиво заниматься. Он был принят в университет и ходил на лекции. Куно Фишер находился на вершине славы и читал в ту зиму блестящий курс о Шопенгауэре. Лекции Куно Фишера стали для Филипа введением в философию. Обладая практическим умом, он с трудом разбирался в абстракциях, но неожиданно почувствовал интерес к метафизике; порой у него захватывало дух: эти упражнения напоминали ему канатоходца, показывающего опасные трюки над пропастью, – так это было увлекательно. Пессимизм шопенгауэровской философии покорял его молодой ум; он поверил, что мир, в который он готовился вступить, был юдолью безысходной скорби и мрака. Тем не менее он горел желанием вступить в этот мир, и, когда миссис Кэри написала ему по поручению опекуна, что пора возвращаться в Англию, он с радостью согласился. Теперь ему предстояло решить, кем он хочет стать. Если он уедет из Гейдельберга в конце июля, они смогут в августе обсудить его дела, а осенью он начнет устраиваться на новом поприще.
День его отъезда был уже назначен, когда он получил новое письмо от миссис Кэри. Она напомнила ему о мисс Уилкинсон, благодаря которой он попал в дом фрау Эрлин; мисс Уилкинсон собиралась погостить несколько недель в Блэкстебле. Она должна сесть на пароход во Флашинге в такой-то день, и если он тронется в путь одновременно с нею, то поможет ей в дороге и они приедут в Блэкстебл вместе. Застенчивость заставила Филипа сразу же написать, что он выедет не раньше, чем через два дня после мисс Уилкинсон. Он представлял себе, как он будет ее разыскивать, как неловко ему будет подойти к незнакомой женщине и спросить, она это или не она (так легко было ошибиться и услышать в ответ грубость), как трудно будет решить в поезде, надо ли поддерживать с ней разговор или можно не обращать на нее внимания и читать книгу.
Наконец он простился с Гейдельбергом. Последние три месяца он думал только о будущем, а потому уезжал без сожаления. Он так и не понял, что был там счастлив. Фрейлейн Анна подарила ему «Der Trompeter von Sackingen»[24]24
«Зекингенский трубач» (нем.)
[Закрыть], а он оставил ей на память томик Уильяма Морриса. Но оба они были люди разумные и так и не попытались прочесть эти книги.