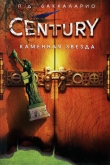Текст книги "Мистраль"
Автор книги: Уильям Катберт Фолкнер
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
– Он был одним из гробоносцев, – сказал Дон. – Как вам это нравится, синьоры?
– Моя не понимай, – сказал я. – Моя любить Италия. Любить Муссолини.
– Ты уже это говорил.
– Ладно. Тогда салют.
Дон посмотрел на меня – трезво и спокойно.
– Салют, – сказал он. Потом он повернул голову к дому священника и поправил, подтянул вверх вещевой мешок. Дверь дома была закрыта.
– Дон, – сказал я. Он оглянулся, посмотрел на меня. Окружающие долину горы – даль потеряла глубину, стала плоской – придвинулись вплотную. Казалось, что мы стоим на дне мертвого вулкана в яростной круговерти бутылочно-зеленой ветреной тьмы, в неистовом и нескончаемом смерче ледяной пыли. Мы молча смотрели друг на друга.
– Ладно, черт с ним, – сказал Дон. – Ты-то что предлагаешь? – Мы всё смотрели друг на друга. Шум ветра, возможно, даже стал бы баюкать – вполне возможно. Если спрятаться от него в тепло, уютно отгородиться стенами, тогда вполне возможно.
– Ладно, – сказал я.
– Вот и именно, что неладно, – сказал Дон. – Надо же нам как-то устраиваться с ночлегом. Ведь сейчас октябрь – не лето. Можем же мы ничего не знать. Мы ничего не слышали. Мы не говорим по-итальянски. Мы любим Италию.
– Ладно, – сказал я. – Ладно. – Дом священника, тоже каменный, угрюмо возвышался над запущенным садом. Мы прошли к нему полпути по мощенной камнями дорожке, когда окно мансарды на мгновение приоткрылось – мы увидели женскую фигуру в белом платье – и тут же захлопнулось. Одно мгновение, одно движение руки. И мы сказали спокойно и в один голос:
– Трудяга. Хлопотун. – Но в вечернем сумраке мы почти ничего не разглядели, а окно уже снова было закрыто. Оно приоткрылось всего на несколько секунд.
– Только в этот раз надо было сказать Хлопотунья, – сказал Дон.
– Это верно. А ты, значит, тоже начал шутить?
– Вот именно, – сказал Дон. Дверь открыла женщина, по виду крестьянка, с жестким, задубевшим лицом. Она держала свечу, пламя отклонилось к женщине, внутрь дома, а из темной передней на нас пахнуло застоявшимся, несвежим холодом. Женщина смотрела на нас, ее лицо походило на резко очерченную костлявую маску с двумя узкими прорезями для глаз, и в глазах отражался огонек свечи – в каждом глазе по огоньку.
– Ну, – предложил я, – скажи ей что-нибудь.
– Нам говорили, что его преподобие, – начал Дон, – что мы можем... Пламя свечи дернулось, легло почти горизонтально, но не потухло. Женщина заслонила его ладонью; она стояла в дверях, прикрывая ладонью свечу и загораживая вход. – Мы путешественники, путники; нам сказали... Ужин да кровать, на одну ночь.
Когда мы вошли, у нас в ушах все еще выл ветер – как в морской раковине. В передней было темно, только мерцал огонек свечи, которую несла женщина. Идя за ней, мы окунулись в непроглядную темень, из которой вдоль стены поднимались ступеньки лестницы, смутно различимые внизу и только угадывающиеся вверху.
– Скоро станет так темно, что из окна уже ничего не увидишь, – сказал Дон.
– А может, тогда ей уже и не нужно будет смотреть.
– Может быть, – сказал Дон. Женщина открыла какую-то дверь, и мы вошли в освещенную комнату.
Там стоял стол и на нем свечка в железном подсвечнике, буханка хлеба да металлическая копилка с узкой щелью в крышке. Стол был накрыт для двоих. Мы положили вещевые мешки в угол, а женщина принесла третью тарелку и еще один стул. Но теперь-то стол был накрыт только на троих, а женщина – мы все еще следили за ней – взяла свою свечу и ушла в другую комнату. Дон глянул на меня и сказал:
– Похоже, что мы ее все-таки увидим.
– Откуда ты знаешь, что он не будет есть?
– Здесь? Ты что – не знаешь, где он? – Я смотрел на Дона. – Ему же надо ее караулить. Он там, в саду.
– Откуда ты знаешь?
– Солдат был в церкви. Он не мог его не заметить. Не мог не узнать... Мы оглянулись на дверь, но вошла женщина. Она несла три тарелки. Дон сказал: – Суп, синьора?
– Суп.
– Прекрасно. Мы ведь пришли издалека. – Она поставила тарелки на стол. – Из Милана. – Она глянула через плечо на Дона.
– Вот там бы и оставались, – сказала она. И ушла. Мы с Доном посмотрели друг на друга. У меня в ушах все еще стоял гул ветра.
– Значит, он в саду, – сказал Дон.
– Откуда ты знаешь, где он?
Дон все смотрел на меня. Потом отвернулся.
– Я не знаю, – сказал он.
– Конечно не знаешь. И я не знаю. Мы и знать ничего не хотим. Верно?
– Ага. Моя не понимать итальянский.
– Я серьезно.
– И я серьезно, – сказал Дон.
Ветер все завывал у нас в ушах – как будто он прорвался в дом. Но потом мы поняли, что действительно слышим ветер, а не оставшийся в наших ушах отзвук: мы слышали шум ветра, хотя окно в комнате было наглухо закрыто. Нам казалось, что комната плывет где-то в бескрайнем пространстве, вырвавшись из неистового, вскипающего черной пеной потока времени. И было странно, что пламя свечи так спокойно и неколебимо тянется вверх.
III
В общем, мы так и не разглядели его, пока не попали к нему в дом. До этого он представлялся нам буровато-черной, бесформенной и расплывающейся фигуркой, гонимой ветром сквозь сумрак вечера впереди похоронной процессии, – и голосом, заполняющим церковь. Эти две его ипостаси не объединялись в одного человека, существовали отдельно: неясная фигурка во тьме на ветру – и голос, плывущий в недвижимом сумраке над спокойным пламенем свечей, бесстрастный и волнующий душу, мощный, одинокий и обреченный на муку.
Было что-то судорожное в его появлении: он влетел к нам, словно ныряльщик, бросающийся в воду. Он не поглядел на нас, но говорить начал как бы еще за дверью: мы услышали и приветствие и извинение за то, что нам пришлось ждать, – он говорил тихо и торопливо, – в первую же секунду, на одном дыхании. Потом, не прекращая говорить и не подымая глаз, он жестом пригласил нас садиться, сел сам и сразу же начал читать молитву по-латыни; его голос, как и раньше, в церкви, легко, без напряжения перекрыл шум ветра за стеной. Слова молитвы лились и лились, и через некоторое время я поднял голову. Дон смотрел на меня, слегка приподняв брови; мы оба перевели взгляды на священника и увидели, что его руки, лежащие на столе по обеим сторонам тарелки, чуть вздрагивают. Потом в латинское бормотание вклинился резкий женский голос, – я не слышал, как женщина вошла, но она стояла у двери, высокая, изможденная, с бескровным, но темным лицом, по которому невозможно определить возраст: ей могло быть и двадцать пять, и шестьдесят. Священник замолчал. И теперь он посмотрел на нас – впервые – близорукими и затравленными глазами. Они были карие, с почти невидимыми зрачками – как у старой собаки. Он с отчаянным напряжением не давал им опуститься, и они смотрели на нас – затравленные, несчастные.
– Я совсем забыл, – сказал он. – Иногда... – И опять женщина обрушила на него какое-то слово, протянув к столу руку с супницей, – тень ее руки скрыла его глаза и на мгновение застыла в неподвижности, но мы сразу же отвернулись. Ветер мощно завывал под свесами крыши, а пламя свечи спокойно тянулось вверх в этом безветренном вое. Мы слышали, как женщина наливает суп, и, хотя все три миски уже были полны, она не уходила, медлила и, казалось, держала нас в оцепенении, пока какое-то мгновение – не знаю
уж, что это было, – не пронеслось. И тогда она ушла. Мы с Доном начали есть. Мы не глядели на него. И когда он наконец заговорил, его голос звучал спокойно и вежливо-равнодушно: – Вы к нам издалека, синьоры?
– Из Милана, – ответили мы в один голос.
– А до Милана были во Флоренции, – сказал Дон.
Священник не подымал голову. Он ел быстро. Потом, не глядя, потянулся к хлебу. Я передал ему буханку. Он отломил горбушку и продолжал есть.
– Так вы говорите, во Флоренции, – сказал он. – Прекрасный город. И люди там – как бы это определить? – духовнее, что ли, чем миланцы. – Он ел торопливо, жадно. Из-под сутаны, из-под ее закатанных рукавов виднелась фланелевая нижняя рубашка. Доедая суп, он несколько раз стукнул ложкой о дно тарелки. Сейчас же вошла женщина, держа в руке деревянную миску со спаржей. Она убрала тарелки из-под супа. Он протянул руку. Она передала ему кувшин с вином, и, все так же не поднимая головы, он разлил вино по стаканам и произнес короткий тост. Но он не стал пить – это был только маневр: поглядев на него, я заметил, что он наблюдает за мной. Я сейчас же отвел глаза; было слышно, как он стучит ложкой по тарелке, и тут я увидел, что Дон тоже наблюдает за мной. А потом между нами и священником вдвинулось плечо женщины. – Иногда настает время... – сказал он. Его ложка снова стукнула по тарелке. Когда женщина перебила его, – она заговорила быстро и резко, на местном диалекте, – он отъехал от стола вместе со стулом, и мы увидели на секунду – поверх ее руки – его затравленные глаза. – Иногда настает время... – сказал он, повысив голос. Женщина совсем загородила его от нас, и он замолк. Я отвел глаза и не видел, как они уходили. Звук шагов затих, и опять слышался только шум ветра.
– Он читал Поминанье, – сказал Дон. Дон католик. – Перед едой. Не трапезную молитву, а поминальную.
– Да? – сказал я. – А мне и невдомек.
– Да, – сказал Дон. – Поминальную. Перепутал, наверно.
– Конечно, – сказал я. – Наверняка. Ну, а мы-то что теперь будем делать? – Наши вещевые мешки лежали в углу. Два вещевых мешка могут выглядеть так же по-человечески грустно и сиротливо, как пара стоптанных башмаков. Мы смотрели на дверь, и тут женщина снова вошла в комнату. Но она явно не собиралась останавливаться. И она не смотрела на нас.
– Простите, синьора, – сказал Дон, – что нам теперь делать?
– Ешьте. – Она даже не приостановилась. И потом мы опять услышали шум ветра.
– Выпьем, – сказал Дон. Он поднял кувшин и начал наклонять его над моим стаканом, да так и застыл – с кувшином в руке. Я тоже прислушался. Говорили в соседней комнате, а может, и дальше – торопливо и неразборчиво. Вернее, не говорили: потому что второго человека там явно не было; наверняка. Где бы он ни был, он был один; наверняка. А может, это шумел ветер. Впрочем, перед стихией – будь то потоп, засуха или ураган – человек всегда одинок. Прошло около минуты; потом Дон шевельнулся и наклонил кувшин чуть сильнее. Мой стакан наполнился. Мы начали есть. Голос звучал приглушенно и не то чтобы торопливо, а как-то монотонно, механически, – так могла бы, наверно, говорить машина.
– Если б сейчас хоть лето было, – сказал я.
– Выпьем, – сказал Дон. Он снова налил. Мы подняли стаканы и прислушались. Второго человека там явно не было; наверняка. Не было его там. – В том-то и дело, – сказал Дон. – Здесь никого больше нет. Во всем доме.
– А женщина?
– Да и мы тоже. – Он посмотрел на меня.
– А-а, вон ты о чем, – сказал я.
– Ясное дело. Чего ей еще было нужно-то? Он пробыл здесь целых пять минут. А тот только что вернулся из армии, после трех лет. Он вернулся днем, и потом подступил вечер, а потом и совсем стемнело. Ты же сам ее видел, у окна. Скажешь, нет?
– А дверь? Неужели он ее не запер?
– Это Божий дом, в таких домах запоров не бывает. Вот чего ты не знал.
– Правильно. Я забыл, что ты католик. Уж ты-то знаешь что к чему. Ты ведь уйму всего знаешь, верно?
– Ну, нет. Я ничего не знаю. Я не говорить по-итальянски. Я любить Италия. Понял? – В комнату вошла женщина. Но на этот раз она ничего не принесла. Она подошла к столу и остановилась – изможденное, темное лицо над светлым огоньком свечи было обращено к нам.
– Вам пора уходить, – сказала она.
– Уходить? – спросил Дон. – Нам нельзя здесь переночевать? – Она стояла, опираясь одной рукой о стол, и смотрела на нас. – Где же мы сможем переночевать? Кто нас пустит? Человек не может ночевать на улице в такой холод, синьора.
– Может, – сказала она. Теперь она даже не смотрела на нас. Мы слышали шум ветра и торопливый монотонный голос.
– Да в чем хоть дело-то? – спросил Дон. – Что здесь происходит, синьора? – Она посмотрела на него сдержанно, даже строго, но без злобы – как на ребенка.
– Здесь Господь творит свой промысел, юноша, – сказала она. Возблагодарите Господа за то, что по своей юности не ведаете путей его. Она повернулась и ушла. А потом голос за стеной внезапно прервался и стих, словно его выключили. Теперь мы слышали только шум ветра.
– Нам бы, главное, спрятаться от ветра, – сказал я.
– Выпьем. – Дон поднял кувшин. Там осталось меньше половины.
– Хватит с нас.
– Конечно. – Он разлил вино по стаканам. Мы выпили. И снова застыли, вслушиваясь. Голос опять звучал: он возник сразу, вдруг – как включился. Мы выпили. – Давай уж доедим спаржу, – сказал Дон.
– Я больше не хочу.
– Тогда давай выпьем.
– Ты уже обогнал меня на стакан.
– Верно. – Он налил мне. Я выпил. – Теперь давай вместе.
– Надо оставить хоть немного хозяевам.
Он заглянул в кувшин.
– Тут как раз два стакана. Давай уж допьем.
– Тут меньше.
– Спорим на лиру.
– Ладно. Только чур мне разливать.
– Ладно. – Он передал мне кувшин. Я налил себе и потянулся к его стакану. – Послушай-ка, – сказал он. – Уже с минуту голос то обрывался, то возникал, но с каждым разом становился все слабее – как замирающее эхо. Теперь он умолк совсем; слышался только неумолчный шорох ветра. – Наливай, сказал Дон. – Я наклонил кувшин. Донов стакан наполнился на три четверти. Капли стали стекать по наружной стороне кувшина на стол. – Переверни его совсем. – Я перевернул. Последняя капля повисла на закраине кувшина, потом сорвалась и упала в стакан. – Лира с меня, – сказал Дон.
Теперь монеты весело звенели в копилке. А сначала, когда Дон взял ее со стола и потряс, мы ничего не услышали. Он вынул из кармана несколько монет и опустил их в копилку. Потом встряхнул ее.
– Маловато. Давай-ка раскошеливайся. – Я бросил в прорезь несколько монет, и он еще раз потряс копилку. – Теперь нормально. – Он глядел на меня через стол, а перед ним, донышком вверх, стоял пустой стакан.
– Как насчет выпить? – сказал Дон.
Мы встали, и я поднял свой вещевой мешок. Он лежал внизу. Мне пришлось снять с него Донов. Дон наблюдал за мной.
– И что же ты собираешься с ним делать? – спросил он. – Возьмешь с собой на прогулку?
– Бог его знает, – сказал я. За стеной, под промерзшими свесами крыши протяжно вздыхал ветер. Над свечой – словно перо на длинном носу у циркового клоуна – стояло вытянутое вверх, совершенно прямое пламя.
В прихожей не слышалось шороха ветра и не было света. Ничего там не было – только тихая темень, да промозглый запах сыроватой штукатурки, да тяжкий дух выстуженного человеческого жилья. Мы несли вещевые мешки в руках, опустив их вниз, как будто они были краденые. Добравшись до двери, мы открыли ее и снова оказались в ветреной тьме. Ветер расчистил и вычернил холодное небо. Мы уже шли к воротам, когда увидели священника. Он быстро ходил взад и вперед вдоль невысокой каменной ограды. Он был без шапки, ветер задувал его сутану. Священник заметил нас, но не остановился. Он быстро шел вдоль ограды, потом поворачивался и шагал обратно. Мы подождали его у ворот, а когда он приблизился, поблагодарили за ужин, и он на секунду застыл, полуотвернувшись и пригнув голову, словно хотел получше расслышать наши слова, и ветер развевал его сутану. Потом Дон вдруг опустился на колени, и священник отшатнулся, будто Дон хотел, чтобы он его ударил. Тут мне тоже почудилось, что я католик, и я тоже стал на колени, и он поспешно благословил нас, а зеленовато-черный сумрак бушевал вокруг нас, как полноводная река. Когда мы вышли за ворота и на фоне темного дома увидели голову священника – она целиком, до шеи, возвышалась над оградой и быстро двигалась взад и вперед, – нам показалось, что по верхнему срезу ограды стремительно ползет гигантская круглая муха.
IV
Столики стояли на подветренной стороне улицы, где было довольно тихо. Но мы видели, как взвихривается и завивается смерчиками мусор в сточной канаве, а иногда ледяные языки ветра дотягивались даже досюда и хватали нас за ноги, и по крышам перекатывался неумолчный гул. Неподалеку от нас два бродячих музыканта – скрипач и волынщик – тянули дикую однообразную мелодию. Иногда они прерывали игру, чтобы выпить, а потом снова заводили ту же мелодию. Она, вероятно, была нескончаемой, эта однообразная, как гул ветра, унылая и в то же время исступленно-воинственная мелодия. Официант принес нам кофе и две рюмки бренди, и пока он шел к нашему столику, ветер несколько раз вцеплялся в его грязный фартук, и под первым мы видели второй, суконный, тоже засаленный, и, видимо, твердый, как железо. За соседним столиком сидели пятеро молодых парней, они пили вино и порой бросали медяки официанту на поднос, и он, не глядя, одним движением, отправлял их в карман, и казалось, что он отличает достоинство монеты по звуку, а около музыкантов стояла молодая крестьянка с широченными бедрами, и ребенок, держа ее за шею, сидел верхом на ее бедре. Потом она поставила ребенка на землю, и он сейчас лее удрал под стол, и парни приподымали ноги, чтобы дать ему пролезть. А женщина слушала мелодию, повернув к музыкантам круглое, безмятежно спокойное лицо и слегка приоткрыв рот.
– Давай выпьем, – сказал Дон.
Можно, – сказал я. Крестьянка принялась выманивать ребенка из-под стола. Один из парней поймал его и передал матери. Несколько прохожих остановились рядом с музыкантами, чтобы послушать музыку; потом мимо кафе проехала высокая двуколка, груженная вязанками хвороста, – ее тащил мул-недоросток и подталкивала сзади какая-то женщина; а потом на улице появилась эта девушка, и мне стало наплевать на всех католиков в мире. Она была в белом платье, без пальто, и шла она плавно, упруго и свободно. Мне на весь мир стало наплевать, когда я увидел это белое, светящееся в серых сумерках платье, плавно несущее ее куда-то... впрочем, платье, конечно, двигалось, потому что двигалась она, и туда, куда она двигалась, и я смотрел на нее, потерявшись и теряя ее, потому что она уходила, унося свое светящееся платье, и я понимал, что от меня-то она уходит навеки. И мне припомнилось, как я плакал, узнав об Эвелине Несбит, Уайте и Toy {2}. Я плакал, потому что Эвелина была прекрасна и потеряна для меня навсегда ведь иначе я и не услышал бы о ней. Она была потеряна для меня навсегда – и только поэтому я узнал о ней: узнал, когда прочитал в газете, что ее убили. И когда я прочитал, сколько ей было лет, и понял, что мог бы быть ее сыном, то заплакал по себе: мне казалось, что я и себя потерял; и я разучился плакать. И вот я смотрел на светящееся в серых сумерках белое платье, думая: "Через несколько секунд она подойдет ко мне так близко, как не приближалась – и не приблизится – никогда, а потом исчезнет на веки веков, навсегда". Тут я заметил, что и Дон на нее смотрит, а немного погодя мы увидели подъезжавшего на велосипеде солдата. Он спрыгнул с велосипеда и пошел к ней, и на мгновение они остановились – лицом к лицу, не прикасаясь друг к другу -в толпе, среди людей. Может быть, они даже не разговаривали, и совершенно неважно, сколько времени они так стояли, потому что время тоже остановилось. А потом я почувствовал, что кто-то меня толкает; это был Дон.
– Посмотри-ка. – Он показал на соседний стол. Пятеро парней не то что смотрели – они тянулись, почти физически тянулись к ней: голова к голове, изредка – поднятая рука, ладонь, еле заметный жест, и повернутые в одну сторону лица. Потом парни чуть распрямились, сели ровнее, но не отвернулись; официант – старик, старая развалина, старше самой старухи Похоти, – глядел туда же. Но вот те двое повернули и пошли по улице, и солдат вел свой велосипед, придерживая его за руль. Но прежде чем уйти совсем, они остановились еще раз – посреди улицы, среди людей – лицом к лицу, не касаясь друг друга. И ушли. – Давай выпьем, – сказал Дон.
Официант поставил на наш стол рюмки с бренди, его задубевший фартук, подхваченный ветром, вдруг жестко встопорщился, словно лист фанеры. – В вашу деревню, кажется, приехал военный, – сказал Дон.
– Это вы верно, – сказал официант. – Один.
– Сдается мне, что больше вам и не нужно, – сказал Дон. Официант глянул вдоль улицы. Но они уже скрылись, и она унесла – или, может, увела – свое белое, слишком белое для всех нас платье.
– У нас тут поговаривают, что нам и один-то ни к чему. – Он больше походил на церковника, чем священник: унылое лицо, длинный тонкий нос, на макушке – круглая плешь. Но в то же время он был похож на подраненного ястреба. – Вы остановились у священника, синьоры?
– Гостиницы-то у вас нет, – сказал Дон.
Официант выгреб из кармана мелочь, подсчитал сдачу и, пристукивая, выложил на стол несколько монет.
– А зачем она здесь? Кто сюда забредет, если он не тащится пешком? А пешком теперь – кроме вас, англичан, – никто не ходит.
– Мы американцы.
– Оно конечно. – Он почти незаметно пожал плечами. – Это уж ваше дело. – Он смотрел как-то чуть мимо нас; вернее, он не смотрел на Дона. – Вы просились к Кавальканти?
– Винная лавка на краю деревни? Родственники военного, да? Просились. Но его тетка сказала...
Теперь официант смотрел только на Дона.
– Она не послала вас к священнику?
– Нет.
– Вон как, – сказал официант. Его фартук снова встопорщился. Официант надавил на него, опустил вниз и стал вытирать им стол. – Так, значит, американцы?
– Американцы, – сказал Дон. – А почему она не послала нас к священнику?
Официант аккуратно протирал фартуком стол.
– Кавальканти-то? А она даже в нашу церковь не ходит.
– Не ходит в вашу церковь?
– Не ходит. Вот уже три года не ходит. А ее муж ходит молиться в соседнюю деревню.
– Понятно, – сказал Дон. – Они, значит, нездешние.
– Родились-то они здесь. И ходили в нашу церковь, еще три года назад ходили.
– А три года назад они сменили приход?
– Сменили. – Он углядел на столе еще одно пятнышко. И аккуратно вытер его фартуком. Потом поразглядывал фартук. – Да перемены-то, они тоже бывают разные; бывают такие, что и не заметишь; а то, бывает, далеко заходят.
– И она выбрала дальний приход, не в соседней деревне?
– Она никакой не выбрала. – Он посмотрел на нас. – Она вроде меня.
– Вроде вас?
– Вы не пробовали поговорить с ней о церковниках? – Он посмотрел да Дона. – А вот зайдите к ней завтра и попробуйте.
– И это, значит, случилось три года назад, – сказал Дон. – Три года назад тут у вас многое стало меняться.
– Во-во. Племянник ушел в армию, дядя сменил приход, а тетушка... И все за одну неделю. Зайдите к ней завтра, поговорите.
– А что вообще у вас тут говорят про все ваши перемены?
– Про какие перемены?
– А вот про недавние.
– Про какие недавние? – Он смотрел на Дона. – Вроде бы по закону перемены не запрещены.
– Так-то оно так. Если перемены законные. Но иногда законники просто хотят проверить, все ли идет по закону. Верно?
Официант сделал вид, что ему стало совсем неинтересно. Но его выдавали глаза, выражение лица. А лицо у него и вообще-то было слишком длинное. – Как вы догадались, что он из полиции?
– Из полиции?
– Ну да. Вы его еще военным назвали, видно, забыли, как по-нашему полицейский. Ничего, синьоры, немного попрактикуетесь – все слова будете помнить. – Он смотрел на Дона. – Значит, и вы его раскусили, да? Он тоже сегодня заявился, под вечер; и давай всем рассказывать, что он коммивояжер, что он, мол, ботинки продает. Ну, я-то его сразу раскусил.
– Вон что, – сказал Дон. – Уже, значит, приехал. Так почему же он не прекратил... почему он разрешил им...
– Ну, а вы, – сказал я, – откуда вы знаете, что он из полиции?
Официант посмотрел на меня.
– А я не знаю. Да и знать не хочу, молодой человек. Что вам больше понравится – думать про кого-нибудь, что он шпик, да ошибиться? Или наоборот?
– Правильно, – сказал Дон. – Так вот, значит, что тут у вас болтают.
– Тут всякое болтают. Как в любом другом месте.
– Ну, а вы? – сказал Дон.
– А я помалкиваю. Да и вы ведь ни о чем тут не болтали, верно?
– Конечно, – сказал Дон.
– Мое дело сторона. Если кто хочет выпить, я обслуживаю, если кто разговаривает, я слушаю. Тем и занят весь день.
– Так и надо, – сказал Дон. – Ведь вы-то тут ни при чем.
Но в этот момент официант отвернулся и всматривался в темнеющую, вернее, почти совсем уже темную, улицу. Так что последних слов он не расслышал.
– Хотел бы я знать, кто за ним послал, – сказал Дон. – За полицейским.
– Если у кого есть деньги, он живо найдет помощников, когда захочет напакостить другим, – сказал официант. – Он даже с того света изловчится напакостить. – Потом официант глянул на нас. – Я? – спросил он. Он нагнулся к столу и легонько ударил себя в грудь. Потом распрямился, посмотрел на соседний столик, нагнулся снова и прошептал: – Я атеист. Вроде вас, американцев. – Теперь он выпрямился во весь рост и посмотрел на нас сверху вниз. – В Америке все атеисты. Уж мы-то знаем. – Он стоял, повернув к нам свое длинное унылое и испитое лицо, а мы с Доном по очереди поднялись и торжественно пожали ему руку, – парни с соседнего столика оглянулись на нас. Но другой рукой, опустив ее, официант показал, чтобы мы сели, и прошипел: Подождите. – Потом покосился на соседний столик. – Посидите тут еще немного, – шепнул он. Потом кивком головы показал на дверь за стойкой. – Мне надо перекусить, понимаете? – Он торопливо ушел и вскоре вернулся с двумя рюмками бренди; он нес их с ленивой, но уверенной небрежностью, и у него был такой вид, будто мы с ним ни о чем не говорили: просто заказали выпивку, и все. – Это за мой счет, – прошептал он. – Пейте.
– Ну, – сказал Дон, – а теперь что? – Музыка умолкла; мы смотрели с другой стороны улицы, как скрипач, зажав инструмент под мышкой, остановился у столика с молодыми парнями и что-то говорил им, жестикулируя рукой, в которой он держал шляпу. Крестьянка, останавливавшаяся, чтобы послушать музыку, уходила по улице, а ее сынишка опять ехал на ее широченном бедре, сонно, в такт шагам покачивая головой, как человек, сидящий на медлительном и огромном слоне. – Ну, а теперь что?
– А я откуда знаю?
– Перестань.
– Что перестать?
– Нет здесь никаких сыщиков. Он все придумал. Да он в жизни своей не видел сыщика. Да их и вообще-то в Италии нет. Можешь ты представить себе итальянского полицейского без форменного мундира?
– Да нет, конечно.
– Мы просто переночуем у нее, а завтра утром...
– Не пойду. Ты иди, если хочешь. А я не пойду.
Он посмотрел на меня. Потом вскинул вещевой мешок на плечо.
– Спокойной ночи. Встретимся утром. Там, у кафе.
– Ладно. – Он шел не оглядываясь. Потом завернул за угол и скрылся. И я остался один, на ветру. Но у меня была куртка. Толстая твидовая охотничья куртка, сделанная в Шотландии, – мы заплатили за нее одиннадцать гиней и носили по очереди: день он, день я. У нас был еще свитер, и тот, кто ходил без куртки, надевал свитер. Мне вспомнилось, как прошлым летом мы три дня сидели в одной тирольской гостинице, потому что Дон пытался поладить с девушкой, продававшей в гостиничном баре пиво. Все три дня Дон ходил в куртке и клялся, что отдаст мне ее потом на неделю. А через три дня вернулся дружок девушки. Ростом он был примерно с силосную башню и на шляпе носил задорное зеленое перо. Мы видели, как он одной рукой поднял свою подружку и перенес ее через стойку. Я думаю, что эта девушка могла то же самое проделать с Доном: она была огромная, розово-белая – как гигантское фруктовое дерево в цвету. Или как сверкающая в рассветном солнце заснеженная гора. Она могла поднять Дона и перенести его к себе, за стойку, в любую минуту все эти три дня, – а ведь Дон там еще и поправился на четыре фунта.
V
Я вышел на открытое место, где вовсю хозяйничал ветер. Было совсем темно, и все дома стояли темные, и только у самой земли чуть виднелась тоненькая полоска света, словно ветер прижал ее, и она не могла подняться и улететь. У моста домов не было, не было и заборов; внизу сине-стальной полосой темнела река. И только тут я почувствовал настоящую силу ветра. Мост был каменный, с каменными перилами и пешеходными дорожками по обеим сторонам, и я присел на корточки с подветренной стороны. Ветер выл монотонно и мощно, я ощущал его монолитный поток и под мостом и над перилами, над моей головой. Я сидел на корточках у перил с подветренной стороны моста и ждал. Но ждать мне пришлось недолго.
Он не видел меня, пока я не встал.
– Надеюсь, ты налил во флягу вина, – сказал он.
– Ох, черт. Забыл. Давай вернем...
– У меня есть бутылка. Куда теперь?
– А я почем знаю? Где нету ветра. – Мы сошли на берег. Мы не слышали своих шагов – все звуки уносил ветер. Ветер выутюжил и разровнял воду реки она казалась гладкой и твердой, как сталь. Между водой и потоком ветра, намертво прижатая к реке, мерцала светлая полоска; она немного рассеивала черную тьму. Но ветер глушил и уносил все звуки, так что сначала, даже оказавшись в котловине, по которой была проложена дорога, мы ничего не слышали, кроме шума ветра в ушах. Но потом услышали. Кто-то скулил – тонко, прерывисто, словно задыхаясь.
– Это ребенок, – сказал Дон. – Детеныш.
– Детеныш, да не человеческий. Это какой-нибудь щенок, звереныш. – Мы смотрели друг на друга в редеющей тьме, вслушиваясь.
– Это там, наверху, – сказал Дон. Мы выбрались из котловины и поднялись к невысокой каменной изгороди. К ней примыкало большое поле, его дальний конец терялся в предрассветном сумраке. Футах в ста от изгороди черным расплывчатым пятном проступала рощица. Над изгородью высилась упругая стена ветра – он дул нам в лицо, заходя от рощицы, с поля. Мы облокотились на изгородь и, вглядываясь в рощицу, прислушались. Но скулили где-то ближе, и через секунду мы увидели священника. Он лежал ничком, с внутренней стороны изгороди, его сутана задралась ему на голову и чуть-чуть, еле заметно подергивалась, то ли наполненная, напружиненная ветром, то ли повторяя движения священника. Но что бы он ни означал, этот звук, он не предназначался для чужих ушей, потому что когда кто-то из нас резко шевельнулся, священник умолк. Но он не поднял голову, и задравшаяся сутана продолжала трястись. Или нет, она не тряслась, – это были судороги, корчи. Дон толкнул меня локтем. Мы двинулись вперед, вдоль изгороди. – Давай-ка спустимся, тут вроде не так круто, – сказал он спокойно. Сереющая в рассветных сумерках дорога полого шла в гору. Рощица проступала черным распластанным пятном футах в ста от изгороди. – А где же велосипед?
– Сходи к тете с дядей, – сказал я. – Где ж ему еще быть?
– Хотя правильно, они должны были его спрятать. Конечно же, они должны были его спрятать.
– Давай-ка пошевеливайся, – сказал я. – Да поменьше трепись.
– Правда, может, они думали, что мы его отвлечем и... – Он вдруг замолчал и остановился. Я ткнулся ему в спину и тоже увидел высокие металлические рога, как будто за изгородью притаилась железная антилопа. В ветреной рассветной мгле черная клякса рощицы казалась пульсирующей, словно она дышала, жила. Потому что мы были очень молодыми, а ночь, тьма – даже такая ледяная и ветреная – непереносима для молодых. Молодым нельзя бодрствовать ночью: только сон может спасти их от темных, невыразимых, во веки веков неисполнимых надежд и желаний.