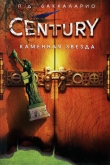Текст книги "Мистраль"
Автор книги: Уильям Катберт Фолкнер
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Фолкнер Уильям
Мистраль
Уильям Фолкнер
Мистраль
Перевод А. Кистяковского
I
Миланского бренди у нас осталось на донышке. Фляга была стеклянная, в кожаном чехле, – я выпил и протянул флягу Дону, и он поднял ее и наклонял до тех пор, пока в узкой прорези чехла не показалась – вкось – полоска желтой жидкости, и в это время на тропинке появился солдат в расстегнутом у ворота мундире и с велосипедом. Проходя мимо нас, солдат – молодой, с худощавым и энергичным лицом – буркнул "добрый день" и покосился на флягу. Мы смотрели, как он поднялся к перевалу, сел на велосипед, поехал вниз и скрылся из глаз.
Дон сделал большой глоток и вылил остатки бренди. Пересохшая земля на миг потемнела и сразу же снова стала бурой. Дон вытряс последние капли.
– Салют, – сказал он, отдавая мне флягу. – Господи, если б я только знал, что перед сном мне опять придется накачиваться этим пойлом!
– То-то и видно, что ты уже через силу пьешь, – сказал я. – Ты, может, и рад бы не пить, да приходится, через силу. – Я убрал флягу, и мы поднялись к перевалу. Дальше тропа змеилась вниз, все еще в тени. Ясный и сухой воздух был сплошь пронизан солнцем: оно не только прогревало его и освещало, – оно растворялось в нем, яркое, яростное: воздух даже в тени казался солнечным, и в этой солнечной тени чуть дрожал перезвон – негромкий, но звучный – козьего колокольчика, скрытого за поворотом извилистой тропинки.
– Не могу я смотреть, как ты таскаешь эту тяжесть, – сказал Дон. Поэтому и пью. Ты-то пить не можешь, а выбросить ни за что ведь не выбросишь.
– Выбросить? – сказал я. – Это пойло обошлось мне в десять лир. Зачем, по-твоему, я их тратил?
– А кто тебя знает, – сказал Дон. Синевато-солнечную даль долины перечеркивал темный частокол леса, рассеченный надвое лентой тропы. И где-то внизу позванивал колокольчик. Тропка поуже, круто уходящая вниз, ответвлялась от главной под прямым углом. – Он свернул сюда, – сказал Дон.
– Кто? – спросил я. Дон показал на чуть заметные следы шин, уходящие вниз по чуть заметной тропке.
– Понял? – сказал он.
– Видно, главная показалась ему слишком пологой, захотелось покруче, сказал я.
– Наверно, он здорово торопится.
– Наверняка – раз он свернул на эту тропку.
– А может, там, внизу, стог сена.
– Да нет, он с разгону хочет въехать на следующий перевал, а потом вниз и опять сюда, и опять вниз и на тот, – пока у него инерция не кончится.
– Ну да, или пока он с голоду не помрет.
– Это точно, – сказал я. – А ты слышал, чтоб кто-нибудь помер с голоду на велосипеде?
– Вроде нет, – сказал Дон. – А ты?
– Тоже нет, – сказал я. Мы шли вниз по главной тропе. За поворотом мы увидели козий колокольчик. Но он висел на шее у мула, и мул, навьюченный двумя мешками, спокойно щипал траву, чуть вздергивая голову немного вбок и вверх, и колокольчик позванивал, и возле тропы стояла каменная часовня, а рядом с ней сидел мужчина в вельветовых брюках и женщина в на брошенной на шею яркой шали, и у ее ног стояла закрытая тряпицей корзина. Мы продолжали спускаться, и женщина с мужчиной смотрели на нас.
– Добрый день, синьор, – сказал Дон. – Далеко нам еще?
– Добрый день, синьоры, – сказала женщина. Мужчина молча смотрел на нас. У него были вылинявшие блекло-голубые глаза – как будто их долго вымачивали в воде. Женщина прикоснулась к его руке, потом чуть подняла свою, и ее пальцы вспорхнули на миг в стремительном танце. Тогда он проговорил высоким, резким, напоминающим стрекот цикады голосом:
– Добрый день, синьоры.
– Он глухой, – сказала женщина. – Нет, тут недалеко: вон оттуда вы уже крыши увидите.
– Спасибо, – сказал Дон. – А то мы здорово устали. Вы не разрешите нам здесь немного передохнуть?
– Отдыхайте, синьоры, – сказала женщина. Мы сняли вещевые мешки и сели. Косые солнечные лучи резко высвечивали часовню и спокойную, чуть стертую, чуть выветрившуюся статую в нише да два букетика увядших астр у ее подножия. Пальцы женщины снова вспорхнули в проворном танце. Другая ее рука узловатая, задубевшая – покоилась на тряпице, прикрывающей корзину. Неподвижная, застывшая в непривычном для нее покое, она казалась упокоенной навеки, мертвой. Она выглядела как протез, прикрепленный к шали, – привычный и надеваемый только по привычке. А рука со вспархивающими пальцами казалась слишком проворной и чересчур, неестественно ловкой, – как у фокусника.
Мужчина все смотрел на нас.
– Вы, я вижу, пешком идете, синьоры, – сказал он ломким, но однотонным голосом.
– Si, – сказали мы. Дон вынул сигареты. Мужчина, отказываясь, слегка покачал выставленной чуть вперед рукой. Но Дон не убирал пачку. Тогда мужчина вежливо, с достоинством кивнул и попытался вытащить сигарету, но никак не мог ее ухватить. Женщина протянула руку и, вынув сигарету, отдала ее мужчине.
Он еще раз вежливо кивнул, когда прикуривал. – Из Милана, – сказал Дон. – Это далеко отсюда.
– Далеко, – сказала женщина. Ее пальцы вспорхнули на миг и тут же успокоились. – Он был там, – сказала она.
– Si, я был там, синьоры, – сказал мужчина. Он, не сдавливая, держал сигарету между большим и указательным пальцем. – Надо все время быть начеку, чтоб не угодить под повозку.
– Особенно под безлошадную, – сказал Дон.
– Под безлошадную, – сказала женщина. – Теперь их много. Мы о них даже здесь, в горах, знаем.
– Много, – сказал Дон. – Шастают, только увертывайся. Шшшасть! Шшшшасть!
– Si, – сказала женщина. – Я даже здесь их видела. – Ее пальцы замелькали в косых лучах солнца. Мужчина, покуривая, спокойно смотрел на нас. – В его-то время ничего такого не было, – сказала она.
– Я уже давно там не бывал, – сказал мужчина. – Это далеко. – Он говорил все так же: степенно и обходительно объясняя.
– Далеко, – сказал Дон. Мы все трое курили. Мул, чуть вздергивая голову, чуть позванивая колокольчиком, щипал траву. – Но ведь там мы сможем отдохнуть, – сказал Дон, показывая рукой туда, где за поворотом тропы, за отвесным обрывом, в синеватой солнечной дымке тонула долина. – Миска супа, да немного вина, да кровать там найдется?
Женщина смотрела на нас через бездонную пропасть, отделяющую людей от глухого, – его сигарета догорела почти до пальцев. Пальцы женщины заплясали перед его лицом.
– Si, – сказал он. – Si. У священника. Священник их пустит. – Он сказал что-то еще, но очень быстро, и я не понял, о чем речь. Женщина сняла с корзины клетчатую тряпицу и вынула мех с вином. Мы с Доном вежливо кивнули мужчина в ответ тоже кивнул – и по очереди выпили.
– А он далеко отсюда живет? – спросил Дон.
Пальцы женщины замелькали с головокружительной быстротой. Другая ее рука, лежащая на корзине, казалось, не имела к ней никакого отношения.
– Пускай они там его и подождут, – сказал мужчина. – Он глянул на нас. – Сегодня в деревне похороны, – сказал он. – Поэтому священник в церкви. Пейте, синьоры.
Мы чинно, по очереди выпили, мужчина тоже. Вино было кислое, терпкое и забористое. Мул, позвякивая колокольчиком, щипал траву; его тень, огромная в косых лучах солнца, лежала на тропе.
– Похороны, – проговорил Дон. – А кто у вас умер?
– Он должен был жениться на воспитаннице священника, – сказала женщина. – Когда соберут урожай. У них и помолвка уже была. Богатый человек, и не старый. Ну вот, а два дня назад он умер.
Мужчина смотрел на ее губы.
– Ну, ну – дом да немного земли; это и у меня есть. Это так, ничего.
– Он был богатый, – сказала женщина. – Потому что он был молодой и везучий. А мой – он просто ему завидовал.
– Позавидовал, да и перестал, – сказал мужчина. – Верно, синьоры?
– Жизнь – это хорошо, – сказал Дон. Он сказал е bello {Это хорошо ит.}.
– Это хорошо, – сказал мужчина. Он тоже сказал е bello.
– Так он, значит, был помолвлен с племянницей священника, – сказал Дон.
– Она ему не племянница, – сказала женщина. – Она ему никто, просто приемыш. Без родни, без никого, и он ее взял, когда ей было шесть лет. А её мать, она только что в работном доме не жила, а так почти нищая. Нет, лачужка-то у нее была – вон там, на горе. И люди даже не знали, кто у девочки отец, хотя священник все пытался уговорить одного из них жениться на ней, ради де...
– Подождите, – сказал Дон. – Из кого из них?
– Одного из тех парней, кто мог быть отцом, синьор. Но мы его не знали – до самого тысяча девятьсот шестнадцатого. И оказалось, что он молодой парень, батрак; а на другой день и ее мать за ним уехала, тоже на войну – потому что здесь она с тех пор не появлялась, а потом, после Капоретто {1}, где убили девочкиного отца, один из наших деревенских парней вернулся и сказал, что видел ее мать. В Милане, в таком доме... ну... в нехорошем доме. И тогда священник взял девочку к себе. Ей было шесть лет худенькая, юркая, как ящерка. И когда священник за ней пришел, она спряталась где-то в скалах, на горе, и дом стоял пустой. И священник гонялся там за ней среди скал, и поймал, а она была зверек зверьком: чуть ли что не голая и без башмаков, босая, а ведь была зима.
– И священник, значит, приютил ее, – сказал Дон. – Добрый, видно, человек.
– У ней нет ни родных, ни своего жилья, ничего, а только то, что ей дал священник. Ну, правда, поглядишь на нее – не догадаешься. Что ни день в разных платьях: то красное, то зеленое, – как в праздник или в воскресенье, и этак-то с четырнадцати, с пятнадцати лет, когда девушке надо учиться скромности и трудолюбию, чтобы стать потом примерной женой своему мужу. Священник говорил, что воспитывает ее для церкви, и вот мы все ждали, чтобы он отослал ее в монастырь – к вящей славе Господа. Но в четырнадцать и в пятнадцать она уже была красавица, а уж непоседа и плясунья – первая в деревне, и молодые парни стали на нее поглядывать, – даже после помолвки. Ну и вот, а два дня назад ее нареченный помер.
– Священник, значит, обручил ее не с Господом, а с человеком, – сказал Дон.
– Он нашел ей самого лучшего жениха в нашем приходе, синьор. Молодой, богатый и каждый год в новом костюме, да не откуда-нибудь, а из Милана, от портного. И что вы думаете, синьоры? – урожай созрел, а свадьбы-то не было.
– Я думал, вы сказали, что она будет, когда урожай соберут, – сказал Дон. – Так вы... Значит, свадьбу хотели сыграть в прошлом году?
– Ее три раза откладывали. Ее хотели сыграть три года назад, осенью, после сбора урожая. А оглашение было в ту самую неделю, когда Джулио Фариндзале забрали в армию. И, я помню, тогда вся деревня удивлялась, что его очередь подошла так быстро; правда, он был, холостяк и без родных, только тетка да дядя.
– Что же тут особенно удивляться, – сказал Дон. – Власти – они на то и власти, чтобы все по-своему делать. И как он отвертелся?
– А он не отвертелся.
– Вот что. Поэтому и свадьбу отложили?
Женщина внимательно посмотрела на Дона.
– Жениха звали не Джулио, – сказала она.
– Понятно, – сказал Дон. – Ну, а Джулио, он-то кто был?
Женщина ответила не сразу. Она сидела, чуть пригнув голову. Во время разговора мужчина напряженно смотрел на наши губы.
– Давай, давай, – сказал он. – Выкладывай. Они мужчины, им женская болтовня что курье кудахтанье. Дайте только женщине волю, синьоры, она вам с три короба накудахчет. Пейте, синьоры.
– К нему она вечерами на свидания бегала – они встречались у реки; он-то даже еще моложе, чем она, был, поэтому в деревне и удивились, когда его забрали в армию. Мы еще и не знали, что она выучилась бегать на свидания, а они уже встречались. И она уже научилась так обманывать священника, как и взрослая, может, не сумела бы. – Мужчина мимолетно глянул на нас, и в его водянистых глазах проблеснула усмешка.
– Понятно, – сказал Дон. – А она, значит, и потом, после помолвки, все бегала на свидания?
– Нет. Помолвка была позже. Тогда мы еще думали, что она просто девчонка. И потом у нас в деревне говорили, что, мол, чужой ребенок – он вроде письма в конверте: с виду как все, а что внутри – неизвестно. А ведь от служителей Господа утаить грех ничего не стоит, их еще легче обмануть, чем меня или вас, синьоры, потому что они безгрешные.
– Верно, – сказал Дон. – И потом он, значит, узнал об этом?
– Конечно. Вскорости и узнал. Она удирала из дому вечером, в сумерки, и люди видела ее и видели священника: он караулил ее в саду, прятался и караулил, – служителю Господа всемогущего приходилось таиться, как сторожевому псу, и люди это видели. Грех, да и только, синьоры.
– А потом парня неожиданно забрали в армию, – сказал Дон. – Так?
– Так, синьор. Совсем неожиданно, и все очень быстро тогда сделалось ему и собраться толком не дали; мы здорово удивлялись. А потом поняли, что это был промысел Божий, и думали, что священник отошлет ее в монастырь. И в ту же неделю у них была помолвка – ее нареченного сейчас там внизу хоронят, – а свадьбу назначили на осень, и мы решили, что вот он, истинный промысел Божий: Господь послал ей жениха, о каком ей и мечтать-то не приходилось, – чтоб защитить своего слугу. Потому что служители Господа тоже подвластны искушению, так же, как я или вы, синьоры; без Божьей-то помощи и они беззащитны перед дьяволом.
– Ну-ну, – сказал мужчина. – Все это так, ничего. Потому что священник тоже на нее поглядывал. Мужчина, он мужчина и есть, хоть и в сутане. Верно, синьоры?
– Толкуй, толкуй, безбожник, – сказала женщина.
– И священник, значит, тоже на нее поглядывал, – сказал Дон.
– Это ему было наказание, Божье возмездие – за то, что он ее баловал. И Господь его в тот год не простил: урожай созрел, и мы узнали, что свадьба отложена, – как вы на это смотрите, синьоры? – девчонка без роду без племени отбрыкивалась от такого дара, а ведь священник хотел спасти ее, уберечь от нее же самой... Мы слышали, как они спорили – священник и девчонка, – и знали, что она его не слушается, что она удирает из дому и бегает на танцы, и жених мог в любую минуту увидеть ее или узнать от людей, какие фокусы она выкидывает.
– Ну, а священник, – сказал Дон, – священник-то на нее все поглядывал?
– Это ему была кара, Божье возмездие. И прошел год, и свадьбу опять отложили, и в тот раз не было даже церковного оглашения. Да-да, она совсем его не слушалась, синьоры, это она-то, нищенка, и мы, помнится, говорили: "Когда же жених-то все это наконец узнает, когда же он поймет, кто она такая, – ведь в деревне есть настоящие невесты, дочери всеми уважаемых родителей, скромницы, рукодельницы – не ей чета".
– Понятно, – сказал Дон. – А у вас есть незамужние дочери?
– Si. Одна. Двух мы уже выдали, а одна еще с нами живет. И хоть не мне это говорить, а все же девушка каких поискать.
– Ну-ну, женщина, – сказал глухой.
– Тут и сомнений никаких нет, – сказал Дон. – И парень, значит, ушел в армию, а свадьбу отложили на год?
– И еще на один, синьоры. А потом еще на один. И назначили на нынешнюю осень; и хотели сыграть ее как раз в этом месяце, когда соберут урожай. И молодых огласили – третий раз уже – в прошлое воскресенье, и священник сам читал оглашение, и жених был в новом миланском костюме, а она стояла рядом с ним, и на плечах у нее была шаль, та, которую жених ей подарил, и она обошлась ему лир в сто, а на шее у нее была золотая цепь, тоже его подарок, потому что он дарил ей такие вещи, какие и королеве не стыдно подарить, а он дарил их ей, девчонке без роду без племени, но мы надеялись, что хоть со священника-то теперь Господь снимет проклятие и отведет от его дома сатанинское наваждение, – ведь нынешней осенью еще и солдат должен был возвратиться.
– Ну, а жених-то, – спросил Дон, – он давно болел?
– Тут тоже все очень быстро сделалось. Крепкий был парень и здоровый; ему бы жить да жить. И вот заболел да в три дня и помер. Может быть, вы услышите колокол, если прислушаетесь, ведь у вас, у молодых, хороший слух. Гора, замыкающая долину с противоположной стороны, была в тени, и синеватая завеса косых солнечных лучей казалась монолитной стеной. А здесь, в солнечной тишине, изредка позванивал колокольчик. – Все в руках Божьих, проговорила женщина. – Кто может сказать, что он хозяин своей жизни?
– Никто, – ответил Дон. Он не смотрел на меня. Он
сказал по-английски: – Дай-ка сигарету.
– Они у тебя.
– Нету их у меня.
– Нет есть, в брючном кармане. Он вытащил сигареты. Он продолжал говорить по-английски:
– И умер он очень быстро. И обручили его очень быстро. И Джулио очень быстро загребли в армию. Тут есть чему подивиться. Все делалось очень быстро – только со свадьбой никто не спешил. Со свадьбой они, похоже, совсем не торопились, верно?
– Я ничего не знаю. Моя не понимать итальянский.
– У них все пошло не быстро да не спешно, как только Джулио загребли в армию. А к его приходу опять все завертелось очень быстро. Надо бы узнать, как у них в Италии, – входят священники в рекрутские комиссии? – Старик напряженно смотрел на его губы выцветшими, но внимательными и цепкими глазами. – И эта главная тропа ведет, значит, вниз, в деревню, а велосипедист свернул на узенькую, боковую... Как вино вам нравится, синьоры?
– Нравится, только, по-моему, оно было слишком кислое. Ну, да в деревне мы чем-нибудь перебьем оскомину.
Мужчина молча смотрел на наши губы. Женщина снова принагнула голову; ее загрубевшая рука разглаживала клетчатую тряпицу.
– Он в церкви, синьоры, – сказал мужчина.
– Понятно, – сказал Дон.
Мы снова выпили. Мужчина взял вторую сигарету – все с той же церемонной учтивостью, но у него она не выглядела нелепой. Женщина положила мех в корзину и прикрыла его тряпицей. Мы встали и взяли вещевые мешки.
– Ваши пальцы проворно разговаривают, синьора, – сказал Дон.
– Он и по губам понимает. А на пальцах я толкую с ним в кровати, когда темно. Старики мало спят. Старики лежат в кровати и разговаривают. Вы-то, молодые, не станете разговаривать в кровати.
– Ваша правда, – сказал Дон. – А вы много детей родили синьору?
– Si. Семерых. Но теперь мы старики. Мы только разговариваем в кровати.
II
Мы еще не дошли до деревни, когда зазвонил колокол. Размеренные удары тяжко скатывались с мрачной каменной колокольни, как льдистые капли с обнаженных, обдутых ветром и промерзших ветвей. Ветер начался на закате. Солнце коснулось горных вершин, бездонная голубизна неба потемнела, подернулась бутылочной зеленью, и только что едва видимые, размытые контуры горы, на которой стояла часовня с распятием и поблекшими, увядшими цветами, проступили резко очерченной чернью. И одновременно с этим потянул ветер: плотная и тугая стена воздуха с вкрапленными в нее льдистыми пылинками. Ветки деревьев упруго, без дрожи согнулись, словно придавленные тяжкой ладонью, а наша кровь стала стынуть, хотя мы все еще шли, – мы остановились чуть позже, когда тропа превратилась в деревенскую, мощенную плитами улицу.
Колокол все звонил.
– Странное время для похорон, – сказал я. – Он наверняка долго бы сохранился на этой ледяной высотище. Нет смысла так поспешно зарывать его в землю.
– Эти команды всегда торопятся, – сказал Дон. Мы не видели церковь: ее заслонял каменный забор. Мы стояли перед воротами, заглядывая во двор, огороженный с трех сторон стенами и перекрытый поверху деревянными стропилами, вокруг которых вились виноградные лозы. Во дворе стоял деревянный стол и две скамьи без спинок. Мы молча разглядывали двор, а потом Дон сказал: – Так, значит, это дядин дом.
– Дядин?
– У него не было родных, только тетка да дядя, – сказал Дон. – Вон, смотри, у двери. – В глубине двора виднелась дверь. В доме мерцал огонь очага, а рядом с дверью стоял прислоненный к стене велосипед. – Да велосипед же, дурень, – сказал Дон.
– Это велосипед?
– Конечно. Что же еще? – Велосипед был старомодный, с загнутыми назад и вверх, словно рога у газели, ручками руля. Мы стояли в воротах и рассматривали велосипед.
– Значит, та, другая тропка подходит к их черному ходу, – сказал я. Которым пользуется семья. – Мы стояли в воротах и слушали удары колокола.
– Там, во дворе, наверняка нет ветра, – сказал Дон. – И нам ведь некуда спешить. Все равно мы сможем поговорить с ним только после похорон.
– Правильно, здесь тоже можно приткнуться. – Мы вошли во двор и, приближаясь к столу, увидели солдата. Он стоял в дверях дома, освещенный огнем очага, и смотрел на нас. Теперь на нем была белая рубаха. Но мы узнали его по ботинкам. Вскоре он скрылся в доме.
– Мальбрук, значит, вернулся, – сказал Дон.
– А может, он приехал на похороны. – Мы прислушались к звону колокола. Во дворе вечерние сумерки уже сгустились, стало совсем темно. Жесткие виноградные листья, почти черные на фоне чуть подсвеченного синевато-багрового неба, упруго гудели, обдуваемые ветром. Удары колокола тяжко скатывались с колокольни, сливаясь в однотонный гул, напоминающий гудение жестких, словно жестяных, листьев.
– Может быть, – сказал Дон. – Только как он о них узнал?
– А может, ему священник написал письмо.
– Возможно, – сказал Дон. Огонь очага уютно мерцал в глубине дома. Потом в дверях показалась женщина: она внимательно смотрела на нас. – Добрый день,
падрона, – сказал Дон. – У вас не найдется глотка вина? – Она молча, не двигаясь, смотрела на нас, освещаемая огнем очага. Она была высокой. Она стояла в дверях – высокая, неподвижная, освещаемая огнем очага. – Видно, служила в армии, – сказал Дон. – В чине сержанта.
– А может, это она приказала Мальбруку ехать домой?
– Вряд ли. Он слишком медленно поворачивался.
Женщина заговорила:
– Конечно, синьоры. Присядьте.
Мы сняли вещевые мешки и сели за стол. Теперь мы хорошо видели велосипед.
– Солдат от велосипедной кавалерии, – сказал Дон. – Хотел бы я знать, почему он свернул с главной тропинки.
– Ладно, – сказал я.
– Что ладно?
– Ладно. Знай.
– Это что – шутка?
– А как же. Шуточка. Это потому, что мы старые. Мы разговариваем в призывной комиссии. Я ведь часто шучу.
– Тогда скажи мне что-нибудь серьезное.
– Ладно, – сказал я.
– Мы вроде одно и то же слышали – там, у часовни.
– Моя не понимать. Я любить Италия. Я любить Муссолини.
Женщина принесла вино. Она поставила его на стол и повернулась, чтобы уйти.
– Попробуй, – сказал я. – Спроси ее.
– А что? И спрошу, – сказал Дон. – У вас в доме остановился военный, синьора?
Женщина посмотрела на него.
– Это так, ничего, синьор. Просто вернулся из армии мой племянник.
– Вчистую, синьора?
– Вчистую, синьор.
Примите наши поздравления, синьора. У него наверняка много друзей, то-то они будут рады. – Женщина, худощавая и вовсе не старая, настороженно и выжидающе смотрела на Дона. – У вас в деревне похороны. – Женщина молчала. Она стояла, ожидая, когда Дон кончит говорить. – У него тоже, наверное, было много друзей. То-то они горюют сейчас, – сказал Дон.
– Будем надеяться, синьор, – сказала женщина.
Она двинулась к дому, и тогда Дон спросил ее насчет ночлега. Она резко и сразу же ответила, что ничего не выйдет, и мы поняли, что уговаривать ее бесполезно. И тут мы вдруг заметили, что колокол умолк. Снова стал слышен шуршащий шорох листьев, обдуваемых ветром.
– Нам говорили, что священник... – начал Дон.
– Да? Так что священник?
– Что у священника можно переночевать.
– Вот вы с ним и поговорите, синьор. – Она ушла в дом. У нее была размашистая мужская походка; на миг она появилась около очага и скрылась. Когда я глянул на Дона, он отвернулся. Он взял со стола бутылку.
– Ну, – сказал я, – почему же ты не стал ее расспрашивать? Что ж ты вдруг замолчал?
– Ей не до нас. Она же сказала, что вернулся из армии ее племянник. Только что, сегодня. Она хочет побыть с ним – ведь у него нету других родственников.
– А может, она боится, что его снова загребут в армию?
– Это что – тоже шутка?
– Мне бы на его месте было не до шуток. – Дон налил в стаканы вина. Позови-ка ее и скажи: мы, дескать, слышали, что ваш племянник женится на воспитаннице священника. Скажи ей, что мы хотим вручить ему подарок. Насос для промывки желудка. Он ему всерьез может понадобиться.
– Я знаю. – Он аккуратно налил вина в свой стакан. – Так одно из двух, без шуток – мы остаемся у священника?
– Салют, – сказал я.
– Салют. – Мы выпили. Слышался неумолчный, сухой, яростный шорох листьев. – Хоть было бы сейчас лето, – сказал Дон.
– Сегодня ночью будет здорово холодно, даже на сеновале.
– Да уж. Хорошо, что нам не придется сегодня спать на сеновале.
– А ведь оно не так уж и плохо – спать на сеновале, особенно когда нора в сене согреется.
– Ну, сегодня-то нам это ни к чему. Мы можем прекрасно выспаться на кровати, а утром, спозаранку, отправимся дальше.
Я налил в стаканы вина.
– Интересно, далеко тут до следующей деревни?
– Конечно далеко. – Мы выпили. – Хотел бы я, чтоб сейчас было лето. А ты?
– Еще бы. – Я вылил остатки вина в стаканы. – Выпьем. – Мы подняли стаканы, чокнулись. И посмотрели друг на друга. Ветер задувал льдистые пылинки под одежду, вгонял их сквозь кожу в тело, до самых костей, а ведь нас еще защищали каменные стены. – Салют.
– Мы уже это говорили.
– Ладно. Тогда еще раз салют.
– Салют.
Мы оба были молодыми: Дону двадцать три, мне – двадцать два. И ведь возраст – это не только годы; это еще и тоска по дому, по тем местам, где ты родился или рос. Так что вдали от дома – неважно, что именно тебя от него отделяет: время, пространство или опыт, – ты всегда старше своих лет, несмотря даже на то, что на чужбине годы идут медленно, очень медленно, и ты до самой смерти остаешься почти таким же юным, каким уехал из дому.
Мы стояли во тьме на ветру, разглядывая похоронную процессию священника, гроб и горсточку людей, провожающих мертвеца в последний путь. Они шли, и их одежду – особенно рыжевато-черную сутану священника – раздувал и рвал ветер, так что вся процессия, казалось, непристойно спешила, убегала от самой себя вперед, подгоняемая зеленовато-черной стеной ветра (воздух обжигал горло, как ледяной лимонад) к церкви, к кладбищу.
– И мы наконец спрячемся от ветра, – сказал Дон.
– Стемнеет еще только через час, – сказал я.
– Ясное дело. Мы как раз успеем подняться к перевалу. – Он глянул на меня. Я отвел глаза. В зеленоватых сумерках красные черепицы крыш казались черными. – Мы спрячемся наконец от ветра. – Опять начал звонить колокол. Мы ничего не знаем. Да, может, ничего и нет. Но мы-то так и так ничего не знаем. Нам бы только от ветра спрятаться. – Церковь была сложена из темного камня, это была одна из тех мрачных и почти вечных церквей, которые возводились по приказам неистовых, железных графов и епископов Ломбардии. Она от рождения была угрюмой и древней, время не состарило, не смягчило ее угрюмости. Она была – и пребудет во веки веков – неподвластной времени, неизменной и древней. Ломбардские графы и епископы могли бы, наверное, возвести и эти горы, как они возвели вокруг подземного сумрака стены своих темниц. А у двери стоял старомодный велосипед. Входя в церковь, мы глянули на него и в один голос сказали:
– Трудяга. Хлопотун.
– И он, значит, один из гробоносцев, – сказал Дон. Колокол все звонил. Мы прошли через алтарь и отошли в глубь церкви. Теперь мы спрятались наконец от ветра, и только отдельные порывы, прорывавшиеся иногда в церковь, лизали ледяными языками наши спины. Ветер яростно выл, обрывая медленные и тягучие волны колокольного звона раньше, чем они успевали наполнить воздух, и казалось, что мы слышим только далекие, отрывистые отзвуки звона, только эхо. Потолок вытянутого в длину сводчатого нефа скрывали сгущающиеся вверху сумерки, и горстка коленопреклоненных прихожан терялась, маленькая и едва заметная, в этом уходящем ввысь полумраке. В глубине алтаря, над недвижимыми огоньками свечей, возвышалась дароносица, ее высокие, инкрустированные серебром, словно опутанные светлой паутиной, края простирались в рассеченном тенями полумраке как распластанные с печальной торжественностью крылья. Сначала мы не слышали ничего, кроме ветра, – ни музыки, ни человеческих голосов. Молящиеся безмолвно стояли на коленях, маленькие, едва различимые в мрачном сумраке, который прорезали, не нарушая его, холодные, тихие, слабые огоньки свечей. И мне почудилось на миг, что стоящие на коленях люди мертвы.
– Они ни за что не управятся до темноты, – прошептал Дон.
– Может быть, это из-за страды, – прошептал я. – Ведь они наверняка работают сейчас от зари до зари. Живые не могут подстраиваться под мертвых.
– Но если он был такой богатый, то вроде бы...
– А кто хоронит богатых? Бедняки или богачи?
– Бедняки, конечно, – прошептал Дон. А потом мы увидели священника. Сначала мы его не замечали, но он стоял там – бесформенный сгусток тьмы над слабыми огоньками свечей; сквозь полумрак бледным пятном смутно проступало его лицо, а дароносица с неяркими бликами огоньков казалась застывшим водопадом; голос священника – медлительный, неумолчный – заполнял церковь, его раскаты, как мягкие крылья, бились о холодный камень церковных стен, сплетаясь с шуршащим шорохом ветра, обдувающего церковь, а здесь, в спокойном сумраке, недвижимые огоньки свечей выглядели нарисованными. – И он, значит, поглядывал на нее, – прошептал Дон. – Ему приходилось сидеть напротив нее, – скажем, за обеденным столом, – и смотреть, как она ест его пищу и из девчонки-нищенки, из приемыша Христа ради превращается во Владычицу мира, – и все время помнить, что это его пища, его заботы преображают ее – но не для него. Знаешь ведь: сначала она девчонка, заморыш, а потом наступает преображение, которого ты не замечаешь, и преображенный заморыш превращается во Владычицу, хозяйку мира. Ты видишь все это собственными глазами. Впрочем, нет, не глазами: в темноте было бы то же самое. И тебе все известно заранее, до преображения, но ты не преображения, не ее, преображенную, боишься, а ее прозрения: боишься, что она увидит свое всевластие, которое ты уже давно увидел, – тебе приходится умирать слишком много раз. И это неправильно. Несправедливо. Я надеюсь, что у меня никогда не будет дочери.
– Но ведь ты о кровосмешении толкуешь, – прошептал я.
– Конечно. И еще я говорю, что это как огонь: испепелит и исчезнет.
– Ты можешь смотреть на огонь или гореть в нем. Или никогда не видеть его вообще. Что бы ты выбрал?
– Не знаю. Пожалуй, я решил бы поглядеть и сгорел бы. А может, иначе и нельзя.
– Значит, лучше ничего не видеть?
– Наверно. – Мы ведь оба были очень молодыми. А у молодых все по-своему: их волнуют только пустяки. И пустяки эти кажутся им глубоко важными и очень часто разрастаются в трагедию – так уж устроен наш мир. Потому что в реальной жизни не бывает ничего абсолютно важного. И когда ты постигаешь реальность – в сорок, в пятьдесят, в шестьдесят лет, – она становится пустяковой, маленькой и совсем не глубокой: два метра в длину, да полтора в ширину, да три в глубину.
Панихида кончилась. За стенами церкви хозяйничал ветер: упорно и упруго тянул с черных гор, углубляя и без того почти бездонный бутылочно-зеленый шатер неба. Мы смотрели, как процессия выходит из церкви и движется с гробом к кладбищу. Четыре человека несли керосиновые фонари, а у могилы горстка людей гляделась толпою безмолвных шутов, – ветер клонил их неясные фигуры, пригибал огни фонарей и ссыпал в могилу пыль, словно собираясь похоронить всю землю. Вскоре погребение было окончено. Фонари закачались, двинулись вперед, приближаясь к церкви, и мы увидели священника. Он шел к своему жилищу, торопливо пересекая церковный двор, и его рыжевато-черную сутану развевал ветер, как бы подгоняя человека. Солдат был в штатском. Он отделился от толпы и, широко шагая – у него была теткина походка, – стал приближаться. Проходя по двору, он на миг повернул к нам лицо, самоуверенное и мрачное, сел на велосипед и уехал.