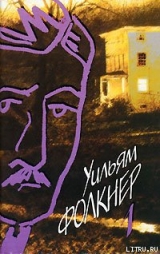
Текст книги "Солдатская награда"
Автор книги: Уильям Катберт Фолкнер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
– Аттис[18]18
Аттис – во фригийской мифологии бог плодородия.
[Закрыть], – сказал он.
– Как вы меня назвали? Он объяснил цитатой:
– «На миг, на вечные зоны над узкой пропастью твоей груди я застываю» и так далее и тому подобное. Знаете, как любят соколы? Они обнимаются на неслыханной высоте и падают, сомкнувшись, клюв в клюв, камнем вниз, в невыносимом экстазе. А нам приходится принимать нелепейшие позы, ощущая свой собственный пот. Сокол размыкает объятия и улетает прочь, стремительный, гордый и одинокий, а человеку приходится вставать, брать шляпу и уходить.
Она не слушала, что он говорит.
– Скажите, что вы слышали, – повторила она. Ее прикосновение походило на прохладный огонь. Он отодвинулся, но она последовала за ним, как вода. – Скажите, что вы слышали.
– А не все ли равно, что я слышал? Меня ваши амуры не трогают. Можете забрать себе всех Джорджей и Дональдов на свете. Берите их в любовники, если угодно. Мне ваше тело не нужно. Вбейте себе это в вашу очаровательную тупую башку, оставьте меня в покое, и я никогда больше не буду искать вас.
– Но вы только что сделали мне предложение. Что же вам от меня нужно?
– Вы все равно не поймете, даже если я постараюсь вам объяснить.
– Но тогда откуда же мне знать, как надо с вами обращаться, если бы я действительно вышла за вас замуж? По-моему, вы сумасшедший!
– Да, именно это я и пытался вам объяснить, – с холодной яростью сказал Джонс. – Вам не надо как-то «обращаться» со мной. Это я буду обращаться с вами. Можете обращаться со своими Джорджами и Дональдами, но не со мной!
Она стала похожа на лампочку, в которой выключили свет.
– По-моему, вы сумасшедший, – повторила она.
– Знаю. – Он резко встал. – Прощайте! Нужно ли мне попрощаться с вашей матушкой или вы сами поблагодарите ее за меня?
Не двинувшись с места, она сказала:
– Пойдите сюда.
Он слышал, как в холле скрипела качалка под тяжестью миссис Сондерс, сквозь входные двери он видел деревья, лужайку, улицу. Она снова повторила:
– Пойдите сюда.
Когда он подходил к ней, она показалась ему смутной белой тенью, свет, как стертый край монетки, окружал ее голову. Он сказал:
– Вы понимаете, что будет, если я подойду к вам?
– Но я не могу выйти за вас замуж. Я обручена.
– Я не об этом.
– А о чем же?
– Прощайте! – повторил он. Выходя из дверей, он слышал, как разговаривают мистер и миссис Сондерс, но из комнаты, откуда он вышел, донесся шорох движения, казавшийся громче всякого другого звука. Он подумал, что она пошла за ним, но в дверях было пусто, и, заглянув в комнату, он увидал, что она сидела там же, где раньше. Он даже не мог определить: смотрит она на него или нет.
– Я думала, вы ушли, – сказала она. Помолчав, он сказал:
– Мужчины вам очень много лгали, правда?
– Почему вы так думаете?
Он долго смотрел на нее. Потом снова пошел к дверям.
– Подите сюда, – быстро сказала она.
Она не пошевельнулась, только слегка отвернула голову, когда он обнял ее.
– Нет, я вас и не собираюсь целовать, – сказал он.
– Я в этом не уверена!
Но его объятие было холодным, безличным.
– Послушайте. Вы – глупая пустышка, но, по крайней мере, вы можете сделать то, что вам велят. Так вот, оставьте меня в покое, не допытывайтесь, что я слышал. Понимаете? Хоть на это у вас ума хватит? Я вас не обижу: я даже не хочу вас больше видеть. Так что не приставайте ко мне. Если я что и слыхал – я давно все забыл, а я редко поступаю так благородно. Слышите?
Лежа на его плече, гибкая и прохладная, как молодое деревцо, она сказала, прислонясь к его подбородку:
– Скажите, что вы слышали.
– Ну, хорошо же, – со злобой сказал он.
Одной рукой он сжал ее плечо, пригвождая к месту, другой безжалостно повернул ее лицо к свету. Она сопротивлялась, пытаясь оторвать лицо от его жирной ладони.
– Нет, нет, сначала скажите.
Он грубо вздернул ее лицо кверху, и она придушенным шепотом проговорила:
– Вы мне делаете больно!
– А мне плевать! Можете пугать Джорджа, а со мной это не пройдет!
Он увидел, как потемнели ее глаза, увидел красный отпечаток своих пальцев на ее щеке, на подбородке. Но он держал ее голову так, чтобы на нее падал свет, и с жадным предвкушением смотрел ей в лицо. Она быстро шепнула:
– Папа идет! Пустите!
Но вошла миссис Сондерс, и Джонс сразу стал спокойным, неторопливым, ленивым и бесстрастным, словно идол.
– О, да здесь совсем прохладно! Но как темно. Удивительно, как вы не уснули! – сказала миссис Сондерс, входя. – Я сама несколько раз засыпала на веранде. Но там такое яркое солнце. А Роберт ушел в школу без шляпы. Не знаю, что он будет делать.
– Может быть, у них в школе нет веранды, – пробормотал Джонс.
– Ах, не помню. Хотя наша школа совсем новая. Ее выстроили… Когда она выстроена, Сесили?
– Не знаю, мамочка.
– Я велела ему надеть шляпу от солнца, но, конечно, он забыл. С мальчиками так трудно! А вы тоже были трудным ребенком, мистер Джонс?
– О нет, мэм! – ответил Джонс, который не знал даже имени своей матери и мог претендовать на любое количество отцов. – Я никогда не причинял моим родителям беспокойства. Характер у меня, видите ли, спокойный. В сущности, до одиннадцати лет я только раз испытал страшное волнение – вдруг я обнаружил, что мой дневничок из воскресной школы пропал, а тут надвигался наш ежегодный школьный пикник. В нашей церкви давали денежные премии за аккуратное посещение, и я знал, что в моем дневнике сорок звездочек, и вот он исчез!
Джонс вырос в католическом приюте для сирот, но, как Генри Джеймс, добивался правдоподобия при помощи длинного и скучного изложения.
– Какой ужас! Но вы нашли свой дневничок?
– О да! И вовремя нашел, перед самым пикником. Оказывается, мой отец поставил его вместо одного доллара на беговую лошадь. И когда я отправился в деловую контору моего папаши, чтобы, как обычно, молить его пораньше вернуться домой, и проходил сквозь вертящиеся двери, я услыхал, как один из компаньонов отца спросил: «А чей это дневник?» Я сразу узнал свои сорок звездочек и потребовал дневник обратно, причем оказалось, что я на него выиграл двадцать два доллара. С тех пор я стал верующим христианином.
– Как интересно! – прокомментировала миссис Сондерс, не слушая, что он рассказывал. – Ах, если бы Роберт так любил воскресную школу!
– Может быть, и полюбил бы, если бы выиграл двадцать два на один.
– Простите, не поняла, – сказала она. Сесили встала, и миссис Сондерс сказала: – Детка, если мистер Джонс собирается уходить, ты бы прилегла. У тебя усталый вид. Правда, у нее усталый вид, мистер Джонс?
– О да, несомненно. Я только что об этом говорил.
– Перестань, мама, – сказала Сесили.
– Благодарю за завтрак, – сказал Джонс, идя к двери, и миссис Сондерс ответила что полагалось, удивляясь про себя, почему он не старается похудеть. («А может быть, и старается», – с запоздалым снисхождением подумала она.) Сесили пошла за ним.
– Пожалуйста, приходите! – сказала она, глядя ему прямо в глаза. – Что вы слышали? – прошептала она с отчаянной настойчивостью. – Вы должны мне сказать!
Джонс неуклюже поклонился миссис Сондерс и снова облил девушку безданным желтым взглядом. Она стояла рядом с ним в дверях, и день освещал ее хрупкую стройность. Джонс оказал:
– Тогда я приду ночью.
Она шепнула:
– Что?
И он повторил.
– Вы это слышали? – проговорила она одними губами, и лицо ее побелело.
– Вы это слышали?
– Нет, это я говорю.
Кровь снова прихлынула к ее щекам, глаза затуманились, потемнели.
– Нет, не придете! – сказала она. Он посмотрел на нее спокойно, и ее пальцы побелели на его рукаве. – Ну, пожалуйста! – совершенно искренне попросила она. Он не ответил, и она прибавила: – А если я расскажу папе?
– Заглядывайте к нам, мистер Джонс! – сказала миссис Сондерс. Джонс беззвучно шепнул: «Не посмеете!», и Сесили посмотрела на него с ненавистью и горечью, в беспомощном ужасе и отчаянии. – Мы вам всегда рады, – говорила миссис Сондерс. – Сесили, поди приляг: ты очень плохо выглядишь. Сесили такая слабенькая, мистер Джонс.
– О да, конечно. Сразу видно, что она – слабое существо, – вежливо согласился Джонс.
Сетчатая дверь отрезала его от них, и губы Сесили, подвижные и эластичные, как красная резина, беззвучно сложили слова: «Не смейте!»
Но Джонс не ответил. Он опустился по деревянным ступенькам и пошел мимо белой акации, где возились пчелы. Розы разрезали зелень листьев, розы, алые, мак губы куртизанок, как губы Сесили, сложившие слова «Не смейте!»
А Сесили смотрела вслед его жирной, ленивой, суконной спине, пока он не вышел из калитки на улицу, потом повернулась к матери, нетерпеливо ждавшей, когда можно будет высвободить свое тучное тело. Свет падал сзади, и мать не видела лица дочери, но что-то в безнадежной ее позе, в растерянности ее напряженного тела пугало и настораживало.
– Что ты, Сесили?
Девушка подошла к ней, и мать обняла ее плечи. Как всегда, миссис Сондерс съела слишком много и тяжело пыхтела, чувствуя свой корсет, считая минуты, когда можно будет его снять.
– Что, Сесили?
– Где папа?
– В городе, конечно. Что случилось, детка? – торопливо спросила она. – Что с тобой?
Сесили прильнула к матери. Та была, как скала, пыхтящая скала, нечто бессмертное, недоступное страстям, страхам. И бессердечное.
– Мне он нужен, – ответила она. – Мне необходимо его видеть.
– Ну, будет, будет, – оказала мать. – Пойди к себе, приляг. – Она тяжело вздохнула. – Неудивительно, что тебе нехорошо. Ох, эта молодая картошка! И когда я отучусь столько есть! Вечно не одно, так другое. Душенька, может быть, ты мне поможешь расшнуроваться? Кажется, я тоже прилягу на минутку, прежде чем пойти к миссис Кольман.
– Конечно, мама. Сейчас! – ответила она, думая, хоть бы отец, хоть бы Джордж, хоть бы кто угодно помог ей самой.
3
Джордж Фарр, слоняясь по улице, торопливо перескочил ограду, как только публика стала выходить из кино. Сколько он ни старался, он никак не мог притвориться, что просто вышел погулять, нет, он бесцельно и открыто ходил по улице взад и вперед, с какой-то хмурой откровенностью. Он слишком нервничал, чтобы куда-то зайти и вовремя вернуться, слишком нервничал, чтобы спрятаться и выжидать. И, бросив все попытки притворства, он откровенно шатался по улице, а как только люди стали выходить из кино, ловко перескочил отраду.
Девять тридцать. Люди сидели на верандах, в качалках, перебрасываясь негромкими словами, радуясь апрельскому теплу, люди проходили под деревьями, по улице, молодые и старые, мужчины и женщины, в удовлетворенном и неразборчивом гуле, как стадо, возвращающееся в хлев ко сну. Крохотные красные глазки проплывали на уровне ртов, и запах табака тянулся за ними, пронзительный и сладкий. Сплюнутые окурки пролетали дугой на перекрестках, освещая прохожих, на миг превращая их в гибкие тени. Машины проходили под фонарями, и Джордж узнавал знакомых: молодые люди, и с ними непременно те девушки, с которыми они «гуляли» – прически, стриженые головки и тонкие юные пальцы, непрестанно порхающие у волос, приглаживая их… Машины уходили в темноту, потом – на свет и снова – в темноту.
Десять часов. Роса на траве, роса на мелких колючих розах, от нее они стали нежнее, стали пахнуть. Но у них не было аромата, только запах юности, роста, как нет особых примет у молодых девушек, кроме сродства в юности, в росте. Роса на траве, и трава слабо светится, словно она вобрала сияние дня, а ночная влага высвободила его, вновь отдавая миру. Древесные лягушки трещали на ветках, насекомые гудели в траве. «Древесные лягушки ядовиты, – так ему говорили негры. – Если они в тебя плюнут – помрешь». Когда он шевелился – они умолкали (может, готовятся плюнуть?), когда он затихал – они снова выпускали из горлышка текучую свирельную монотонность, наполняя ночь неизбежным предвестием лета. Весна, как девушка, развязывающая пояс… Запоздалые пары и одиночки проходили мимо… Слова долетали до него обрывками, без смысла. Светлячки еще не вылетали.
Десять тридцать. Тени, раскачивающиеся на верандах, вставали, уходили в дом, расходились по комнатам, и то там, то тут, за плавно падавшими шторами, гас свет. Джордж Фарр прокрался по пустой лужайке к большой магнолии. Под ней, шаря в темноте, такой чернильной, что все вокруг казалось видимым, он нашел кран. Вода хлынула, залив неосторожно подставленный ботинок; из темноты внезапно вылетел пересмешник. Джордж напился, смочил сухие горячие губы и вернулся на свой пост. Когда он затих, лягушки и сверчки стали тихонько поддразнивать тишину, боясь разбить ее сразу. Мелкие розы, без аромата, раскрывались под росой; их запах крепчал, словно они сами крепчали, разрастались вдвое гуще.
Одиннадцать часов. Часы на башне, благосклонно глядя на город всеми четырьмя циферблатами, как доброе недремлющее божество, торжественно уронили одиннадцать размеренных золотых ударов. Их унесло тишиной, тишиной и темнотой, проходившей, как сторож по улице, выхватывая обрывки света из окон, пряча их в кулак, как вор прячет краденый носовой платок. Быстро промчалась запоздавшая машина – послушным девочкам надо быть дома к одиннадцати. Улица, город, весь мир опустели для него.
Он лег на спину, медленно ощущая расслабленные мышцы, с наслаждением чувствуя, как отдыхает спина, бедра, ноги. Стало так тихо, что он решился закурить, как можно осторожнее, стараясь не выдать себя вспышкой спички. Потом снова лег, потягиваясь, чувствуя ласковую землю сквозь одежду. Вскоре сигарета догорела, он выкинул ее щелчком и согнул колено, чтобы можно было достать до щиколотки и почесать ее как следует. По спине тоже не то ползла какая-то живность, не то ему так казалось, – впрочем, это было все равно. Он почесался спиной о землю, и зуд прекратился. Наверно, уже одиннадцать тридцать. Он подождал, по его расчету, минут пять, потом повертел часы и так и этак, пытаясь разглядеть стрелки. Но часы только дразнили его: он мог поклясться, что на них стояло любое время. Он осторожно засветил в ладонях еще одну спичку. Одиннадцать часов тринадцать минут. О черт.
Он опять лег, подмостив руки под голову. Отсюда небо казалось плоскостью, ровной, как утыканная медными гвоздиками крышка темно-синей шкатулки. Он смотрел, пока небо не приобрело глубину, казалось, будто он лежит на дне моря, и водоросли темными космами подымаются кверху, не шевелясь от течения, застыв; а то казалось, что он лежит на животе, глядя вниз, в воду, и его волосы темными космами, как у Горгоны, неподвижно свисают в воду. Одиннадцать тридцать.
Он потерял свое тело. Он совсем его не чувствовал. Казалось, что его глаза стали бестелесным оком, повисшим в темно-синем пространстве. Оком без мысли, взиравшим бесстрастно на обезумевший мир, где ветреные созвездия скачут и ржут, как единороги на синих лугах… Но оку нечем было прикрыться, нечем закрыть его – оно перестало видеть, и тут Джордж проснулся, и ему показалось, что его пытают, что ему выкручивают руки, выламывают суставы. Ему приснилось, что он закричал, и, чувствуя, что пошевелить рукой почти такая же мука, как не двигаться, он перекатился на бок, кусая губы. Вся кровь в нем вспыхнула: боль пронзила его обморочной дрожью и замерла. Но даже когда боль отошла, руки казались чужими. Он даже не мог вытащить часы, он боялся, что никогда не сможет перелезть ограду.
Но он все-таки перелез через нее, зная, что уже наступила полночь, потому что уличные фонари потухли, и в безликом, неминуемом одиночестве улицы он сильней, чем раньше, почувствовал себя преступником, уже сейчас, когда только начинался его подвиг. Он зашагал, стараясь подбодрить себя, стараясь не быть похожим на воришку негра, но, несмотря на это, ему казалось, что каждый тихий темный дом глазеет на него, следит за ним пустыми, тусклыми глазами, и у него бежали мурашки по спине, когда он проходил мимо. «Ну и пусть видят. Что мне до того? Разве я делаю что-нибудь запрещенное? Иду себе по пустой улице, ночью. Вот и все». Но как он ни старался, волосы на затылке тихонько шевелились.
Он задержал шаги, но не остановился: у ствола дерева он заметил движение, сгустившуюся тень. Первым порывом было – вернуться назад, потом он обругал себя трусливым дурнем. А вдруг там кто-то есть? Но он имел такое же, право ходить по улице, даже больше права, чем тот, кто прятался. Он зашагал вперед, уже не таясь, наоборот – с полным сознанием своего права. Когда он проходил мимо дерева, сгустившаяся тень слегка пошевелилась. Видно, тот, кто там был, не желал, чтоб его видали. Должно быть, трусил. И Джордж храбро зашагал дальше. Раза два он оглянулся, но ничего не увидал.
Ее дом был не освещен, но, помня о тени под деревом, Джордж из предосторожности, на всякий случай, спокойно прошел мимо. Через квартал он остановился, напрягая слух. Ничего, кроме мирных невыразительных ночных шумов. Он перешел улицу и снова остановился, прислушиваясь. Ничего, лягушки, сверчки – и все. Он пошел по траве, рядом с тротуаром, тихо, как тень, крадучись к палисаднику у ее дома. Тут он перелез через ограду и, пригибаясь, стал пробираться вдоль кустарника, пока не дошел до дома и не остановился напротив. Дом, молчаливый, неосвещенный, высился сонной квадратной тушей, и Джордж торопливо перебежал из тени ограды в тень веранды, куда выходили стеклянные двери. Он сел на клумбу, прислонясь спиной к стене.
От развороченной клумбы в темноту поднялся запах свежей земли, такой дружественный, свой в мире огромных смутных и бесформенных сгустков то плотной, то разреженной тьмы. Ночь, тишина; бескрайнее пространство, полное запаха свежей земли и размеренного стука часов в его кармане. Вскоре мягкая сырость земли проникла сквозь брюки, и, в тихой физической умиротворенности, он сидел, слившись с этой землей, ожидая какого-нибудь звука из темного дома за его спиной. И он услышал звук, только не из дома, а с улицы. Он сидел неподвижно, спокойно. Со свойственной ему непоследовательностью он чувствовал себя в большей безопасности тут, где ему быть не следовало, чем на улице, где он имел полное право ходить. Звук приблизился, показались две смутные фигуры, и Тоби с кухаркой, тихонько перешептываясь, прошли по дорожке к своему жилью… И снова ночь стала смутной, бескрайней и пустой. Снова он слился с землей, с темнотой и тишиной, со своим телом… с ее телом, тихо расступающимся, как маленький серебряный ручей… Рыхлая земля, гиацинты вдоль веранды беззвучно качают колокольцами… Не может быть, чтобы грудь, такая маленькая, все-таки была грудью… Тусклый блеск ее глаз под опущенными веками, блеск зубов над прикушенной губой, руки, вскинутые, как два тихих, сонных крыла… И вся она, как…
Он ахнул, затаил дыхание. Кто-то медленный и бесформенный шел к нему по лужайке, остановился напротив. Он снова затаил дыхание. Существо двигалось прямо на него, и он сидел, не шевелясь, пока оно не дошло почти до самой клумбы. И тут он вскочил на ноги и, прежде чем тот поднял руку, в ярости, молча, напал на незваного пришельца. Тот принял бой, и они упали, молча, пыхтя и царапаясь. Они так крепко сцепились, и было так темно, что они ничего не могли сделать друг другу, но, поглощенные борьбой, они ничего не замечали вокруг, пока Джонс вдруг не прошипел из-под руки Джорджа Фарра:
– Тихо! Сюда идут!
Оба сразу остановились и сели, обхватив друг дружку, как в первой позиции какого-то сидячего танца. В нижнем этаже вдруг появился свет, и, как по договору, оба вскочили и бросились в тень веранды, упав на клумбу, когда мистер Сондерс вышел на веранду. Прижавшись к кирпичной стене, оба лежали, охваченные одним желанием – спрятаться, и прислушивались к шагам мистера Сондерса над головой. Они старались не дышать, зажмуривши глаза, как страусы, а хозяин дома подошел к краю веранды и, остановившись прямо над ними, стряхнул на них пепел сигары и сплюнул на их распростертые тела… Прошли века, пока наконец он повернулся и ушел.
Через некоторое время Джонс отвалился, и Джордж Фарр размял свое затекшее тело. Свет снова потух, и дом, большой, квадратный, снова сонно стоял меж деревьями. Они встали и прокрались по лужайке, а за ними лягушки и сверчки снова тихо затянули свою монотонную перекличку.
– Какого… – начал было Джордж Фарр, когда они выбрались на улицу.
– Молчите! – перебил его Джонс. – Отойдем подальше.
Они пошли рядом, и Джордж Фарр, кипя от злости, решил, что теперь уже безопасно. Остановившись, он придвинул к нему лицо.
– Какого черта вы там делали? – выпалил он.
У Джонса все лицо было в грязи, воротник разорван. Галстук Джорджа Фарра болтался, как петля на висельнике, под самым ухом, и он вытирал лицо носовым платком.
– А вы что там делали? – отпарировал Джонс.
– Не ваше собачье дело! – запальчиво крикнул Джордж. – Я вас спрашиваю: какого черта вы шляетесь около этого дома?
– А, может, она сама меня позвала. Ну, что скажете?
– Врешь! – крикнул Джордж, прыгая на него.
Снова поднялась драка, нарушая тишину спящих тополей. Джонс походил на медведя, и Джордж Фарр, чувствуя, как его обхватили толстые руки, ударом ноги сшиб Джонса. Они упали. Но Джонс очутился сверху, и Джордж задохнулся, чувствуя, как воздух уходит из легких, когда Джонс прижал его спиной к земле.
– Ну, как? – спросил Джонс, думая: «Как больно ноге!» – Хватит?
Вместо ответа Джордж Фарр стал вырываться и бороться, но Джонс прижимал его, равномерно стукая головой о жесткую землю.
– Бросьте, бросьте ребячиться. Зачем нам драться?
– Возьмите обратно то, что вы про нее сказали, – задыхаясь, выговорил Джордж. Потом перестал вырываться и начал ругать Джонса всякими словами.
Джонс невозмутимо повторил:
– Хватит? Больше не будете?
Джордж Фарр, выгнув спину, стал извиваться, тщетно пытаясь сбросить толстое, тяжелое тело Джонса. Совсем ослабев от злости, чуть не плача, он обещал, что «больше не будет», и, высвободясь наконец из-под мягкой тяжести, сел.
– Ступайте-ка лучше домой, – посоветовал Джонс, вставая. – Ну, живо, подымайтесь! – Он схватил Джорджа за руку и с силой дернул кверху.
– Пусти, ублюдок, подкидыш проклятый!
– Ах, и это уже всем известно? – вежливо сказал Джонс, выпуская Джорджа. Тот медленно встал на ноги, и Джонс продолжал: – А теперь бегите! А то вы загулялись. Да еще ввязались в драку.
Джордж Фарр, пыхтя, приводил в порядок одежду. Джонс неподвижно стоял рядом с ним.
– Прощайте! – сказал наконец Джонс.
– Прощайте.
Они смотрели друг на друга, потом Джонс повторил:
– Я сказал: «Прощайте».
– Слышал.
– Так в чем же дело? Почему не уходите?
– Вот еще, какого черта!
– А я ухожу. – Он повернулся. – Увидимся.
Джордж Фарр упрямо пошел за ним. Джонс, медленный, толстый, расплывшийся в темноте, заметил:
– Разве вы теперь живете в этой стороне? Переехали недавно, что ли?
– Сегодня я живу там, где вы, – упрямо сказал Джордж.
– Тронут. Но у меня только одна кровать, а я не люблю спать вдвоем. Так что пригласить вас к себе не могу. В другое время – пожалуйста!
Они медленно шли под деревьями, в неразлучном упорстве. Часы на башне пробили час, их бой растворился в тишине. Наконец Джонс снова остановился.
– Слушайте, зачем вы за мной увязались?
– Она вас не звала прийти ночью.
– Почем вы знаете? Если она позвала вас – значит, могла позвать и еще кого-нибудь.
– Вот что, – сказал Джордж Фарр, – если вы ее не оставите в покое – я вас убью. Клянусь Богом: убью.
– Салют! – пробормотал Джонс. – Аве, Цезарь… А почему вы ее папаше не скажете об этом? Может быть, он разрешит вам поставить палатку на лужайке перед домом, охранять ее покой? А теперь уходите, отстаньте от меня, поняли?
– (Но Джордж упрямо шел за ним.) – Хотите, чтобы я опять вышиб из вас душу?
– предложил Джонс.
– Только попробуйте! – прошептал Джордж с приглушенной яростью.
– Вот что, – сказал Джонс. – Мы оба и так зря потратили ночь. Уже поздно.
– Я вас убью! Никогда она вас не звала сюда! Просто вы за мной шпионили. Я вас видел за деревом. Оставьте ее в покое, слышите?
– Да бросьте вы, черт подери! Разве вы не видите, что я хочу одного – лечь спать! Пойдем домой, Христа ради!
– Поклянитесь, что идете домой.
– Да, да, клянусь. Доброй ночи!
Джордж следил, как уходила бесформенная фигура, пока она не стала только более густой тенью меж тенями. Тогда он повернул к своему дому, притихший, полный злобы, горького разочарования и страсти. Если этот идиот нахально помешал ему в этот раз, может быть, он и каждый раз ему будет так мешать. А может быть, она передумает, может быть, после того, как он ее подвел сегодня… «Нет, судьба позавидовала моему счастью, этому невыносимому счастью», – с горечью подумал он. Под деревьями, обнявшими спокойное небо, весна распускает пояс, вся томная… Ее тело, как узкий ручей, нежное… «Думал, что потерял тебя, но я нашел тебя опять, а тут он, этот…» Он внезапно остановился от неожиданной мысли, от подозрения. И, повернув, побежал назад.
Остановившись у дерева, на краю лужайки, он через некоторое время увидел, как что-то бесформенное медленно движется по едва заметной траве вдоль ограды. Он смело подошел, и тот остановился, и тогда он тоже выпрямился и пошел ему навстречу. Подойдя к нему. Джонс сказал:
– Вот черт!
И оба встали рядом, пришибленные и безмолвные.
– Ну? – с вызовом оказал наконец Джордж Фарр.
Джонс тяжело сел на тротуар.
– Покурим, что ли? – сказал он тем равнодушным тоном, которым говорят в мертвецкой, около трупа.
Джордж Фарр сел рядом с ним, и Джонс подал ему спичку, потом закурил свою трубку. Он вздохнул, окутавшись невидимым облаком пахучего табаку. Джордж Фарр тоже вздохнул и оперся спиной о дерево. Звезды плыли, как огни на мачтах бесконечных караванов, плывущих по темной реке все дальше и дальше. Тьма и тишь, и земля поворачивается сквозь тьму к новому дню… Кора у дерева жесткая, земля такая твердая. Джордж смутно подумал: хорошо бы стать таким толстым, как Джонс, хоть на время…
…Он проснулся, когда начало светать. Он уже не чувствовал ни земли, ни дерева, пока не пошевелился. Ему казалось, что его зад стал плоским, как стол, а вся спина – в ямах, куда выпуклости дерева входят плотно, как спицы в обод.
На востоке забрезжил свет, где-то там, за ее домом, за комнатой, где она лежала в мягком, домашнем уюте сна, как смутный призыв серебряной трубы; вскоре таинственный мир обрел знакомую перспективу, и вместо сгущенной тени среди других теней Джонс стал обыкновенным толстячком в мешковатом спортивном костюме – он лежал на спине, бледный и жалкий, храпевший во сне.
Таким и увидел его Джордж Фарр, окончательно проснувшись, – испачканного землей, мокрого от росы. Сам Джордж тоже был весь в земле, и галстук болтался под ухом, как петля висельника. Колесо вселенной, замедлив вращение сквозь тьму, прошло сквозь мертвую точку и снова набирало скорость. Через несколько минут Джонс со стоном открыл глаза. Он тяжело поднялся, потягиваясь, зевая и отплевываясь.
– Самое время идти домой, – сказал он.
Джордж Фарр, чувствуя горечь во рту, пошевельнулся, и боль мелкими красными мурашками побежала по телу. Он тоже поднялся, и они очутились рядом. Оба зевали.
Джонс неуклюже повернулся, слегка хромая.
– Доброй ночи, – сказал он.
– Доброй ночи.
Восток пожелтел, потом покраснел, и день по-настоящему вошел в мир, нарушая сон воробьев.








