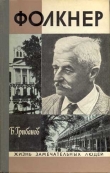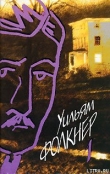Текст книги "Пилон"
Автор книги: Уильям Катберт Фолкнер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
– А мы дернуть идем. К Джо, – сказал корректор. – Давай с нами.
– Я завязал, – сказал репортер. – К тому же я еще тут не доделал.
– Это я вижу, – отозвался корректор. – Но ты бы лучше доделывал в постели… В каком смысле завязал? В таком, что начинаешь за свою выпивку сам платить? Если так, с нами и начни; боюсь только, Джо хлопнется в обморок.
– Да нет, – сказал репортер. – Я на самом деле завязал.
– С каких это пор, скажи на милость?
– С утра сегодняшнего, а с которого часа – не помню… Мне правда тут надо кончить. Вы, ребята, меня не ждите.
Они вышли, надевая на ходу пиджаки, но почти тут же явились две уборщицы. Однако репортер не обратил на них внимания. Он вынул из машинки страницу, положил ее на другие страницы и аккуратно выровнял стопку, не изменяя мирного выражения лица. «Да, – думалось ему. – Не деньги, нет. Они тут ни при чем… Да. И сейчас она…» Уборщицы, когда он подошел к столу Хагуда и зажег над ним свет, тоже не посмотрели в его сторону. Он безошибочно выдвинул нужный ящик, достал оттуда книжечку незаполненных векселей, оторвал верхний бланк и положил книжечку обратно в ящик. Он не стал возвращаться за свой стол и не стал задерживаться у ближайшего стола, потому что одна из женщин была занята там уборкой. Он зажег лампу на следующем после ближайшего, сел, вставил в пишущую машинку чистый бланк и принялся методично его заполнять – аккуратный удобный листок тоненькой бумаги, благодаря небольшому числу пометок превращавшийся теперь в инструмент острей стального и долговечней каменного, в инструмент, посредством которого последний и роковой шаг был словно неким обезболивающим средством изъят из сферы не только страха, но и самого разума и помещен в сферу самообмана и безоглядной надежды, подобно надписыванию адреса на любовном письме: …16 февраля 1935 г. …16 февраля 1936 г. мы… авиационная корпорация «Орд – Аткинсон», Блейзделл, Франсиана…Он не приостановился ни на секунду, пальцы его не дрогнули и не замерли; он впечатал сумму, как короткий, из двух-трех слов, заголовок колонки: пять тысяч долларов ($ 5000)…А вот теперь он приостановился, держа на весу замершие пальцы, быстро соображая, пока уборщица выбрасывала что-то в мусорную корзину у стола прямо перед ним, при этом издавая нарочитый приглушенный царапающий звук, как огромная крыса: «Если одна только, этого по закону мало, но, если я дорисую вторую, могут возникнуть подозрения». Он опять стал печатать, ударяя по клавишам четко и твердо: в-о-с-е-м-ь п-р-о-ц-е-н-т-о-в, – и выкрутил вексель из машинки. Затем, поскольку у него не было авторучки, подошел к редакторскому столу, включил там свет, расписался на первой линии подписей, промокнул листок и какое-то время тихо посидел, глядя на него и думая: «Да. В постели сейчас. И вот он…»
– Да, – негромко произнес он вслух, – выглядит нормально. – Он повернулся и спросил, обращаясь к обеим уборщицам: – Не знаете случайно, который час?
Одна из них прислонила швабру к письменному столу и принялась вытягивать из переднего кармана платья обувной шнурок невероятной длины, на конце которого в какой-то момент все-таки показались часы – тяжелые, старомодные, золотые, подходящие скорее мужчине, чем женщине.
– Два тридцать четыре, – сообщила она.
– Спасибо, – сказал репортер. – Может, кто-нибудь из вас курит сигареты?
– Вот одна, я ее на полу нашла, – сказала другая. – Правда, она не очень. На нее наступили.
Сколько-то табаку в ней все же было, но горела она быстро; каждая затяжка давала репортеру ощущение чего-то преходящего и рискованного, как будто стоит ему сделать еще один вдох, как табак вместе с огнем и всем остальным покинет бумажную трубочку, полетит и задержится только у него в гортани или в глубине его легких; три затяжки – и с сигаретой было покончено.
– Спасибо, – сказал он. – Если еще найдете, положите, пожалуйста, на тот стол, где пиджак, хорошо? Спасибо…
«Без двадцати двух три, – подумал он. – То есть даже меньше шести часов осталось». Да,подумал он, но потом это вылетело из его сознания, вновь растворилось в длительной безмятежной вялой ненадежде, нерадости – просто в ожидании с мыслью о том, что ему следовало бы поесть. Потом он подумал, что лифт, конечно, сейчас не работает, и это решает вопрос о еде. «Зря я сигаретами не запасся, – подумал он. – Поесть бы, Господи». В коридоре теперь свет не горел, но должен был гореть в уборной. Он вернулся к своему столу, вынул из пиджачного кармана сложенную газету и опять вышел в коридор; прислонясь к пропахшей карболкой стене уборной, он развернул газету на первой странице все с теми же, день ото дня неизменными заголовками в рамках – банкиры, фермеры бастующие, одни глупые, другие невезучие, третьи попросту преступники, причем все их сегодняшнее отличие от вчерашнего состояния заключено не в чем-то, что они сделали, а всего-навсего в короткой строке отпечатанных букв под официальным названием газеты. Стоять так ему было легко, и он не чувствовал необходимости перераспределять вес, опираясь то на одну, то на другую ногу; ему не силу тяготения надо было теперь преодолевать, а лишь инерцию, и объема, массы в нем было сейчас еще меньше, чем в восемь часов, когда он взбегал по лестнице, так что шевельнулся он лишь после того, как сказал себе: «Уже, наверно, четвертый час».
Аккуратно сложив газету и выйдя в коридор, он бросил взгляд в темное помещение своего отдела, и понял, что уборщицы кончили работу. «Так-так. Дело идет к четырем», – подумал он, задаваясь вопросом, что именно он ощущает – настоящий рассвет или поворот темного шара, на котором живут люди, – за мертвую точку, когда больные и обессиленные имеют, как считается, больше всего шансов умереть, и постепенное начало вращения, медленное раскручивание, преодолевающее последнюю вязкую неохоту тьмы, города, который составляли разрозненные элементы – корявые чесоточные шесты с растрепанными пальмовыми кронами наверху, похожими на чудовищные травяные пучки стародавних деревенских метел, пустая использованная сцена гремучих нильских ладей-катафалков прошедшего вечера, теперь безразлично распластавшаяся под башмаками сегодняшних утренних уборщиков, затоптанный мишурный звездный навоз в желобах, где косами заплетаются извергаемые гидрантами потоки. «А у Альфонса и у Рено официанты не только понимают французский язык долины Миссисипи, но и могут принести из кухни то, что ты сам не уверен, заказал или нет», – подумал он, ощупью лавируя между столами, затем набивая пиджак бумагой, чтобы подложить под голову, и растягиваясь на полу. «Да, – подумал он, – в постели сейчас, и вот он войдет, и она спросит: «Ну что, получил?»– а он: «Получил? Что получил? А, ты про машину. Да, наша она, наша. Иначе зачем было туда мотаться».
Разбудило его не солнце и не то, что было бы солнцем, если бы не обычная зимняя утренняя хмарь; он, хотя в последние сорок восемь часов спал лишь немногим больше, чем ел, просто проснулся, и все, подобно тем людям, что, живя вне механической регламентации времени суток, способны благодаря некоему безошибочному инстинктивному дару совпасть с любым заданным моментом. Однако поезд-то будет отправлен механическим распоряжением, а часов в здании, где находился репортер, пока еще не было. Худой, изможденный (он даже не умыл лицо, не стал тратить время), он сбежал по лестнице и понесся по улице; не замедляя бега, он завернул туда, где каждое утро в тот самый миг, когда гасли уличные фонари, в витрине между бумажными пойнсеттиями [23]23
Пойнсеттия («рождественский цветок») – тропическое растение с ярко-красными листьями, похожими на цветы.
[Закрыть]и сменными металлическими полосками с названиями блюд выставлялись неизменные половинки грейпфрута, проверенные временем, непроницаемые и невредимые, как извлеченные из земли сосуды древнегреческих и древнеримских крестьян. В отделе городских новостей это заведение окрестили «тошниловкой»; то был один из десяти тысяч узких туннельчиков, в каждом из которых имеются прилавок, череда отполированных ягодицами табуреток, электрический кофейник и хозяин-грек, похожий на бывшего циркового борца. Каждое подобное заведение соседствует с редакцией той или иной из десяти тысяч газет и повторяется по всей стране в десяти тысячах вариаций; точно такой же толстомясый грек в точно такой же грязной хлопчатобумажной куртке мог бы пялиться на него где угодно поверх точно такого же стеклянного гроба, наполненного злаковыми хлопьями в мисках, апельсинами и булочками, которые явно были эксгумированы там же, где и витринный грейпфрут, и только-только покрыты лаком. Чуть погодя репортер смог увидеть, что показывают часы на дальней стене: всего-навсего четверть восьмого.
– Ах ты, Господи, – сказал он.
– Кофе? – спросил грек.
– Да, – сказал репортер. «И поесть бы чего», – подумал он, глядя на желоб со стеклянными стенками и крышкой, на котором лежали его ладони, не с отвращением теперь уже, а с некой деликатной неодобрительной воздержанностью, как старые дамы в романах. И без всякого нетерпения, без всякой спешки; как прошлым вечером он увидел неумолимое возвращение слепой яростной кривой, по которой он двигался, в точку, где он потерял управление, – некое духовное подобие петли, описываемой аэропланом на земле после аварийной посадки, – так сейчас он чувствовал, что его траектория наконец выпрямляется и уже сама несет его вперед и ввысь, ровно и без отклонений, не требуя от него никаких усилий; ему надо было позаботиться только о том, чтобы взять с собой все необходимое, потому что на сей раз возврата не будет.
– Дайте мне такую, – сказал он, постучав пальцами одной руки по стеклу, в то время как другой рукой трогал, осязал сложенный листок бумаги в кармашке для часов. Он съел булочку и выпил кофе, не ощутив вкуса ни того, ни другого, почувствовав только теплоту кофе; часы показывали двадцать пять минут восьмого. «Можно пешком», – подумал он.
Позже хмарь должна была развеяться, но, когда он вошел в здание вокзала и увидел встающего со скамьи Шумана, небо было еще пасмурным.
– Позавтракал уже? – спросил репортер.
– Да, – сказал Шуман.
Репортер посмотрел на него ярко-серьезно-пристальным взглядом.
– Пошли, – сказал он. – Можно уже садиться.
Под вокзальным навесом все еще горели огни; стеклянный потолок был такого же цвета, как небо снаружи.
– Скоро рассеется, – сказал репортер. – Может, уже к тому времени, как мы туда доберемся; обратно, скорее всего, будешь лететь по солнышку. Благодать, правда?
Но хмарь рассеялась раньше – к тому моменту, как они выехали из города; вагон (целый большой кусок его был в их распоряжении) почти в тот же миг осветился жиденьким солнцем.
– Я же говорил, назад при ясном небе будешь лететь, – сказал репортер. – Ну что, надо бы дооформить документ.
Он вынул из кармана вексель; все с той же яркой и серьезной пристальностью он смотрел, как Шуман сначала читает бумагу, потом с трезвым видом обдумывает ее.
– Пять тысяч, – сказал Шуман. – Это…
– Внушительная цена? – спросил репортер. – Да. Я хочу, чтобы не было никаких заминок, до того как мы не взлетим на нем и пока не приземлимся в аэропорту. Чтобы цена была такой, что даже Маршан не посмеет…
Он смотрел на Шумана ярким, спокойным, серьезным взглядом.
– Да, – сказал Шуман. – Я понимаю.
Он сунул руку во внутренний карман пиджака за авторучкой; репортер по-прежнему не двигался, яркость, пристальность и серьезность в его взгляде были все теми же, когда он наблюдал за сознательным, неторопливым, чуть неуклюжим движением пера, выводившего на строчке для подписи пониже той, где он расписался сам, буквы: Роджер Шуман.Но даже в этот момент он не пошевелился; лишь когда перо, не останавливаясь, перескочило еще ниже, на третью строчку, и вновь задвигалось, он наклонился и задержал руку Шумана прикосновением своей, глядя на недописанное третье имя: за доктора Карла Ш…
– Погоди, – сказал он. – Что ты делаешь?
– Расписываюсь за отца.
– А он признает подпись?
– Придется постфактум. Да. Он в случае чего поможет тебе выкрутиться.
– Мне выкрутиться?
– Я даже пяти сотен не буду стоить, если не финиширую в этой гонке первым.
Появился кондуктор; двигаясь между сиденьями враскачку, над ними он на миг приостановился.
– Блейзделл, – объявил он. – Блейзделл.
– Постой, – сказал репортер. – Может, я чего не понимаю. Я ведь не летчик; весь мой опыт – это часовой полет с Мэттом. Я ведь как Мэтта понял: что он опасается поломки шасси, или что пропеллер погнется, или там конец крыла как-нибудь…
Он смотрел на Шумана ярко-серьезно, не снимая руки с его запястья.
– Я думаю, я нормально его посажу, – сказал Шуман. Но репортер все глядел на Шумана, не шевелясь.
– Значит, что – полный порядок? Дело только в том, чтобы его хорошо посадить? Как Мэтт рассказывал про свой полет и посадку?
– Думаю, да, – сказал Шуман. Поезд начал замедлять ход; за окном плыли заросли олеандра и увешанные мхом виргинские дубы, солнце вспыхивало на каплях росы, уловленных легкими нитями висящей на кронах паутины; возникло оплетенное диким виноградником здание вокзала, замедляясь, готовясь остановиться.
– Потому что это просто денежный приз, больше ничего; всего-навсего один полет. И Мэтт поможет тебе починить твой самолет, и к следующему воздушному празднику ты будешь в полной готовности…
Они посмотрели друг на друга.
– Я думаю, я смогу его посадить, – сказал Шуман.
– Да. Но слушай…
– Смогу посадить, – сказал Шуман.
– Хорошо, – сказал репортер и отнял руку от запястья Шумана; перо вновь задвигалось, уверенно и четко завершая подпись: за доктора Карла Шумана – Роджер Шуман.Репортер, поднимаясь, взял вексель. – Хорошо, – повторил он. – Пошли.
Они двинулись тем же путем, что и вчера; идти было около мили. Вскоре дорога пошла краем поля, за которым виднелись здания – стоящая особняком контора, мастерская и ангар с крупной надписью поверх открытых ворот:
АВИАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«ОРД – АТКИНСОН», —
все из бледного кирпича, такие же аккуратные, как новый дом Орда, и явно построенные одновременно с ним. Сидя на земле чуть поодаль от дороги, они видели, как двое механиков выкатывают красно-белый моноплан, в котором Орд установил свой рекорд, как они запускают и прогревают мотор, как затем Орд выходит из конторы, садится в самолет, выруливает к концу поля, поворачивает и взлетает прямо у них над головами, уже опережая свой собственный звук футов на сто.
– Отсюда до аэропорта Фейнмана сорок миль, – сказал репортер. – Лету ему десять минут. Пошли. Позволь, я уж сам буду вести переговоры. Боже ты мой! – воскликнул он изумленно, с легкой экзальтацией. – Я же ни разу в жизни еще не солгал так, чтобы мне поверили; может, это-то мне всегда и было нужно!
Когда они дошли до ангара, ворота уже были закрыты, оставалась только щель, в которую едва мог войти человек. Шуман вошел, уже оглядываясь по сторонам, пока не увидел самолет – низкоплан с толстой носовой частью и трубчатым фюзеляжем, оканчивающимся диковинно уплощенным хвостовым оперением, из-за чего машина казалась непринужденно и неуклонно протащенной сквозь огромную, полусжатую в кулак, одетую в перчатку руку.
– Вот он, – сказал репортер.
– Ага, – сказал Шуман. – Вижу…
«М-да, – подумал он, молча разглядывая странное хвостовое оперение и тупоносый короткий цилиндрический корпус. – Орд, наверно, не так удивился, когда впервые на это посмотрел».
Потом он услышал, как репортер с кем-то разговаривает, и, повернувшись, увидел одетого в безукоризненно чистый комбинезон коренастого мужчину со сметливым лицом кейджана [24]24
Кейджаны – потомки французов, переселившихся из Канады в южные районы штата Луизиана.
[Закрыть].
– Это мистер Шуман, – сказал репортер и продолжил в тоне бодрого, яркого изумления: – Вы что, хотите сказать, что Мэтт вам не сообщил? Мы купили эту машину.
Шуман не стал ждать. Он всего секунду смотрел на Маршана, который, держа вексель двумя руками, разглядывал его, преисполненный той озадаченной неподвижности, позади которой рассудок мечется туда-сюда, как терьер за ограждением.
«Да, – подумал Шуман не мрачно, не сурово, – он, как и я, не обошел вниманием пять тысяч. О таких суммах предупреждать надо…»
Он двинулся к самолету, но по дороге раз или два оглянулся на Маршана и репортера; кейджан по-прежнему излучал упрямую и медленно твердеющую, кристаллизующуюся ошеломленность, тогда как репортер разглагольствовал, колыхался перед ним и, казалось, только благодаря одежде не разлетался на части; Шуман даже уловил его слова:
– Конечно, вы можете позвонить в аэропорт и попытаться поймать его. Но только, Бога ради, не говорите никому, что Мэтт содрал с нас за чертов драндулет пять тысяч. Он обещал держать язык за зубами.
Но звонить никто явно не собирался: почти тут же (во всяком случае, так показалось Шуману) репортер и Маршан очутились с ним рядом; репортер молчал теперь и смотрел на него с прежним ярким вниманием.
– Давайте выведем его наружу и взглянем на него, – сказал Шуман.
Они выкатили самолет на предангарную площадку, где он стал еще приземистей и ширококостней на вид. Ничего похожего на подтянутость тех, с осиными талиями, что стояли в аэропорту. Этот был тупорылый, толстоватый, внешне чуть ли не медлительный; легкость его, когда они двигали его вручную, была парадоксальной, диковинной. Добрую минуту репортер и Маршан смотрели на Шумана, стоявшего у машины и разглядывавшего ее с глубокомысленной серьезностью.
– Годится, – сказал он наконец. – Давайте запустим двигатель.
Тут репортер заговорил, чуть отклоняясь от вертикали легонько и тщедушно, как ободранное гусиное перо, упавшее острием на бетонное покрытие площадки:
– Слушай. Ты сказал вчера вечером, что это, может быть, распределение веса; ты сказал, что если бы мы могли как-то сдвинуть центр тяжести, пока машина в воздухе, то ты, возможно…
Позднее (как только Шуман скрылся из виду, репортер и Маршан сели в машину Маршана и поехали к городку, где репортер забрался в такси, даже не спрашивая цены, сияя исхудалым, застывшим в блеске лицом и крича: «Нет, черт возьми! Не Нью-Валуа! Аэропорт Фейнмана!») он снова и снова переживал тот слепой, лишенный времени промежуток, когда он лежал животом на днище фюзеляжа, держась за две части конструкции, не видя ничего, кроме ног Шумана на педалях и перемещения тяги управления элероном, не ощущая ничего, кроме ужасающего движения – не скорости и не изменения пространственных координат, а просто слепого яростного движения, некой запечатанной силы, стремившейся разорвать фюзеляж-монокок, на днище которого он лежал животом и ногами, и оставить его летящим в воздухе, цепляющимся в пустоте за два стальных стержня. Он все еще думал: «Господи, может быть, мы погибнем сейчас, и, оказывается, всего-то навсего это вкус кислой горячей соли во рту», даже когда смотрел в окно машины на проносящиеся мимо болота, сквозь которые они ехали, огибая город, и думал еще, яростно и торжественно уверенный в бессмертии: «Как миленький он у нас! Как миленький!» И вот аэропорт; сорок миль промелькнули он не почувствовал как, потому что в голове его всю дорогу было мутно от легких обрывков стремления и скорости, подобных плывущим по воздуху перьям подстреленной птицы, из-за чего он не мог сосредоточить внимание на пустой инерции того пространства, того измерения, того промежутка, сквозь которые ему пришлось перемещаться. Не успела машина выехать на площадь перед фасадом, как он уже сунул водителю пятидолларовую бумажку, и не успела она остановиться, как он уже выскочил и побежал к ангару, возможно даже не зная, что уже идет первая гонка. Изможденный, с диким лицом, с запавшими от бессонницы и волнения глазами, в свободно полощущейся одежде, он вбежал в ангар и устремился к тому месту, где Джиггс, поставив перед собой на верстак едва початую бутылку жидкости для чистки обуви и едва початую жестянку ваксы, с нудной целеустремленностью работал над шрамом на подъеме правого сапога.
– Ну как… – закричал репортер.
– Сел, сел нормально, – сказал Джиггс. – Правда, раскатился на всю длину поля. Черт, я уж подумал, что он выскочит с аэродрома ко всем чертям, а он знай себе шпарит; когда он встал, между пропеллером и волноломом ножичка нельзя было просунуть. Они наверху теперь все, совещаются.
– Он получит допуск! – крикнул репортер. – Я ему уже это сказал. Может, я не разбираюсь в самолетах, но в пархатых из совета по канализации я разбираюсь неплохо!
– Это да, – сказал Джиггс. – И ему два раза только на нем садиться, причем один раз он уже сел.
– Два раза? – вскричал репортер; теперь он сиял на Джиггса глазами не в восторге даже – в настоящем экстазе. – Он уже сел два раза! Мы с ним сели еще до того, как он вылетел от Орда!
– Мы? – переспросил Джиггс. Он замер с сапогом в одной руке и тряпочкой в другой; глядя на репортера, он болезненно мигнул неподбитым глазом, горячим и ярким. – Мы?
– Да! Он и я! Он сказал, что это, видимо, вес, что, может быть, если бы нам удалось как-то этот вес перераспределить, когда машина уже в воздухе… и он спросил: «Боишься?» А я ему: «Еще как. Но если ты не боишься, то и я не должен, потому что у меня за плечами только часовой полет с Мэттом, – или, может, если бы я полетал побольше, я и сам не боялся бы». Так что Маршан помог нам снять одно сиденье, а другое мы приподняли, и под ним для меня образовался лаз, и я протиснулся ближе к хвосту, в фюзеляж, там ведь нет поперечин, он мо… моно…
– Монококовый, – сказал Джиггс. – Господи Иисусе, так ты что же…
– Да. Потом они с Маршаном опустили сиденье, и он показал мне, за что держаться, и я видел только его пятки, больше ничего; я не знал, что происходит; ну, я понял, конечно, через некоторое время, что мы летим, но я не знал даже, вперед или назад, я ничего не знал, потому что, Господи, я всего час до этого полетал с Мэттом, а потом он сбросил скорость, а потом я его услышал – Боже ты мой, мы все равно как на земле стояли, – он тихо сказал: «Теперь отъезжай назад. Не торопись. Но держись крепко». А потом я, считай, повис на руках; пола я не касался вовсе. Господи Боже, и я подумал: «Ну вот; а во время гонки-то что сегодня будет твориться». Я даже не понимал, что мы сели, пока не увидел, как они с Маршаном поднимают сиденье, а Маршан только повторял: «Ну дела. Ну дела. Ну дела», а он, Шуман, смотрел на меня, а сволочной драндулет стоял тихий такой, прямо как те, на фотографиях, на Гранльё-стрит, а потом он говорит: «Ну что, вылезай», а я ему: «Вылезаю. Уже летишь, да?» А он отвечает: «Надо перекинуть машину на аэродром и получить допуск».
– Да-а, – сказал Джиггс.
– Да! – воскликнул репортер. – Это было просто распределение веса; они с Маршаном набили песком автомобильную камеру и соорудили блок, чтобы Шуман мог… И поставили сиденье на место, и даже если они там увидят конец троса, они не… Потому что единственная машина, которая может его обогнать, это машина Орда, а приз всего две тысячи, и Орду они без надобности, он только для того участвует, чтобы жители Нью-Валуа разок увидели, как он летает в своем «девяносто втором», и он не будет выжимать из машины стоимостью в пятнадцать тысяч все до последнего лишь ради того, чтобы…
– Спокойно, спокойно, – сказал Джиггс. – Ты все тут сейчас на куски разнесешь. Курни. Сигареты есть у тебя?
Репортер в конце концов нашарил в кармане сигареты, но не он, а Джиггс вытащил две из пачки и чиркнул спичкой; репортер нагнулся к ней, дрожа. Лицо его по-прежнему было ошеломленным, изнуренным и диким, но теперь он слегка приутих.
– Так они что же, все вышли его встречать?
– Еще бы, – сказал Джиггс. – А самым первым, конечно, Орд. Он узнал машину, как только она показалась в небе; точно тебе говорю, он еще до того ее узнал, как Роджер увидел аэропорт, а когда он садился, можно было подумать, что это Линдберг. Он, значит, сидит в кабине и глядит на них, Орд орет на него, а потом они все чешут обратно, к ангару, как будто Роджер – похититель ребенка или вроде того [25]25
В 1932 г. малолетний сын знаменитого летчика Чарльза Линдберга (1902-1974) был похищен и убит.
[Закрыть], и идут в административное здание, а минуту спустя микрофонщик начал звать инспектора, как его там…
– Сейлз, – сказал репортер. – Машина лицензирована; они не могут ничего сделать.
– Сейлз может взлет запретить, – сказал Джиггс.
– Да. – Репортер уже поворачивался, уже двигался. – Но Сейлз всего-навсего федеральный чиновник, а Фейнман, наоборот, еврей и член совета по канализациии…
– При чем тут это?
– При чем?! – воскликнул репортер, сияющий, исхудалый, явно уже вырвавшийся из ненадежного тела, так что на Джиггса исступленно пялилась только оболочка. – При чем? А зачем, спрашивается, он проводит этот воздушный праздник? Зачем он, по-твоему… Ты думаешь, он только для того построил этот аэропорт, чтобы самолетам было гладко садиться?
Он двинулся хоть и не бегом, но быстро. Пока он торопливо пересекал предангарную площадку, самолеты нагнали и обогнали его, круто облетели пилон на поле аэродрома и уменьшились, растворились; он на них даже не посмотрел. Потом внезапно он увидел ее: держа мальчика за руку, она, чтобы перехватить его, отделилась от толпы у ворот, теперь в чистом льняном платье под тренчкотом и в шляпке – в той же коричневой, что и в первый вечер. Он остановился. Рука полезла в карман, лицо сделалось ярким, тихим, почти улыбающимся – а она быстро шла к нему, глядя на него бледно, настоятельно.
– В чем дело? – спросила она. – Во что вы его втравили, а?
Он посмотрел на нее сверху вниз с видом не жаждущим и не отчаянным, а глубоко-спокойно-трагическим, какими бывают глаза легавых собак.
– Все в порядке, – сказал он. – Моя подпись на векселе тоже есть. Он действителен. Я прямо сейчас иду подтверждать подпись; их только это и задерживает; больше ничего Орд не…
Он вынул из кармана пятицентовик и дал мальчику.
– Что? – сказала она. – Вексель? Какой еще вексель? Я про машину, кретин!
– А-а, – улыбнулся он ей сверху вниз. – Про машину. Мы на ней летали, мы проверили ее там. Мы совершили пробный взлет и посадку, и только потом…
– Мы?
– Да. Я с ним полетел. Я лежал на днище в хвосте, потому что мы хотели выяснить, как должен быть распределен вес, чтобы не было срыва потока. Вот и все. Мы сунули туда балласт и подсоединили трос, чтобы он мог двигать груз туда-сюда. С этим полный порядок.
– Полный порядок? – переспросила она. – Что вы можете об этом знать, Господи! Он-то сам что сказал – что все в норме?
– Да. Он еще вчера вечером сказал, что сможет его посадить. Я знал, что он сможет. И теперь ему надо будет только один раз…
Она смотрела на него – бледные, холодные, настоятельные глаза, – на его изможденно-мечтательно-мирное лицо под мягким и ярким солнцем; аэропланы вновь приблизились и с хриплым рыком умчались. Его разглагольствования перебил репродуктор; все репродукторы вдоль предангарной площадки начали повторять его фамилию, объявляя трибунам, летному полю, земле, озерной воде и воздуху, что его просят немедленно пройти в кабинет директора.
– Ага, – сказал он. – Конечно. Я знал, что вексель будет единственным, что Орд попытается… Вот почему я тоже его подписал. Не беспокойтесь; мне надо просто прийти туда и сказать: «Да, это моя подпись». Не беспокойтесь. Он может на нем летать. Он на чем угодно может летать. Я раньше думал, что лучший летчик на свете – Мэтт Орд, но теперь…
Репродуктор принялся повторять сказанное еще раз. Он воздвигся прямо перед репортером и, казалось, смотрел на него в упор, нарочито выревывая его фамилию, словно бы вызывая ее обладателя не из мира живых людей, а из самого воздуха – вызывая повелительно, многократно. Когда репортер входил в круглый зал, репродуктор, который был установлен там, как раз начал; звук последовал за репортером через дверь и первую комнату, но дальше – во вчерашний зал заседаний, где теперь на жестких стульях сидели только Орд и Шуман, – не проник. Войдя сюда полчаса назад, они сели напротив тех, кто находился за столом; Шуман впервые увидел Фейнмана, который занимал место не в центре стола, а с краю, где вчера сидел комментатор; костюм на Фейнмане был не серый, как на фотографии в газете, а коричневый, но тоже двубортный, с яркой кляксой гвоздики. Единственный из всех он был в шляпе, казавшейся самым миниатюрным элементом его облика; ниже шляпы его смуглое гладкое лицо мгновенно расплывалось щедрыми волнами плоти, которая, на мгновение обузданная воротником, пухло и раскатисто отыгрывалась под строгими линиями пиджака. Лежавшая на столе рука с рубином, оправленным в золото, держала дымящуюся сигару. На Шумана и Орда он даже не взглянул; он смотрел на инспектора Сейлза – на лысого коренастого человека с грубовато вылепленным лицом, которое, обычно вполне приятное, сейчас таковым не было. Сейлз говорил:
– Потому что я могу наложить запрет на использование этой машины.
– То есть запретить летать на ней кому угодно, любому летчику? – спросил Фейнман.
– Можно и так выразиться, если хотите, – согласился Сейлз.
– Скажем так: воспользуемся этой формулировкой для протокола, – произнес еще один голос, принадлежавший элегантному и холеному молодому человеку в роговых очках, который сидел чуть позади Фейнмана. Это был его секретарь; он продолжил вкрадчиво-оскорбительным тоном изнеженного, умного, пропитанного ненавистью евнуха-прихлебателя при дворе восточного деспота: – Полковник Фейнман – не только общественный деятель, но и, прежде всего, юрист.
– Да, юрист, – сказал Фейнман. – Для людей из Вашингтона, видимо, сельский юрист. Позвольте, я буду говорить без обиняков. Вы – правительственный чиновник. Прекрасно. Посевные площади у нас регулируются, рыболовные промыслы регулируются, даже наши деньги в банке регулируются [26]26
Имеются в виду правительственные меры в рамках «Нового курса» президента Ф. Рузвельта.
[Закрыть]. Прекрасно. Я по-прежнему не понимаю, как это у них так вышло, но у них так вышло, и нам приходится привыкать. Если бы он пытался жить за счет земельных угодий и Вашингтон пришел бы его регулировать – ладно, пускай. Понять это нам было бы так же трудно, как ему самому, но мы сказали бы – ладно, пускай. И если бы он пытался жить за счет реки и правительство взялось бы его регулировать – мы тоже смирились бы. Но вы мне что хотите сказать – что Вашингтон может прийти и начать регулировать человека, который пытается жить за счет воздуха? В воздухе у нас тоже, что ли, снижение посевных площадей?
Сидящие за столом (трое из них были репортеры) засмеялись. В их смехе прозвучало внезапное и громкое облегчение, как будто они до этого все время выжидали, пытаясь понять, как им слушать, как реагировать, и теперь наконец поняли. Не смеялись только Сейлз, Шуман и Орд; потом они заметили, что секретарь тоже не смеется и что он уже говорит, словно бы мягко вводя свой вкрадчивый голос в общий смех и прекращая его с такой же неумолимой внезапностью, с какой кокаиновая игла нейтрализует нерв: