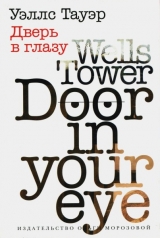
Текст книги "Дверь в глазу"
Автор книги: Уэллс Тауэр
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Ну, может, малость с душком, – сказал я. – Но дичь – она и есть дичь, ей положено.
Стивен понюхал свои руки.
– Джордж прав. Оно отравленное. Фу!
– Это невозможно, – сказал я. – Три часа назад этот зверь еще дышал.
– Он был болен, – сказал Джордж. – Если бы ты его не прикончил, он подох бы сам через день-два.
– Чушь, – ответил я.
– Говорю тебе, оно отравлено, – повторил Джордж.
– Да пошли вы, – сказал я. – Оно было нормальное, когда мы его разделывали.
Джордж вынул из кармана платок, плюнул на него и стал яростно оттирать руки.
– А теперь ненормальное. Ему нужно было немного времени, чтобы начать гнить, но теперь ему хана, дружок. Черт возьми, я должен был догадаться раньше, когда мы снимали шкуру, а она не отдиралась. Какая-то инфекция сидела в нем, он еле держался на ногах. А как только помер, эту дрянь сразу разнесло по всей туше.
Стивен поглядел на стол, заваленный мясом, и на нас троих, стоящих вокруг. Потом засмеялся.
Я взошел на крыльцо и наклонился над дымящимся стейком. Он пах, как положено. Я потер соляную корочку и слизнул с пальца сок.
– На вкус все в порядке. – Я отрезал сочный розовый кубик и коснулся его языком. Стивен еще смеялся.
– Ты у нас чемпион, Мэтти, – еле выговорил он, задыхаясь. – Полный лес зверей, а ты расстреливаешь прокаженного. Давай вызывай бригаду химзащиты.
– С этим мясом все нормально, понял? – сказал я.
– Яд, – сказал Джордж.
Вдруг налетел порыв ветра. В лесу рухнула ветка. Стайка листьев метнулась мимо моих ног и улеглась под дверью. Потом ночь снова замерла. Я повернулся к тарелке и сунул вилку в рот.
Проводники важных энергий
Перевод В. Голышева
Телефон зазвонил поздно. Опять мачеха.
– Ты когда-нибудь думаешь о тех, кого к себе не подпускал? Я с удовольствием вернулась бы назад и проделала с ними все положенное, даже с самыми противными. С самыми плохими. Ты слушаешь?
– Да – сказал я. – Только не понимаю, что я должен делать с этой информацией.
– Да ладно. Просто я чувствую себя не очень желанной.
Я сказал ей, что ее желают многие.
– Ну, в лицо мне этого никто не говорит, – ответила она.
– Который сейчас час?
– Ничего особенного. Около трех. Значит, у тебя там два. Думала, ты не спишь.
– Я спал, Люси. Здесь четыре. Все спят.
– Я – нет. И папа твой тоже. Тут еще много признаков жизни.
– Мне надо спать, – сказал я. – Иди наверх. Ложись. Завтра буду в мастерской. Позвони, если хочешь.
– Никуда я не пойду, – сказала она, и послышалось туманное бульканье ее кальяна. – С Роджером то так, то сяк. На этой неделе каждый вечер вызывал ко мне полицию. Поэтому хожу и хожу, пока не уснет. Хожу столько, что мой зад превратился в совершенно другую вещь.
– Что ж ты мне не сказала?
– Я тебе сейчас говорю. Если хочешь, пришлю картинку.
Неприятности у отца начались лет десять назад – у него стала отказывать память. Он с нарастающей частотой терял бумажники и ключи. Потерял работу после того, как неоднократно оставлял подзащитных в зале и бродил по улицам, пытаясь вспомнить, который из автомобилей – его. Два года назад более или менее забыл меня, а месяц назад, прикорнув на двое суток, проснулся и не узнал мачеху. Вызвал полицию. Ей пришлось предъявить два удостоверения личности, чтобы не арестовали за проникновение в собственный дом.
Никто не мог дать внятного совета. Мы поинтересовались домами престарелых, но там были очереди на десять лет вперед – конечно, если вас не устраивал бедлам с многократно привлекавшимися за непристойное поведение.
Если не считать общения с моим отцом, Люси не работала. Жила на его сбережения. Отцу было всего шестьдесят лет, и во всех остальных отношениях он был вполне здоров. Мог поглощать наличные и неприятности еще четверть века по меньшей мере.
За окном раздался женский крик. Был четверг, вечер танцев в лесбийском баре по соседству. После танцев они обычно останавливались здесь и били друг дружку о западную стену нашего дома. Они разбивали друг дружке сердца по расписанию – всегда в этот темно-синий получас ночи. Иногда я высовывался из окна и упрощал им жизнь: кричал, чтобы могли объединиться против меня, общего врага. Но сейчас запер окно и снова улегся в постель.
– Слушай, – говорила Люси, – я думаю привезти его двадцатого. Врач сказал, ему может быть полезно посмотреть на Нью-Йорк и повидаться с тобой. Может быть, это встряхнет что-то в его голове.
Я услышал, как скребутся крысы в тонком перекрытии над кроватью.
– Люси, пожалуйста, не приезжай. Мне надо уехать по делу. Да он не помнит даже, как меня зовут.
– Нет, помнит, – сказала она. – Он про тебя спрашивал.
– Не может быть.
– Правда. Спрашивал. Вчера только. Слишком быстро выпил пиво, и ты бы только послушал его: «Бээррт, Бээрт, Бээрт».
Она не засмеялась, и я тоже.
– Не привози ты его ни хрена, – сказал я. – Что ты выдумала?
– Будь мягче, – сказала Люси и положила трубку.
Когда отец женился на Люси, мне было десять лет. Ему – сорок шесть. Ей – двадцать один; она была секретаршей в его юридической фирме и собиралась уйти, когда развернется ее актерская карьера. Ее внешность этому благоприятствовала. Она была хорошенькая, с худым большеглазым лицом того типа, вокруг которого японские аниматоры выстроили целую мифологию блуда. Мальчишкой, когда у меня еще усы не росли, я влюбился в нее по уши, и у меня была какая-то смутная уверенность, что с отцом она только временно, что он намерен когда-нибудь передать ее мне. Детали были не совсем ясны, но имелось предчувствие, что, когда мне исполнится лет шестнадцать, он вывезет меня на возвышенность в пустыне с видом на закат и объявит, что отдает мне Люси, а также свой «Форд Мустанг», ящик пива «Шлитц» и, может быть, кассету «Night Moves» Боба Сигера с его группой «Силвер буллет бэнд».
Года три они прожили душевно. Потом Люси встретила мужчину своих лет, писавшего музыку для телереклам, и уехала с ним в Квебек. Папа был в изумлении от своего горя – под пятьдесят, с седыми кустиками в ушах, он впервые узнал, что такое разбитое сердце. Это было единственное время, когда он очень старался стать моим другом. Он зазывал меня к себе в выходные. Говорил, что любовь – как ветрянка: надо переболеть ею пораньше, во взрослом возрасте от нее можно умереть. Час или два он изливал душу, а потом заставлял играть с собой в шахматы – по двадцать-тридцать партий за выходные, и я всегда проигрывал.
Только раз я его чуть не побил. Он напился коктейлей и ошибся, подставил ферзя под моего коня. Я взял фигуру, он залепил мне по губам. Я убежал в ванную и ударил себя несколько раз по лицу, чтобы остался хороший синяк. Когда я вышел, он не извинился – то есть не совсем. Но сказал, что даст мне все что угодно, если не пожалуюсь матери. Я сказал, что хочу компьютер и духовое ружье. Отец составил контракт на бланке своей фирмы, и я подписал. В тот день мы купили ружье. Я подстрелил красивую зеленую пеночку, потом гладил ее и похоронил у матери на лужайке. Потом подстрелил голубя и синицу и отдал ружье соседскому мальчишке.
Через четыре месяца Люси вернулась из Канады домой. Отец принял ее, не простив, после чего множество раз изменял ей, считая это своим долгом перед ними обоими. Он поместил ее в псевдо-тюдоровский особняк, где света не хватало даже для калькулятора на солнечных элементах. Люси впала в депрессию. Она винила свое тело и наказывала его голодными диетами и триатлоном. И в кульминации своего режима превратилась в новое существо с большой головой лемура, надетой на тело газели. Когда ее щеки зацвели поздними прыщами, она, угрожая самоубийством, заставила врача выписать ей какие-то сильнодействующие таблетки. Таблетки избавили от всех семи прыщей, но покрыли лицо от подбородка до волос тонкими малиновыми трещинками. Пришлось замазывать их таким количеством мазей и кремов, что можно было подумать, она потеет тавотом. Примерно в это время я перестал грезить о Люси, «Мустанге», тайных комнатах, переулках и об укромных лесочках.
Когда у отца стало плохо с головой, мне было за двадцать. Поначалу я думал, что отец не помнит, где я живу и что я окончил школу, – из-за углубившегося агрессивного равнодушия, с которым он всегда ко мне относился. Но оказалось, что ни один из десятка с лишним хороших неврологов не может понять, в чем дело. Это не был ни Альцгеймер, ни какая-либо из иных известных форм слабоумия.
В его памяти открылась течь и расширялась все больше – началось с недавних воспоминаний, а потом потекло из других отсеков. Спустя три года после первых симптомов он уже не мог вспомнить, что ему сказали час назад. Не мог работать, не мог найти дорогу домой из магазина, где всю жизнь покупал еду. Но способности извлечь что-то из глубин, пусть не с самого дна, не утратил. Несколько лет назад я рассказал матери, как он ударил меня из-за шахмат, – к тому времени он уже забывал мое имя. Но через несколько недель после этого я получил по почте экземпляр нашего старого контракта с чеком на 1200 долларов для приобретения компьютера и духового ружья – хотя у него хранились магазинные чеки на оба предмета.
В колледже я изучал физику, инженерное дело и промышленный дизайн. Я думал, что буду конструировать самолеты, но после окончания стал разрабатывать корпуса радиочасов в корпорации «Эмерсон». «Эмерсон» делала упор на округлость, вялость контуров, словно часы должны были ускользать от взгляда пользователя, как проскакивает в желудок лекарственное драже! Проработав шесть лет, я открыл собственное дело.
Можно сказать, что у меня был один настоящий успех – машина, которая плавила полиэтиленовые пакеты и разливала пластик по сменным формам (подставка для гольфового мяча, расческа, монтировка для велосипедных шин и т. д.). В списке экологических «зеленых подарков» в одном из главных журналов она заняла высокое место, после чего появилась в бортовых каталогах авиакомпаний и в интернет-магазинах. Я на ней не разбогател, но на плаву держался. Купил однокомнатную квартиру в Уэст-Вилледже, и на знакомых это производило впечатление, пока они не видели ее собственными глазами. Квартира представляла собой архитектурный аналог ошметков бисквитного теста – двадцать четыре квадратных метра бесполезных закутков и отнорков, оставшихся после того, как остальное здание было разделено на помещения, приспособленные для нормального житья.
В день, когда должна была приехать Люси с отцом, я зарезервировал стенд на выставке «Сервис и гостеприимство» в Уэстпорте, Коннектикут. Я отправился туда, чтобы продвинуть аппарат, который назвал «Айспрессо». В основе это был коммерческий кофейник с медной нагревательной спиралью на дне, так что вы могли налить свеже-заваренный чай в стакан, не растопив льда. Я надеялся продать патент за сотню тысяч и отбыть в Мексиканский залив, чтобы заткнуть пустоты в сердце понтонной лодкой и грудастой незнакомкой.
Весь день я варил и наливал в одноразовые стаканы «Эрл Грей» со льдом мужчинам в присборенных в поясе брюках. Свободную руку они держали в кармане, чтобы я не мог сунуть им свою карточку. После, на приеме, я постарался возместить уплаченное за стенд в бесплатном баре.
Потом вышел на танцевальную площадку и приблизился к молодой женщине.
– Пойдемте посмотрим на луну, – сказал я.
– Сейчас три часа, – сказала она.
Я пошел к поезду. Потянуло первым осенним холодком. Под стук колес я долго отогревался, нянча на коленях свой чайник.
Я получил сообщение от Люси: встретиться с ними в парке Вашингтон-сквер, где отец наблюдает за шахматами. Доехал на метро до Астор-плейс и под грузом нарастающего страха пошел налево.
Я не видел отца пятнадцать месяцев. Представлял себе, что он сидит на перилах, в сумерках, смотрит на роликобежцев, торговцев наркотиками и гитаристов, как Рип Ван Винкль, спустившийся с холмов, всклокоченный и, чего доброго, попахивающий пеленками.
Но он сидел за столиком и выглядел прекрасно, особенно в сравнении с партнером, толстым шахматным жуком, чье лицо имело зеленоватый цвет кровельной плитки. Он был пострижен и аккуратно причесан вокруг прогалинки над высоким лбом. На нем была чистая белая рубашка с вишневым галстуком, а поверх – пальто, которого я прежде не видел: по колено, цвета устрицы, замшевое с воротником черного меха – пальто на какого-нибудь царя Дикого Запада.
Я не сразу подошел к отцу. Остановился шагах в четырех и стал смотреть, как он играет. С такого расстояния нельзя было догадаться, что с ним неладно, хотя позиция была проигрышная: его король на нижней горизонтали зажат двумя слонами и конем. Отец поднял руки и сказал что-то жуку. Они долго и громко смеялись, словно старые друзья, и меня это обрадовало. Он всегда обожал незнакомых, относился к ним без опаски – один из его талантов. Мастер случайных встреч, он попытался бы заговорить на языке какаду, если бы тот приземлился рядом. Он пожал руку противнику, и они стали заново расставлять фигуры.
Пока не началась игра, я подошел к нему.
– Папа, – сказал я и сразу пожалел об этом.
Удовольствие сошло с его лица, и взгляд затуманился подозрительностью. Он слегка съежился, видимо, признав во мне не сына, а какую-то забытую личность, явившуюся из прошлого, чтобы приставать к нему.
– Папа, я Берт.
Он поднес палец к уху.
– Не слышу.
– Я Берт. Твой сын.
Эта новость вызвала у него знакомый тик – дрожащую антизевоту, которая нападала на него в моменты растерянности. Движение челюсти за сжатыми губами рождало иллюзию, что у него отсутствуют зубы.
– Да, да, рад тебя видеть, – сказал он.
Он протянул руку и скользнул пальцами по моему животу, словно желая убедиться, что я не привидение. Потом нервно оглянулся на жука, как будто важнее всего сейчас было не выдать постороннему тайну своего умственного угасания.
– Берт, Уэйд, – грубовато произнес он, показав на толстого, который скреб ворс на затылке грязным ногтем.
– Дуэйн, – сказал тот.
Я пожал ему руку – несмотря на холод, выделявшую лихорадочный жар. Он улыбнулся. Передний зуб был сколот наискось – маленькая серая гильотина.
– Уэйд за шахматной доской – убийца, – сказал отец. – Убийственный тактик. Но подожди, Берт, я вернусь из этой сечи со щитом.
– Вы настоящая акула, Роджер, – сказал Дуэйн. – Я только маленькая рыбка, откусываю по чуть-чуть, когда удается.
Отец сердито смотрел на доску. С его стороны стояли черные.
– Ну-ка, постойте, мои – белые.
– Угу, Родж. Вы прошлый раз играли белыми. Не думайте, что я забыл. У меня память, как стальной капкан.
– Будь по-вашему. Ударьте по часам.
В небе свирепо набухали грозовые тучи, но отец не обращал на них внимания. Он склонился над доской, повернув ко мне широкую спину в замше.
Я увидел мачеху возле сухого фонтана, где она наблюдала за молодыми людьми, снимавшими фильм. Я оставил свой чайник у ног отца и рысцой подбежал к ней.
С тех пор как я видел Люси последний раз, она постарела и выглядела еще более усталой. «Леди» – вот какое слово пришло мне на ум; в этом слове соединились редкие сухие волосы, печеночные пятна на щеках, звякающие браслеты и помада тревожно кораллового цвета, заползающая в тонкие, как волос, морщинки. Правый глаз у нее был красный и слезился. Мы обнялись. На ней была парчовая шаль и черная блузка, такая тонкая, что я почувствовал гусиную кожу на ее твердых руках.
– Давно он тебя тут держит? – спросил я.
– Три часа. Думаю, они с этим толстым скоро пойдут и заключат гражданский брак.
– Мы уходим. Я его утащу.
– Не надо. У меня только тело мерзнет. Он счастлив. Пусть поиграет.
Я показал на ее глаз.
– Ты выпила, Люси? Немного навеселе?
– Здоровенная иранская баба из моей волейбольной команды. Ткнула меня пальцем в глаз. Теперь все двоится.
Я посочувствовал ей. Люси пожала плечами.
– Пиво оттягивает.
Люси перевела взгляд на маленькую киногруппу. Эпизод строился на одном спецэффекте: худой парень в жилете из зерен, приклеенных к голой груди, должен был подвергнуться нападению голубей. Камеры были наготове, но голуби не желали сотрудничать. Много зерен падало на землю, и птицам незачем было склевывать с него.
К нам подошла девица с жидкими волосами, в заляпанных краской джинсах. На своей рубашке она написала маркером «Продюсер».
– Вы у нас в кадре. Не могли бы отойти? – сказала она, глядя на Люси так, словно была оскорблена ее косметикой и блестящей шалью.
– Да, приблизительно, – сказала Люси.
– Простите? – сказала девушка.
Могла начаться перепалка, но тут раздались крики отца, такие громкие и взволнованные, что я подумал, будто на него напали.
Мы побежали к нему, но это была ложная тревога. Он выиграл партию, только и всего. Когда мы подошли, он все еще был в экстазе от своей победы.
– О, господи! – восклицал он. – О, боже, до чего же это приятно!
– Да, Роджер, вы мне устроили темную, – сказал Дуэйн. – Ну что, еще одну? На десятку?
Но отец еще не вполне насладился моментом.
– К черту оргазмы, – размышлял он, наклонившись к столу. – Куда им до ладейного окончания? Ей-богу, Уэйд, отчего это? Отчего такая радость – обыграть кого-то в шахматы?
– Музыка, – сказал жук. – Искусство и всякое такое. Ну – по десятке?
Поднялся предгрозовой ветер, и отец посмотрел на кружащиеся в воздухе листья платана. Мех воротника шевелился под его подбородком.
– Как тебе его пальто? – спросила меня Люси. – Он увидел его в витрине «Барни». Тысяча восемьсот долларов.
Отец взглянул на нас и снова повернулся к Дуэйну.
– Фишер сказал: «Шахматы – это жизнь», – объявил отец.
Дуэйн провел языком под губой.
– Фишер много чего говорил, – ответил он. – Говорил, что у него в зубах живут маленькие евреи.
– Они лучше жизни. В мире не получается покакать и не испачкать бумажку – если улавливаете мою мысль, – сказал отец. – В смысле, ты можешь обставлять меня всю ночь, но кончилась игра, а у тебя все равно зуб сколот, и сопля на вороте, и голова полна мусора, не дает уснуть всю ночь…
– Эй, ебена мать, повежливей, – сказал Дуэйн.
Пошел дождь, серебристо застучал по сухим листьям наверху. Редкие зрители разошлись. Другие жуки подняли недовольные лица к небу, потом сложили свои доски и спрятали в длинные чехлы с молниями.
– Итальянский, – сказал отец. – Я бы сходил в итальянский.
– У нас еще расчетец, Роджер, – сказал Дуэйн.
Потери отца составили сорок долларов, но Дуэйн не выглядел довольным, даже когда клал бумажки в карман. Потом он подставил ладонь под дождь; от капель на сухой коже возникали пятна потемнее. Он покачал головой.
– Дождь нам ниспослан с неба, – сказал он. – Но хочется послать подальше и его, и небо за то, что устроили ебену мать на этом бульваре.
Отец обратил на Дуэйна строгий отеческий взгляд.
– Вижу в вас любителя телятины, – сказал он. – Когда вас последний раз угощали тарелкой горячей телятины?
– Уже и не помню, – сказал Дуэйн.
– Вы идете со мной, – сказал отец. – Мы вас приведем в порядок.
– Роджер… – начала было Люси.
– Ой-ой, – озабоченно произнес отец.
Он смотрел на правую туфлю. Шнурок развязался, и отец, щурясь, смотрел на нас с Люси, озадаченный и подавленный новой проблемой, масштаба которой, видимо, не мог охватить. Люси без колебаний опустилась на колени и завязала шнурок. Потом направилась в сторону Макдугал-стрит.
– Славная девушка, – сказал отец, наблюдая за тем, как перекатывается ее зад в джинсах. – Она в твоей школе учится?
Ресторан, который выбрала Люси, был оформлен под старину, в темном дереве; у бара стояли упитанные мужчины в пиджаках и орали друг другу под затихающее неистовство мандолин из динамиков.
– Тебе подходит, Родж? – спросила отца Люси.
Отец повернулся к Дуэйну и хлопнул его по мясистому плечу.
– Что скажете, Уэйд? Как аппетит, дружище? Ударим по телятине?
– Да будет так, – сказал Дуэйн.
Мэтр оценил нас – Дуэйна, отца в шикарной обивке в стиле вестерн, Люси с плачущим глазом – и отвел в заднюю темную комнату. Кроме нас там ужинала только хорошо одетая пожилая пара черных с замкнутым, виноватым выражением на лицах, как у людей, только что кончивших спорить.
– Пинью коладу, пожалуйста, – сказал Дуэйн раньше, чем мы сели.
– Сейчас подойдет ваш официант, – сказал мэтр.
– Пинья колада! Принесите две. Одну для него, одну для меня, – сказал отец.
– Пиво, – сказала Люси. – Самое холодное. И водку в прицепе.
Мэтр отбыл, дымясь. Отец посмотрел на мой чайный аппарат, стоявший между нашими стульями.
– Это что за штука? – спросил он.
Я объяснил.
– Торгуешь напитками?
– Я конструктор. Изобретатель. Ты же знаешь, отец.
Он буркнул:
– Поступай на юридический. Изменишь жизнь.
– Я и так ее изменяю.
Он посмотрел на меня. Я залопотал о том, какое это большое дело – быть рядовым в нескончаемой борьбе человечества за удобства, и как мелкие, незаметные изобретения – дистанционные замки, шариковые ручки, ватные палочки для ушей – формируют нашу жизнь в большей степени, чем музыка, книги и кино.
– Люди, которые занимаются тем же, чем я, папа, – мы проводники важных энергий, та порода, которая созидает страну, и …
Пришел официант: отец накинулся на коктейль, присосался к нему, будто это была кислородная маска.
– Ты должен мне помочь, – тихо сказала мне Люси.
– С чем?
– Не давай ему взять второй. Это, наверное, из-за лекарств. Недавно в «Ангус-Барне» он три раза брал вино. Ел жаркое руками. Ой, черт…
Люси залезла рукой под блузку, убрать какую-то жесткую нитку. Дуэйн следил за ней похотливым взглядом.
– Вам чем-нибудь помочь? – спросила его Люси.
– Безусловно, – сказал он. – Вы уже помогаете.
Люси взглянула на отца, который повернулся боком и наблюдал за столом негритянской пары – официант демонстрировал им бутылку белого вина.
– Вы посмотрите, – сказал отец. – Мы пришли раньше, а их уже обслуживают.
Я сказал:
– Нет. Они пришли раньше. И нас уже обслужили.
Он будто не услышал. Его захватила сцена за тем столом, где официант наливал соседу вино для пробы. Мужчина одобрил коротким кивком.
– Смотрите, они налили черному вино для дегустации, – сказал отец, недобро удивляясь выскочке-соседу, словно наблюдал за белкой, расправляющейся с крекером. – Ничего себе, а?
Меня это ошарашило. Отец был во многих отношениях грубым и неприятным человеком, но нелюбовь к чужой расе никогда не входила в число его хамств. Во времена адвокатской деятельности он гордился приверженностью к эгалитаризму и упорством в непопулярных делах, хотя мне казалось, что сражается он не столько из любви к справедливости, сколько ради удовольствия от самой драки. Он любил защищать в суде сенсационных злодеев и обычно добивался хорошего результата. Людей, которые держали пленников в землянках. Любителей пожилой плоти, вламывавшихся в квартиры. Парня, посмертно прославившегося долгими приключениями на электрическом стуле, – он убил женщину тормозной колодкой, а ее маленького ребенка оставил ползать по обочине сельской дороги. Отец с большим удовольствием рассказывал матери и мне о своих «ребятах», излагал подробности их дел, передавал последние слова жертв и т. д., чтобы утвердить себя как властелина всех знаний – хороших и безобразных. Мне, второкласснику, он внушал аксиомы наподобие такой: «Берт, бейся насмерть, если кто-то захочет засунуть тебя в свою машину. И так, и так, возможно, тебе конец, но – лучше до того, как на тебе начнут проверять свою изобретательность».
Впрочем, брался он и за более тихие дела – о дискриминации при найме на работу или аренде жилья, о компенсациях работникам. Хотя я всегда чувствовал что-то показное и зловредное в его борьбе за справедливость – легкий способ поставить себя над нами, остальными, – он выиграл много денег для тех, кто в них нуждался. И это, наверное, правда, что он своей работой сделал людям больше добра, чем сделаю я за всю жизнь в своей профессии. Сейчас оживленный расист огорчил меня не меньше, чем любая из предыдущих стадий его упадка.
За соседним столом возобновились трения, которые я уловил, только войдя.
– Это был не Монстро, Джудит, – отрезал мужчина. – Это был Монсоро [1]1
Городок и замок на Луаре.
[Закрыть]. Мы там ездили на велосипедах вдоль реки, а в гостинице протекала крыша, ты там съела свиную вырезку в тесте, и у тебя расстроился желудок. Монсоро. Кто когда слышал про город Монстро?
Отец покачал головой с наигранно грустным удовлетворением.
– Одеться они могут, а? – сказал он. – А ведут себя все равно одинаково.
Отец встал, и я испугался, что он подойдет к ним и прицепится, но он отправился в туалет.
– Ничего, что он там один? – спросил я у Люси.
– Слава богу, унитаз он еще узнаёт.
Дуэйн взял булочку из корзинки, разорвал пополам и притиснул к тарелке с оливковым маслом. Он жевал и смотрел на Люси.
– Я знаю, с кем вам надо встретиться.
– О, хорошо, – сказала Люси.
– Вы не слышали про такого – Аристида Фонтено? – спросил Дуэйн. – Лучший скульптор в Нью-Йорке. Мой друг. Я уверен, он захочет сделать статую вашего лица.
Люси вдохнула, намереваясь что-то сказать, но вместо этого подозвала официанта и попросила еще водки.
– Он ваш муж, – сказал Дуэйн, кивнув на уборную.
– Да, – сказала Люси.
– А ведет себя не так.
– Не понимаю, с какого бока это вас касается.
– Позвольте мне вот что сказать, – произнес Дуэйн с пьяненькой ухмылкой. – Если бы у меня была кто-нибудь такая симпатичная, как вы, я бы так себя вел, пока ничего не осталось бы.
Люси закрыла глаза и засмеялась, Дуэйн тоже засмеялся.
– Вы мне нравитесь, Дуэйн, – сказала она. – Пойдем в укромное помещение, – она хлопнула ладонью по столу. – Как думаете, у них тут есть укромное помещение?
– Люси, перестань, пожалуйста, – сказал я.
Отец вышел из туалета и двинулся к нам.
Люси закрыла половину лица ладонью и посмотрела на Дуэйна поврежденным глазом.
– А что? – сказала она. – Так он даже приятно выглядит.
– Поговорите со мной, Дуэйн, – сказала Люси, когда весь хлеб был съеден, и беседа увяла, и атмосфера установилась такая, будто незнакомые случайно оказались за одним столом в круизе. – Вы этим зарабатываете на жизнь? Играете на деньги в парке?
– Наверное. Если это можно назвать жизнью.
– А вы как называете, Дуэйн? – спросила она.
– Ну, игра – это наркозависимость с прибылью. В душе я музыкант.
Я спросил Дуэйна, какую музыку он играет, но раньше, чем он успел ответить, отец сдвинулся вперед на стуле и закхекал на полной громкости, как рассерженный мотор на холостых оборотах.
– Так, Уэйн, – хрипло сказал он.
– Да, Роджер?
Отец не ответил. Он молча шевелил губами, и я понял, что сказать ему нечего. Он просто не хотел, чтобы Люси и я говорили с Дуэйном – очевидно, считая его своим личным другом и не желая ни с кем делить. Я помнил о его всевдашней любви к незнакомцам и все-таки был озадачен внезапной страстью к жуку. Хотя, возможно, дело было вот в чем: он понимал, что отдаляется от меня и Люси. Он переживал это как страшное унижение и мог чувствовать себя свободно только с тем, с кем у него не было общего прошлого, которое надо забыть.
Мы наблюдали за тем, как он открывает и закрывает рот, потупясь, опустив плечи.
– Пол Морфи, – сказал он наконец, – партия в Парижской опере. Черные избрали защиту Филидора, я прав?
– Не могу знать, друг мой, – сказал Дуэйн.
Отец разочарованно поджал губы.
– Официант! – позвал он, гремя ледышками в стакане. – Здесь ситуация засухи.
– Папа, может быть, остановимся? – сказал я.
– Может быть, поцелуешь меня в жопу?
– В ответ на ваш вопрос, Берт, я духовик, – сказал Дуэйн, изобразив в воздухе каскад саксофонных рифов. Движение пальцев выглядело вполне профессионально. – И пою тоже. Вам знакомы записи Кенни Логгинса?
– Вы играли с Кенни Логгинсом? – удивилась Люси.
– Играл во время европейского турне. И мы с моей женой обогащали выступления его группы красивейшим бэк-вокалом. Посетили важнейшие города, останавливались в классных отелях, летали лучшими авиакомпаниями – «Куантас», «Вирджин Атлантик». Рад, что вы об этом заговорили. Это был счастливый отрезок жизни.
– Вы и сейчас женаты, Дуэйн? – спросила Люси.
– Хватит обо мне, – сказал Дуэйн, – на меня это удручающе действует.
– Ты тоже пел, Роджер, – сказала она. – Я уж и забыла, когда.
– Я пел? – сказал отец.
– Да, пел. По утрам. Часто пел по утрам.
Отец обеими руками схватил солонку и задумчиво провел ногтем большого пальца по дырчатой стеклянной головке.
– Что я пел? – спросил он, не поднимая глаз.
– Сэма Кука. Элвиса. Иногда Леонарда Коэна. У тебя неплохо получалась «Бархатная лягушка».
Отец посмотрел на нее, и я увидел, как мышцы вокруг его глаз на миг напряглись, а потом распустились.
– У тебя каша в голове, – сказал он.
Люси тоже на него посмотрела, потом повернулась к Дуэйну.
– А вы, Дуэйн? Может, вы споете? Спойте мне.
– Прямо здесь?
– Да. Спойте мне прямо здесь.
Дуэйн стал напевать коротенькую увертюру, и уже в этом гудении без слов слышно было мастерство – хрипловатый поставленный баритон шел свободно из глубины груди. Пара за соседним столом готова была разозлиться; они посмотрели на Дуэйна, но сдержались в нерешительности, подумав, вероятно, что он может быть знаменитостью, которой изменила удача на закате карьеры. А потом Дуэйн запел – я никогда не слышал этой старой песни. Пел он удивительно. Голос вольно гулял около мелодической линии, иногда улетая в фальцет. Он пел одновременно разными голосами – разудалый паровой орган. Вел яркий щегольской тенор, из-под него вступал громоздкий, мелодичный бас и вдруг выскакивало сопрано с безумными фиоритурами.
Удивительно было видеть, с каким удовольствием слушает его Люси. Она наклонила голову к плечу; на шее выступила красивая жилка. Лицо ее помолодело от застенчивой радости. Горло мне забило песком – я увидел в жене отца ту, кого вожделел много лет назад.
Только отец не разделял общей радости. Челюсти его свел обычный тик. Он сжал нож с такой силой, что побелели костяшки, и я испугался, что он разобьет им тарелку. Но как раз тут Дуэйн закончил торжественной фанфарой. Люси зааплодировала первой. Дуэйн повел ящеричными глазками из стороны в сторону.
– Обычная компенсация за выступление такого формата – пять долларов.
Люси рассмеялась.
– Я дам вам пять долларов, но до этого вы должны спеть мне еще одну песню.
Дуэйн пожал плечами.
– Вы ценовую политику человека втаптываете в грязь, но ладно. Попробуем.
– Хватит! – рявкнул отец. Он раздраженно водил взглядом по столу, словно что-то не туда положил и оно пряталось где-то на самом виду. – Хватит песен! Это ресторан, черт возьми, и, кстати, может мне кто-нибудь сказать, куда, к дьяволу, делась телятина?
– Замолчи, – сказала ему Люси. – Ты можешь заткнуться, Роджер? Хотя бы один раз?
У отца раздулись ноздри, и лицо исказила глумливо-презрительная гримаса. Приставив ладонь ко рту, он повернулся к Дуэйну.
– Я не знаю, кто эта женщина, – произнес он так громко, что услышали все в зале, – и не знаю, почему она со мной в моем доме. Но буду с вами откровенен. Думаю, я не прочь ее поиметь.








